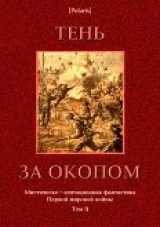
Текст книги "Тень за окопом
(Мистическо-агитационная фантастика Первой мировой войны. Том II)"
Автор книги: Коллектив авторов
Соавторы: Михаил Фоменко
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
Борис Лазаревский
ЧАСЫ

Посвящаю А.И. Куприну
Из кольца, которое мне подарила мама, выпал камешек – хризолит, но, к счастью, не потерялся. Я вспомнила об этом, когда мы шли с Андреем по Невскому, и попросила его на минутку зайти в небольшой ювелирный магазинчик. Мы спустились по ступенькам вниз. За прилавком стоял рыжеватый еврей с худым испитым лицом и голубыми глазами. Он что-то писал на бумажке и, услышав звонок, радостно поднял голову, – вероятно, здесь давно не было покупателей.
Я вынула из портмоне кольцо и завернутый в папиросную бумагу хризолитик и начала объяснять, что нужно сделать. Андрей нагнулся над стеклянным ящиком и, прищуриваясь, рассматривал лежавшие в нем часы всевозможных величин.
Когда я кончила свой разговор с владельцем магазинчика, Андрюша сказал:
– Посмотри, какие симпатичные браслетные часы, вот эти никелевые, видишь, дамские и мужские, и ремешки на них точно кавалерийская подпруга в миниатюре.
Он поглядел на еврея и спросил, сколько стоят эти часы. В этот день Андрей получил довольно крупный для помощника присяжного поверенного гонорар и был склонен покупать все, нужное и ненужное.
– Ну, зачем тебе часы? У тебя же есть золотые, – произнесла я с легким укором.
– Не люблю я золотых, и ты сама хорошо знаешь, что они вечно находятся в ломбарде, – а этих уже никто не возьмет…
Хозяин магазина завертел головой, засуматошился, и быстро и ловко вынул и мужские и дамские часы. За мужские он спросил восемнадцать рублей, а за дамские пятнадцать. Андрей подумал и помолчал.
– Ну-с, а двадцать пять рублей за те и другие желаете?
– Избави меня Бог, невозможно… Только для вас, потому я вижу, что вы хорошие господа, я мог бы уступить эти часы, – пару за тридцать рублей.
Я ожидала, что Андрей будет торговаться, но он молча вынул из бумажника три десятирублевки и бросил их на стекло, затем взял маленькие часы и сам надел их мне на левую руку, а я надела ему мужские. Когда мы вышли на улицу, Андрюша сказал:
– Ну, вот это и будет наше обручение…
Я ничего не ответила. Было приятно слышать эти слова и немного страшновато, уж очень я любила свободу, и всякий намек на принадлежность кому-нибудь или чему-нибудь всегда царапал мое сердце. Однако, мне захотелось взять Андрея под руку, хотя мы шли от самого Адмиралтейства просто рядом.
Затем Андрей, не спрашивая меня, зашел в магазин Бормана и купил мятной карамели, которую я очень люблю.
Мы решили пообедать вместе. Взяли извозчика и поехали в мой любимый ресторан, может быть, потому, что бывала в нем всего три-четыре раза.
В общем зале народа было немного, и мы великолепно устроились за столиком у окна. Закусили салатом из омаров и оба пришли в отличное расположение духа.
– Ты знаешь, – сказал Андрей, – я совершенно искренне сказал, что это было наше обручение, не кольцами, а часами. Бог его знает, окончишь ли ты когда-нибудь свои курсы и повенчаемся ли мы, но фактически ты моя жена уже три года, самый близкий человек и, как я тебя мысленно называю, любимейшая из любимых.
Он проглотил несколько ложек супа и, нежно глядя, продолжал:
– Вот, с твоей точки зрения, часы – это только часы… Ты знаешь, я немного мистик и, по-моему, эта вещь нечто почти живое. Когда я отбывал воинскую повинность в Одессе, то в свободное время терпеть не мог гулять по большим улицам, а всегда уходил к морю, на Ланжерон. Здесь возле народных купален было место, где кончался порт и начинался открытый берег, сплошь занятый убогими, сколоченными из досок, рыбачьими жилищами, – их даже нельзя назвать домиками. В будний осенний день здесь можно было встретить только или так называемых босяков или рыбаков-греков, правда, давно обрусевших, – и хохлов. Все они жили дружно, иногда голодали, а иногда зарабатывали так, что на душу приходилось рублей по пятьдесят. И тогда начиналось пьянство и кончалось оно в большинстве случаев ссорами, во время которых самая отборная, самая, так сказать, художественная брань висела в воздухе. Ругаться разрешалось, как угодно, и даже считалось признаком хорошего тона и талантливости, но строго-настрого местный обычай запрещал в такое время упоминать имя Николая Угодника и затем слово «часы». Последнее обстоятельство меня очень заинтересовало, и однажды, катаясь по морю с моим другом, лодочником Мавриди, я спросил его: почему часы считаются священным словом. Мавриди был умный, полуинтеллигентный грек и объяснил мне, что, зная, который час, каким-то способом можно вполне определить, находясь в открытом море, где восток, а где запад, и что часы не раз спасали многих рыбаков, так же, как и молитва Николаю Угоднику, икона которого есть на каждой шлюпке. И добавил еще Мавриди, что часы, которые человек долго носит, «знают и чувствуют своего хозяина», но в чем именно это выражается, грек не сумел мне рассказать, мотал головой, щелкал языком и только повторял: «это верно, это верно, уж я тебе не солгу, только не нужно об этом говорить».
Больше ничего я не сумел от него добиться. Возвращаясь с Ланжерона в казармы, я вспомнил, как однажды, еще во время студенчества, одна англичанка, которую мы называли просто miss, считавшаяся истеричкой и ясновидящей, взяла в руку мои часы, очень побледнела и минут через пять пробормотала: «вижу большое сражение… лежат окровавленные люди и лежит»… она назвала мое имя.
Естественница по образованию, я всегда подтрунивала над различными «верованиями» Андрея, но в этот раз мне стало неприятно. Я заставила себя улыбнуться и спросила:
– Ну, и что ж, исполнилось ее предсказание хоть отчасти?
– Конечно, нет, да и не могло исполниться, во-первых, потому, что я окончил университет и начал отбывать воинскую повинность уже после Японской войны, во-вторых, теперь я прапорщик запаса, и, вероятно, пройдут целые десятилетия, пока меня потребуют, а вернее, и никогда не потребуют, да и какой из меня военный, я уже так слился с адвокатским сословием и со своим делом, которое очень люблю.
После обеда мы поехали на остров и здесь в моей крохотной комнатке были счастливы до трех часов ночи, пили чай, ели фрукты, разговаривали о современном браке и о положении женщины вообще, и я убедилась, что даже самый чуткий и любящий мужчина никогда не поймет женской души. Андрей, например, интеллигентный и либеральный человек, горячо доказывал, что счастье женщины не в свободе, а в полном подчинении близкому человеку, и что те женщины, которые чувствуют себя рабынями, переживают во много раз больше сладких моментов, чем меняющие возлюбленных и рвущиеся к полной самостоятельности…

Такие речи я прощала Андрею только потому, что они были абсолютно искренними и потому что он был Андрей.
Моя старушка-мать, узнав о нашей близости и о том, что я не хочу венчаться, пока не получу диплома, заплакала. Старшая замужняя сестра назвала меня нехорошим словом и теперь не переписывалась, а младший брат Сережа, гимназист седьмого класса, не хотел этому верить совсем. Вообще, с родными мне пришлось почти порвать, потому что никто из них не мог уяснить: почему я и Андрей, любя друг друга, живем на разных квартирах.
В своих письмах мама старалась убедить меня, что Андрей «подлец» и не хочет поселиться вместе, чтобы товарищи, присяжные поверенные, не презирали его за это. Но все это было не так, и жили мы врозь потому, что хотели сохранить ту поэзию, которая нас соединила, на возможно долгое время.
* * *
Несмотря ни на что, я крепко любила своих родных и тот маленький уездный город, в котором они жили и где я окончила гимназию. Праздники Рождества и Светлого Воскресения и каникулы я всегда проводила возле мамы. Спорили и спорили и все-таки любили друг друга. Часто мама проклинала тот день и час, когда меня отпустила на курсы, сожалела о том, что я не вышла замуж за делавшего мне предложение после окончания гимназии околоточного надзирателя и ругала Андрея; однажды даже пыталась прочесть его письмо, но почерк Андрея – это нечто невообразимое, мама заподозрила, что он пишет на каком-то иностранном языке, не то по-итальянски, не то по-французски.
Мы жили на краю города, и гости у нас бывали редко, заходил только женатый студент Порохов, высокий, сильный и красивый; часто объяснялся мне в любви и жаловался на свою несчастную жизнь, но меня эти жалобы не трогали. Женился он на хорошенькой белошвейке, против воли родных, а затем ему стало скучно. Жена Порохова Любочка несколько раз передавала мне окольными путями, что плеснет в лицо серной кислотой и мне и мужу, если встретит нас вместе. Я этого не боялась. Была еще у меня подруга – ученица, девочка четырнадцати лет Аня Беляева. Она тоже мечтала о курсах, но родители ее хотели взять Аню из пятого класса и сделать из нее помощницу по хозяйству.
Нервная, худенькая, как спичка, Аня жалась ко мне и без слов просила защиты. Она часто видела фантастические и в то же время реальные сны.
В этом году, когда я приехала домой, мама встретила меня очень ласково, не понравились только ей мои часы на руке, подаренные Андреем, она нашла, что девушке это не «подобает». Скорее чутьем, узнала милая Анечка о том, что я в городе, и в первый же вечер прибежала к нам. Перецеловала мои глаза, губы и даже руки и быстро заговорила:
– А я вас сегодня видела во сне, да еще как.
– А как? – спросила я.
– Будто вы венчаетесь.
– С кем?
– А такой господин… – И Аня очень подробно и очень верно описала наружность Андрея и закончила: – а только страшный этот сон был, ужас какой страшный, хотя для меня приятный, я была вашей дружкой и вы мне сказали, что с этого времени мы никогда уже не расстанемся и что вы будете учительницей, а меня отдадите на медицинские курсы…
– Но почему же страшный? – спросила я.
– А потому, что когда священник начал перевязывать руки вам и вашему жениху, на материи этой я увидела кровь.
– Пустяки, – ответила я, – просто ты думала о том, что я могу скоро приехать и, вероятно, думала, что, может быть, я уже окончила курсы и вышла замуж, а портрет моего жениха ты видела в моей комнате на письменном столе и оттого так верно его и описала.
Аня только пожала своими острыми плечиками и виновато улыбнулась. Затем пришел Порохов, как всегда трагически вздыхающий, и помешал нашей искренности.
Я отложила два экзамена на осень, и в это лето нужно было много заниматься. Май и июнь прошли незаметно. Единственным удовольствием было купанье. Однажды я заметила, когда мы с Аней входили в воду, что Порохов за нами подсматривает, и когда он пришел к вечернему чаю, не подала ему руки и объявила, что больше с ним незнакома.
Он заплакал, точно маленький, и ушел. Дня через три или четыре я, не знаю почему, проснулась ночью, поглядела на свои часы и увидела, что они остановились, показывая двадцать минут третьего. Это меня удивило; я хорошо помнила, что завела их с вечера, на всякий случай опять сделала несколько оборотов, и они зачикали монотонную песенку своей механической жизни.
Утром пришла с базара наша кухарка Варвара и с плачем рассказала, что сегодня ночью Порохов застрелился. Я остолбенела и не хотела верить, но через пять минут прибежала Анечка и подтвердила то же самое.
Протянулась ужаснейшая неделя. Совесть меня не мучила, но было слишком тяжело думать, что, может быть, я причина этой смерти. Хотелось пойти и поглядеть на лицо человека, любившего меня. Мне передала Варвара, чтобы я остерегалась, потому что вдова Порохова обещала меня убить. Мама буквально заперла меня в комнату и не позволяла ни с кем видеться, кроме Ани. Я написала длинное письмо Андрею и просила его утешить меня и разрешить мои сомнения. Послала его заказным и стало как будто легче. Затем я узнала, что вдова Порохова уехала далеко к своим родным и опять, как прежде, я стала выходить на улицу спокойно и купаться с Аней в реке.
От Андрея получилось длинное, прекрасное письмо, в котором он не винил меня ни в чем и называл Порохова психопатом, умолял приехать к нему на дачу в Финляндию и повенчаться. Не понравилось мне, что Андрей назвал психопатом покойного. Уехать я могла, но знала, что тогда мои два экзамена были бы отложены надолго, и ограничилась тем, что, в свою очередь, написала Андрею большое письмо, написала также и о том, – как ни с того, ни с сего остановились мои часы, и оказалось, что в это самое время и застрелился бедный Порохов.
Аня потряхивала головкой и таинственно шептала:
– Так вот почему я видела во сне кровь…
Но… дальше я сама поняла почему, и не только поняла, а и поверила…
В самый разгар июльской жары, когда только можно было дышать, сидя по горло в воде, а дома ходить в одном, надетом на голое тело, капоте, совсем неожиданно для нас, провинциалов, не читающих газет, загорелась война, и также неожиданно пришло письмо от Андрея о том, что он призван, и вся жизнь и все планы на будущее – круто изменились.
Мы с мамой начали шить белье, помогала и Анечка. И в это время случалось, что в течение двух или трех часов не произносили ни одного слова. Только по вечерам мы по-прежнему беседовали с Аней. Четырнадцатилетнее дитя призналось мне, что любит выгнанного из седьмого класса реального училища Колю Остроухова, который записался вольноопределяющимся и тоже уехал на войну. С этого момента милая девочка стала мне как будто еще ближе. Мы вместе ожидали писем, она просила своего Колю писать на мое имя, но в течение целого месяца получили только две открытки. Андрей писал очень коротко и заканчивал фразой: «Береги часы».
Иногда я завидовала Ане, ее способности – видеть во сне многое, хотя теперь она далеко не обо всех своих сновидениях рассказывала мне.
Разлуку она переносила гораздо бодрее, чем я и, случалось, говорила:
– Я знаю, его не убьют, и вернется он офицером…
Об Андрее она ничего не говорила, но безумно обрадовалась за меня, когда я, наконец, получила большое закрытое письмо. Обе мы посылали в действующую армию: папиросы, шоколад и носки. С каждым днем я убеждалась, что Аня действительно любит своего Колю; это меня удивляло и трогало. Мама умоляла меня в этом полугодии совсем не ездить в Петроград, ей казалось, что над городом будут летать цеппелины и бросать сверху бомбы, из которых какая-нибудь может попасть в меня.
Мысль приехать и не увидеть Андрея была тяжкой, и я сама не настаивала.
Самым тяжелым было читать перечень раненых и убитых. Прежде я никогда не думала о немцах, а если и думала, то считала их очень учеными и миролюбивыми. Я понимала, что война – это война, но не могла понять того, что делали немцы в Бельгии. Не могла понять цели разрушения такой красоты, как Реймский собор. И вся Германия теперь представлялась мне в виде огромного пьяного мужика, от которого разит пивом, вдруг обезумевшего, ворвавшегося в чистенькую квартиру большого художника и с бешенством уничтожающего картины и статуи, все то прекрасное, в чем он никогда не понимал толка и не мог понять своей особой головой, привыкшей только думать о чисто практических, низменных вопросах: как удвоить число производимых кирпичей, как сделать пушку, которая одним выстрелом могла бы уничтожить сотни людей… Особенно непонятно было разрушение Лувенской библиотеки. После Андрея на этом свете я любила больше всего книги.
«Бедные книги и редкие рукописи, за что погибли они?» – думала я.
В это лето я была свободна, как птица, и несчастна безгранично. Иногда вспоминались слова Андрея о том, как ошибаются те женщины, которые думают, что их счастье в свободе. Каждый следующий день тянулся медленнее. Вечера стали длинными и холодными. Почти целый месяц не было ни одного письма, только в конце сентября – одна открытка, торопливая, написанная карандашом. Нехорошие предчувствия давили днем и ночью. Если бы не милая Аня, я бы, вероятно, психически заболела.
Прежде сон меня успокаивал и давал силы, а теперь я просыпалась через каждые два-три часа и глядела на часы, иногда целовала их. Мне бывало легче, когда у нас ночевала Аня. Проснусь и слышу ее нежное дыхание и успокоюсь.
Третьего октября мне было особенно тяжело, и я упросила Аню не уходить на ночь, но за ней прислали из дома, и ничего нельзя было поделать. Я хотела уйти в мамину спальню, но постеснялась сказать, что мне одной бывает страшно.
Я проводила до угла улицы Аню.
Звездная, последняя, неожиданно теплая, совсем не похожая на октябрьскую, ночь ласково прикрыла наш маленький городок. Стучал в колотушку возле собора сторож. Мы не встретили ни одного человека. Анечка была особенно нежна и ласкалась ко мне.
Попрощались мы как будто перед моим отъездом на курсы, чуть не плакали обе. Я в последний раз поцеловала ее и зашагала обратно. Мысль – встретить какого-нибудь хулигана – не пугала меня, но я почти побежала, чтобы скорей услышать мамин голос.
Стараясь овладеть собой, я на ночь умылась и раздевалась нарочно как можно медленнее и спокойнее. Когда легла, то не повесила часы на стенке, как это делала всегда, а положила их на столике рядом, попробовала почитать газету, потом бросила ее и потушила свечку.
Я несколько раз перекрестилась, отвернулась к стенке и закрыла глаза. Против ожидания, я сейчас же и заснула, и мне далее не приснилось ничего особенно страшного: сначала мимо ехали всадники, бодрые и лихие, затем загромыхала артиллерия.
Помню, как блеснула обнаженная шашка офицера и ясно услышала голос, крикнувший: «С передков». Я ждала, что вот-вот начнется сражение, и не только не испугалась, но даже заинтересовалась необычайным для меня зрелищем. Засуетились люди, пушки повернулись дулами в противоположную сторону, лошади с зарядными ящиками отъехали. Совсем ясно возле одного из орудий я увидела Андрея и бросилась к нему.
В эту минуту раздался такой взрыв, от которого стало больно не только ушам, но и всему организму.

Я проснулась и села на кровати, ощупью стала искать спичек, не могла их найти. Вскочила и босиком пробежала к маме, схватила с киота коробочку и, задыхаясь, вернулась к себе, чиркнула спичкой и увидела, что и спички, и чугунный подсвечник, и часы валяются на полу возле кровати.
Вероятно, я сама свалила их во сне, когда мне показалось, что я бегу к Андрею, а стук чугунного подсвечника обратился в целый взрыв. Я подняла и зажгла свечу и с ужасом увидела, что стекло на часах разбилось вдребезги, и они остановились на половине второго.
Целый день я старалась привести в порядок свои мысли и нервы. Пришлось принять очень много брома. К вечеру отупела. Затем мне стало как-то уже все все равно. Почему-то не хотелось отдать часы в починку, и я не сказала ни маме, ни даже Ане о том, что они разбились.
Ровно через две недели я прочла в списке убитых имя и фамилию Андрея, выронила из рук газету, не знала, что мне делать.
Но жить осталась.
Не скоро, но я узнала наверное от одного из раненых, привезенных в наш город, что Андрей погиб в ту самую ночь, и я не сомневалась, что случилось это ровно в половине второго.

Рюрик Ивнев
ЕКАТЕРИНИНСКИЕ ЧАСЫ
1
Прощаясь со своей женой, Алексей Павлович сказал:
– Я бы очень просил тебя забыть все басни о часах. Все, что мы вычитали в дневнике бабушки, очень интересно с точки зрения исторической, как показатель того мистического настроения, которым были охвачены высшие круги Петербурга, но придавать этому дневнику особенное значение было бы наивно и смешно.
Этими часами я очень дорожу, иначе я бы их выбросил, чтобы ты не волновалась так сильно. Во всем виноват Крундышев. Он так заразительно смеялся, когда, разбирая бумаги, я прочел ему несколько страниц из пожелтевшей старенькой бабушкиной тетради, в которой повествуется о загадочных свойствах этих часов, что я сейчас же поделился с тобой своей находкой.
Мы с Крундышевым выступаем вместе и в дни, когда я не смогу тебе писать, он будет сообщать тебе обо мне. Не грусти же и не думай о мрачном.
Старые екатерининские часы, о которых говорил Алексей Павлович, собираясь на войну, висели в столовой и с ними были связаны необычайные легенды, о которых повествовала в своем дневнике бабушка Алексея Павловича, Анастасия Филипповна Лещеева.
Вот что было записано в этом дневнике:
13-го декабря 1802 г. с. Прохладное.
Со слов покойного мужа моего записываю историю часов, находящихся в роде Лещеевых без малого сто лет.
Муж мой, генерал-майор Дмитрий Васильевич Лещеев, перед смертью рассказал мне, как были его прадеду, отставному поручику Александру Лещееву подарены эти часы блаженной памяти императрицей Екатериной Второй. В ту пору семья только что вышедшего в отставку поручика Лещеева жила около Москвы и чуть не навлекла на себя справедливый гнев покойной императрицы, посетившей свою любимицу, Елисавету Афанасьевну Лещееву, рожденную княжну Рубецкую, в ее подмосковном имении. А виною этого гнева был юродивый Феофанушка, встретивший императрицу плачем и криком одержимого: Гости едут! Быть беде! Быть беде!.. Императрица, испуганная неожиданными выкриками, перепугалась, и потому была не в духе до той поры, пока не случилось событие, благодаря которому она изволила переменить свой гнев на милость. Перед самым обедом поручик Лещеев, сам пожелавший прислуживать своей матушке-царице, спас случайно ее величество от несчастия. Когда государыня подходила к предназначенному ей креслу, вдруг со стены во время звона упали столовые часы, и если бы не ловкость и находчивость поручика Лещеева, подхватившего их над самой головой государыни, то часы эти могли причинить ушиб ее величеству. Этот случай сразу изменил настроение государыни. Она засмеялась и, сказав: – Вот какую беду пророчил юродивый, – стала предлагать милостивые вопросы присутствующим и расспрашивать Лещеева про хозяйство. Прощаясь, благодарила за гостеприимство и сказала, улыбаясь:
– Из Петербурга пришлю вам подарок в ознаменование моего спасения…
Через две недели с нарочным была прислана государыней посылка. В посылке оказались чудные столовые часы с музыкой. Но когда эти часы были водружены в столовую, обнаружилось, что музыка испорчена, часы же шли исправно.
Нарочный рассказал, что у ворот его встретил юродивый и так плакал и выл, что лошадь, испугавшись, шарахнулась в сторону. Может быть, от этого сотрясения и испортилась музыка. Все Лещеевы были немало огорчены этим неприятным приключением, но Елисавета Афанасьевна очень просила ни слова не говорить государыне об испортившейся музыке часов и благодарила в пространном послании свою царственную благодетельницу. Эти часы сделались какими-то загадочными, точно они имели свою тайну и свято ее хранили. В них не было ничего особенного, но все чувствовали какую-то робость, когда прислушивались к их ровному, спокойному ходу. Точно они были живым понимающим существом, которое вечно молчало, но все слушало и понимало. Феофанушка же прямо видеть не мог этих часов. С ним делался всякий раз припадок. Он визжал, выл и, ударяя себя в грудь, заливался слезами. И, действительно, в скором времени случилось событие, которое оправдало все неясные предчувствия и смутную боязнь этих часов всеми обитателями лещеевского дома. Перед самой смертью Александра Лещеева часы вдруг заиграли… И так жалобно, что у всех защемило сердце. Это было во время болезни Лешеева. Через несколько минут он умер.
Елисавета Афанасьевна рассказывала детям, что эта музыка в ее ушах звучала очень долго еще после смерти мужа.
В следующие после смерти Александра Лещеева годы часы шли хорошо, но музыка не играла. Дети: Владимир. Алексей, Павел и Мария уже начали думать, что музыка часов им послышалась перед смертью их отца и одна Елисавета Афанасьевна продолжала утверждать, что часы играли. Вероятно, никто бы не поверил, и об этой истории все бы забыли, тем более, что когда застрелился Павел Александрович – никто не слышал жалобной музыки. Но через двадцать лет часы заиграли снова. На этот раз они заиграли за несколько минут до смерти старшего сына Лещеева – Владимира Александровича.
После этого в семье Лещеевых начали усиленно говорить об этих загадочных часах и об их изумительном свойстве играть в минуты смерти старшего в роде Лещеевых. Действительно, не было случая, чтобы часы ошиблись. Они, точно живое и многознающее существо, предрекали своим жалобным звоном последние минуты жизни обреченного.
Глафира Ивановна Лещеева (бабушка Дмитрия Васильевича) хотела снять со стены эти ужасные «каркающие», как она говорила, часы. Но муж ее не особенно верил в это предание. Он воспротивился, говоря:
– Лучше узнать заранее о своей смерти. В эти несколько минут, который мне останутся жить, я смогу напоследок хлебнуть бокал вина и с этим благородным спутником отправиться к праотцам.
Глафира Ивановна потом рассказывала, что когда ее муж был в севастопольской кампании, то за два дня до того, как она узнала о его смерти, часы заиграли, но как-то отдаленно, неясно. Она даже не поняла, в чем <дело, и стала>[9]9
…<дело, и стала> – Пропуск в оригинальной публикации, восстановлен по смыслу.
[Закрыть] ждать дурных вестей. Действительно, он был убит в этот день, как оказалось после.
Алексей Павлович смеялся над суеверием своих предков, но все же какое-то неясное чувство щемило его сердце, когда он прощался со своей молодой женой Ольгой Константиновной Лещеевой. В глубине души он очень раскаивался, что рассказал жене об этом предании их рода и что показал ей дневник бабушки.
2
Была очень ненастная пора. Усадьба Лещеевых одиноко стояла среди огромного сада. Качались от ветра сухие и высокие деревья. Падал снег и таял. Ольга Константиновна сидела в столовой за чаем. Сегодня она была одна. Ее компаньонка, мисс Плигвис, уехала на целый день в город. Ольга Константиновна досадовала, что она осталась одна сегодня, в этот ненастный и жуткий вечер. Она куталась в оренбургский платок и смотрела грустными глазами в окно. В сумерках все предметы были причудливыми и странными. Вдруг какое-то странное состояние овладело ее душой. Она встала и быстро прошла по комнате, точно ища чего-то. Ее взгляд упал на календарь. Почему-то красная страница поразила ее. Сегодня что? Ах, да, сегодня воскресенье…
Точно огонь горит эта красная страница календаря. Красные цифры и буквы: Сентябрь. 15. Воскресенье.
Ольга Константиновна подошла к окну. Прикоснулась лбом к холодному стеклу. И вдруг сквозь темноту она увидела что-то блестящее, яркое, точно блеск сабли.
– Господи, до чего я нервной стала, – пробовала себя успокоить.
И вдруг в разыгравшемся воображении промелькнула фигура Алексея, его тусклая сабля, страшное лицо чужого всадника, вот оно склоняется близко, совсем близко к милому лицу Алексея. Вот в чужой руке мелькает что-то страшное, неумолимое, острое. Господи! Помоги!.. Может быть, он сейчас умирает там…
Сейчас должны заиграть часы – молнией пронеслось в ее мозгу.
И вдруг Ольга Константиновна быстро, точно опасаясь какой-то неминуемой опасности, кинулась к столу, стала на него и сорвала со всей силы старинные екатерининские часы.
Раздался страшный звон. Разбитые часы упали на пол.
Ольга Константиновна, затаив дыхание, стояла, боясь пошевельнуться, и вдруг она ясно услышала протяжный, грустный, неумолимый звон, грустную и больную музыку, исходящую из осколков разбитых часов. Ольга Константиновна почувствовала какую-то боль в сердце, острую, пронизывающую. Ей сделалось дурно.
3
В четверг, 19-го сентября, мисс Плигвис вошла в комнату Ольги Константиновны с распечатанной телеграммой в руках. Ольга Константиновна лежала на кровати заплаканная, бледная.
– Он убит? – тихо спросила она.
Мисс Плигвис подала ей телеграмму.
В ней было написано:
«Мисс Плигвис, передайте осторожно Ольге Константиновне, что Алексей зарублен 15 сентября, вечером, во время разведки на моих глазах саблей венгерца. Одно утешение – я отомстил. Венгерец пал от моей руки. Крундышев».



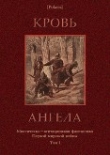
![Книга Шпионаж во время войны [сборник] автора Робер Букар](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-shpionazh-vo-vremya-voyny-sbornik-212070.jpg)



