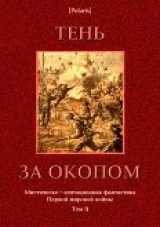
Текст книги "Тень за окопом
(Мистическо-агитационная фантастика Первой мировой войны. Том II)"
Автор книги: Коллектив авторов
Соавторы: Михаил Фоменко
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
Изумительное пророчество Гете

В бумагах великого поэта, среди тысяч набросков и отрывков начатых и задуманных произведений, найдены были следующие стоки – отрывок незаконченной поэмы «Сон Эпименида»:
«Да будет проклят тот германец, который, полный злокозненных замыслов и дерзновенной отваги, попытается возобновить дело Корсиканца! Рано или поздно он почувствует, что существует вечное право. Как бы велика ни была его мощь, как бы он ни напрягал свои усилия, его дело обернется гибелью для него и для его народа».
Легенда об Эпимениде гласит, что, проспав 100 лет, он проснулся на 101-м году своего чудесного сна.
Стихи эти, печатаемые в шестой серии «Ксений», помечены 1815 г…
100 лет сна… И громовое пробуждение на 101-м году…
Изумительное совпадение?
Для мистически настроенной души – поражающее пророчество…
Но как ни смотреть на это, – голос величайшего германского поэта, доносящийся из столетней дали с такими словами, с таким предсказанием, звучит с суровой поражающей, жуткой силой…
«Его дело оберется гибелью для него и его народа»…
Через 101 год…
В 1916 году…
Сергей Городецкий
ТАЙНАЯ ПРАВДА
1
Жадными глазами пробегая прибавление к вечерней газете, только что купленной на улице, Костя подымался по лестнице к квартире своих друзей, у которых жил.
В донесении штаба Главнокомандующего опять говорилось о мелких стычках, и Костя был этим разочарован. Он ждал гигантского боя и представлял себя его участником с той страстностью, с какой мечтают только о том, что никогда заведомо не сбудется.
Костя был хром и уйти на войну не мог. Ушел на войну его друг по гимназии и университету, с которым он с детских лет жил душа в душу, Витя. Соединяло их сходство характеров, взглядов, привычек, и столь тесно, что, когда Витя ушел, его мать, вдова, предложила Косте поселиться у них.
В минуты, когда особенно злая досада брала Костю на то, что он не на войне, – он логически утешал себя тем, что его ближайший друг воюет. Но душа его на этом не успокаивалась.
Душа его так же, как и Витина, гармонически соединяла в себе созерцательность с любовью к деятельности. Часами друзья могли предаваться беседам о том, что дала человеческая мудрость, но как только они во что-нибудь уверовали, у них являлась потребность делом доказать свою веру. Но тут часто мешала Косте хромота. Он в делах отставал от друга. Зато сильнее развивалась в нем душевная жизнь, как всегда это бывает у людей с физическим недостатком. Впервые резко почувствовал эту разницу Костя по окончании гимназии. Они тогда решили, что России нужнее всего железные дороги, и оба выдержали в институт путей сообщения. Но как только начались практические занятия, Костя отстал и должен был переменить профессию. Он поступил на филологический факультет и увлекся психологией. Показалось ему, что в этой зачаточной науке больше, чем в какой-либо иной, он найдет применения и созерцательной, и деятельной сторонам своей души.
Друзья виделись часто, и общая жизнь их, несмотря на различие ближайших интересов, опять начала налаживаться.
Но загорелась война, и Костя вторично – и на этот раз гораздо больней – почувствовал свою оторванность и от друга, который в первые же дни записался добровольцем, и от деятельной жизни, которая возникла в России с началом войны.
Было это ему тем мучительней, что никогда не представлялось и никогда в будущем не могло больше представиться такого яркого случая проявить согласованность веры с делом тем, кто ее, как Витя и Костя, имели.
Веровали Витя и Костя и до войны еще, что не во внешнем техническом прогрессе, достигнутом германской расой, просвечивает будущее Европы, а в глубинах славянского духа и в молодой русской культуре. Оттолковение славянства с германством встречено ими было радостно, и радостно готовы оба были бросить свои жизни на славянскую чашку бурно заколебавшихся весов мира.
Но исполнить это мог только Витя. Костя остался в бездействии и созерцании. Действием для него было только одно: взять ружье и идти. Правда, первое время он начал работу в комитетах, делал обходы, участвовал в кружечных сборах.
Но эти малые дела так непохожи была на те великие, о которых он мечтал, что он скоро оставил их.
Друзья переписывались, и связь между ними не прерывалась.
Временами подолгу не приходило писем от Вити. Тогда Костя вспоминал с тоской последнюю фразу, сказанную другом перед разлукой:
– Если я буду убит…
Конца не услышал Костя: тронулся поезд, поднялся шум, и тщетно хотел Костя хоть на лице друга прочесть конец его его мысли. Бледное лицо Вити улыбнулось и скрылось. Не то виноватое, не то обещающее было выражение этой улыбки, и Костя хорошо его запомнил.
2
Пробежав газету глазами, Костя позвонил довольно робко.
Было уже поздно, и ему было неловко возвращаться в чужой, все-таки, дом, когда все, вероятно, спят.
К удивлению его, в передней был огонь, и из гостиной доносились голоса.
– Костя, это вы? – спросила Витина мать, Марфа Николаевна, – какие новости? Входите сюда и рассказывайте.
Костя разделся и вошел в гостиную нехотя, потому что его тянуло к меланхолическому уединению. В гостиной он застал небольшое общество. Вокруг Марфы Николаевны сидели: доктор Красик, человек, несмотря на свою старость, с ярко-черными волосами и, несмотря на жизнь в городе, с сильно загоревшим лицом; Васса Петровна, дальняя Марфы Николаевны родственница, которую Костя терпеть не мог за один вид ее – подобострастной приживалки; и Пенкин, товарищ Вити по институту, фатоватый юноша, очень тщательно причесанный и слишком всегда почтительно целующий ручки Марфе Николаевне. Его Костя тоже не любил.
Костю заставили рассказать ночные новости с войны. Он вяло это исполнил и хотел уйти, но Марфа Николаевна остановила его:
– Посидите с нами. Мы интересные вещи обсуждаем. Послушайте, что начала рассказывать Васса Петровна! Только ты с начала начни, – обратилась она к ней.
Костя со вздохом опустился в указанное ему кресло, а Васса Петровна начала снова прерванный приходом Кости рассказ:
– Мать моя, – начала она с некрасивым жестом, как бы вынимая из себя слова, и срывающимся тоном, как будто ей никто и поверить не мог, что у нее была мать, – мать моя жила отдельно, и я сама отдельно. Ложусь я спать, надо сказать, поздно.
Она улыбнулась, как бы извиняясь, что рассказывает про себя, девушку, еще не сознавшую своей старости, такие подробности, и продолжала:
– Часу во втором ложусь. А все в том доме, где я жила, ложились рано, и никто уж к нам прийти не мог. Дверь, конечно, на запоре и на задвижке, и на цепочке. Все, повторяю, спят. И вдруг звонок.
Она привскочила на кресле и энергично дернула воздух, как дергают ручку звонка.
– Я к дверям. Спрашиваю: кто там? Слышу, что никого нет, да и быть не могло.
– Так это кто-нибудь пошалил, Васса Петровна, вот и все! – вскричал весело путеец Пенкин и обвел всех глазами, делая их страшными, – а вот я расскажу…
– Нет уж, дайте мне кончить! – обиженно сказала Васса Петровна, вся покрасневшая от удовольствия, что она в таком светском обществе рассказывает такую интересную историю из собственной жизни.
– Докончу, тогда и замолчу!
– Досказывай, досказывай! – поощрила ее Марфа Николаевна.
– На этой лестнице только наша квартира была, и входную дверь внизу мы сами запирали, – рассказывала Васса Петровна. – Никакой хулиган не мог забраться и позвонить. Это был не человеческий звонок!
Она сделала паузу и продолжала пониженным голосом:
– Не к добру это, подумала я и заснула. Утром просыпаюсь – телеграмма от сестры, что мать моя умерла. Еду к ней и узнаю, что как раз в том часу, когда быль звонок, она повесилась. Вот и говорите тут, что нет чудес!
Конец рассказа был неожиданным. Все молчали. Марфа Николаевна чувствовала некоторое неприличие в том, что ее близкой подруги мать умерла так вульгарно – повесилась!
– Теперь – ваш рассказ! – обратилась она к путейцу.
Пенкин, поклонившись ей, деланно-докладным тоном проговорил приготовленные слова:
– Мой случай занял бы в телепатии не первое место – где-нибудь рядом с случаем Вассы, если не ошибаюсь, Петровны. Случай следующий. Я сообщу его с краткостью документа. 13-го ноября девятьсот тринадцатого года – я помню эти числа, потому что цифры дня и года совпадают – умер мой дядя, с которым я виделся незадолго до его смерти. По записи сиделки, умер он половина пятого утра. Половина пятого утра я проснулся от того, что меня кто-то позвал громко, по уменьшительному имени, как меня звали в детстве. Вот и все. Час я заметил, взглянув на часы, висящие всегда ночью над кроватью. Явление, как видите, не очень сложное, но очень четкое.
Он кончил и, обведя всех глазами, остановился на докторе, внимательно его слушавшем.
– Очень интересно! – с таким видом, как будто съела конфету, поощрила Пенкина Марфа Николаевна. – Ну, что вы скажете на все это, доктор?
Доктор еще молчал.
Ненавидя молчание в своей гостиной сильней, чем природа в своем царстве пустоту, Марфа Николаевна обратилась к Косте, скучавшему, выдавая скуку за задумчивость, в своем кресле:
– Вы знаете, наш доктор – необыкновенный доктор. Он друг факиров.
– Вот как? – немного заинтересовываясь, поддержал разговор Костя.
– Да! И он может прокалывать себе горло и щеки простой шляпной булавкой.
– Ах, какой ужас! – взвизгнула Васса Петровна.
– Не визжи! – остановила ее Марфа Николаевна. – Кровь не идет при этом. Вы, кажется, хотите что-то сказать, доктор?
Каждое слово подавая, как повар вкусное блюдо, доктор сказал:
– Только одно, Марфа Николаевна! А именно: не удивляйтесь, но изучайте. Прежним людям все, что мы знаем теперь, как азбуку, показалось бы чертовщиной. Поэтому и мы не должны считать чудесами случаи, рассказанные господином Пенкиным и Вассой Петровной. Кое-что в этой области мы уже знаем. Телепатия уже наука. Подобно тому, как радий испускает безостановочно лучи, излучает какую-то энергию и ваш мозг. Мы только не умеем еще улавливать эти мозговые лучи. Только случайно, когда удачно слагается обстановка, мы их улавливаем. Но бессознательно мы и теперь кое-что подметили и употребляем в повседневной жизни. Мы любим картины великих художников. В них есть для нас притягательная сила. Должно быть, они хороши не только тем, что их краски красивы, но и тем, что на них наслоилась энергия, излученная мозгом и глазами художника. По тому же самому волную нас предметы старины и вещи великих людей. Все это еще не изучено. Но когда будет изучено, мы будем пользоваться лучами нашего мозга легче, чем почтой и телеграфом. Повторяю, нужно усовершенствовать восприемники, ибо отправители действуют с сотворения мира. Я думаю, что нынешняя война, когда психическая жизнь целых наций находится в повышенном возбужденном состоянии, даст много нового в области телепатии, даст много такого, перед чем рассказанные здесь случаи будут казаться детским лепетом. Я, по обыкновению, заговорился и произнес целую лекцию вместо одного слова. Я его повторю и им закончу: не удивляйтесь, но наблюдайте и изучайте, в мире много еще тайной правды, которую мы должны открыть. Засим, позвольте закурить.
– Пожалуйста! – сказала Марфа Николаевна, подвигая доктору пепельницу. – Вы удивительно интересно все объяснили!
– Не понимаю, – опять обижаясь, сказала Васса Петровна, – как это может мозговой луч за звонок дернуть?
– А вы наблюдали уже что-нибудь за время войны? Или, может быть, вам сообщали о каких-нибудь фактах? – спросил доктора Пенкин.
Доктор задумался, как бы скупясь рассказывать.
Костя был несколько растревожен рассказами доктора. Весь день сегодня был он в странной сосредоточенности. Не от того ли, что друг его думает о нем? Может быть, он сегодня в опасности? Но ведь большого боя нет. И потом вся эта телепатия вовсе еще не наука, как уверяет доктор. Просто это непроверенные факты. А странное состояние сегодня от усталости. Надо пойти к себе в комнату и лечь спать.
Костя встал и начал прощаться.
– Как, вы не хотите еще слушать доктора? – задержала его Марфа Николаевна.
– Я очень устал. Я извиняюсь, – ответил Костя и прошел к себе.
Доктор не хотел больше рассказывать, как его ни упрашивали.
3
Костя прошел в свою комнату, которая прежде была Витиной, быстро разделся и лег в кровать. Но уснуть не мог.
– Переутомился, – подумал он, – надо забыть про то, что пора спать, тогда сон придет.
Он встал, надел халат и сел за стол.
Стол стоял посреди комнаты, все в нем было, как при Вите, только прибавился портрет Вити в рамке георгиевских цветов.
Небольшая зеленая лампочка уютно освещала комнату. В углах гнездились мягкие, зыбкие тени.
«Наверно, – подумал Костя, – когда являются привидения, так они начинают в тенях, то есть мы сами хотим что-то увидеть в тенях и, наконец, видим. Но почему я думаю об этом? Все глупые рассказы и докторские фантазии. Нужно же поддерживать разговор в гостиной! Лучше бы о войне говорили».
Костя придвинул блокнот, начертил течение Бзуры и стал проектировать обходы. Ведь стратегу можно быть хромым, и сладкая надежда чудом попасть в какой-нибудь штаб и там удивить всех знанием стратегии и талантом к ней, не покидала Костю. Он углубился в чертежи.
Прошло, – никогда не знал он сам потом, – сколько времени, и вдруг он поднял глаза по неодолимому внутреннему велению.
Перед столом, в нескольких шагах перед ним, стоял Витя. Он не из теней сгустился, не от стены отделился, а вошел, как входит всякий человек, и, поднимая глаза, Костя, казалось, успел заметить последние его шаги перед тем, как он остановился.
Он был совсем такой, как на вокзале в минуту отъезда, такой же бледный и с той же не то извиняющейся, не то обещающей что-то улыбкой. Впрочем, ничего частного ни в одежде, ни в выражении Костя не заметил. Костя увидел и понял только одно, что перед ним стоит Витя.
И в ту же минуту он услышал два слова, сказанные Витей обычным голосом, как он всегда звучал в этой комнате:
– Я убит.
И больше не было его в комнате. Он ушел так же мгновенно, как вошел.
В тоске, более сильной, чем страх, выскочил Костя из-за стола, пробежал по комнате и коридору до столовой. Никого нигде не было. Гости давно ушли, и огонь везде был погашен. Из комнаты Марфы Николаевны шел узкий красный свет. Это она молилась под лампадами о сыне своем.
Первым движением Кости, когда он опомнился, было броситься в ней, но у него не хватило мужества. Все, что случилось, было слишком реально для того, чтобы Костя сам мог не поверить. Но матери сказать он не решился.
В тягчайших муках дождался он дня. Под пыткой ожидания стал он жить. От Вити по-прежнему пришло письмо, но было оно последним. Через несколько дней он был опубликован в списке без вести пропавших. А потом стали известны и подробности того, как он погиб на разведке, в ту ночь, когда привиделся Косте.
Даже глядя на траур и слезы Марфы Николаевны, Костя не сказал ей про то, что было. Тайна явления друга стала самым важным в его жизни. Он усиленно стал изучать душевную человеческую жизнь, чтобы ускорить будущее, когда откроется тайная правда.
Юрий Зубовский
ЧУДО
(Рассказ офицера)
Как это ни странно, но война научила меня верить в Бога и в Его великий промысел. На первый взгляд, казалось бы, должно было случиться совершенно обратное явление. Среди грохота орудий, среди крови и тысячи случайностей, из которых каждая грозит неминуемой смертью, даже искренне и глубоко верующий человек должен был бы потерять веру и решить, что его жизнь и смерть зависят исключительно от каприза судьбы. Но это не так. Именно на войне начинаешь ясно понимать, что существом человека управляет та непостижимая для нашего рассудка Сила, имя которой – Бог. И если в нашей будничной жизни мы не знаем чудес, то там, на войне, они совершаются перед нами постоянно, и если мы не замечаем их, то происходит это лишь потому, что мы слишком маловерны, что в наших душах – обыденных и скучных – нет веры даже в самую возможность чуда.
Вспоминая сражения, в которых мне пришлось участвовать, я часто думаю, почему люди, совершающие самые рискованные, геройские поступки, оставались целы и невредимы, а люди трусливые, осторожные и осмотрительные погибают от шальной пули и осколка случайно попавшего в них снаряда? Воля ваша, но назвать это простой случайностью нельзя. В этом есть высшее, может быть, недоступное нашему пониманию, предопределение. И, если бы такого предопределения не было, то я не говорил бы сейчас с вами, а покоился бы в братской могиле на опустошенных войною полях Галиции. Меня спасло чудо.
Я, как вам известно, был прапорщиком запаса, и в начале же войны был призван в ряды действующей армии. Пришлось оставить службу, попрощаться с женой, дочкой Наташей – ей восемь лет– и немедленно отправиться на место назначения.
Полк наш одним из первых перешел австрийскую границу и в первом же сражении потерял почти половину людей, но нанес противнику большой урон и заставил его отступить. При отступлении австрийцы жгли деревни, зверски расправлялись с ни в чем не повинными жителями, вымещая на них свою бессильную злобу, а мы быстро продвигались вперед, не давая неприятелю возможности оправиться и укрепиться на новых позициях.
Я скоро привык к своему новому положению и неудобствам походной жизни. О смерти думал меньше всего, может быть, просто потому, что не было времени думать и строго анализировать все события, а инстинктивный, безотчетный страх исчез сам собой.
Потрясла меня только смерть молоденького подпоручика Золотарева, которого я полюбил с первого знакомства, особенно потрясла потому, что Золотарев предчувствовал неминуемую смерть и говорил о ней, как о неизбежном факте, хотя и чувствовал, что жить ему хотелось страшно, и любил он жизнь, и дорожил ею.
Беспокоился я только о жене и дочери. Наташа – очень болезненная, чуткая, и мой отъезд сильно, глубоко взволновал ее.
В один из дней наш полк получил приказ выбить неприятеля из занятой им деревушки.
Дело предстояло очень серьезное, опасное; было ясно, что многие из нас сложат головы в этом бою, и в первый раз во все время я ощутил чувство, похожее на страх.
Тоскливо болело сердце, словно кто-то очень сильный медленно сжимал его твердой рукой, и в голове стучали острые маленькие молоточки.
Австрийцы оказали нам отчаянное сопротивление: мы уже приступом взяли деревню, но на улицах ее продолжался бой, неприятель стрелял из окон домов и с крыш.
Вокруг жужжали пули, как надоедливые комары, стонали раненые, умирающие и, чудилось, стонала сама земля.
Звенели разбиваемые стекла, во дворе жалобно и протяжно мычала запертая в сарай корова. Мычание ее – тягучее, нудное – почему-то особенно отчетливо врезалось мне в память.
Я был в самой гуще врагов, рубил, отдавал команду, которой, впрочем, уже никто не слушал, и в то же время чувствовал мучительный страх.
Наконец, оставшиеся в живых австрийцы, видя бесполезность сопротивления, побросали оружие и сдались в плен.
Бой кончился. На улицах деревушки валялись трупы и толпились сразу обессилевшие, усталые солдаты.
Меня давно мучила жажда, и я зашел в один из домов, надеясь найти в нем квас или воду.
Помню, отворил скрипучую, ветхую дверь и переступил порог… Было полутемно, хотя солнце еще не зашло.
Я зажег спичку и увидел, как навстречу мне из-за угла, где лежала всякая хозяйственная рухлядь, поднялся толстый австрийский солдат, держа ружье наперевес.
Может быть, потому, что его появление было для меня слишком неожиданным или по какой-нибудь другой причине, но вдруг я почувствовал, что тело мое потеряло способность двигаться.
Я застыл, как истукан, стоял и немигающими, остановившимися глазами смотрел на австрийца.
Он медленно приближался ко мне.
В это время в конце деревни вспыхнул пожар, его зарево озарило комнату, и я отчетливо увидел лицо врага. Оно было красное, с надувшимися на лбу жилами, с синеватыми отеками.
Ярко блеснул направленный на меня короткий штык его ружья.
Еще один момент и этот штык вошел бы в мое тело, но вдруг австриец покачнулся, вздрогнул и, глухо захрипев, выронил ружье и потом грузно рухнул на пол.
В этот момент я снова получил способность двигаться и наклонился к австрийцу. Он лежал без движения, и его сердце не билось.
Восторженная, незабываемая радость охватила все мое существо: я понял, что избежал великой, смертельной опасности, и остался и буду жить.
Отчего умер так внезапно хотевший меня заколоть австриец – я до сих пор не знаю. Спрашивал у нашего полкового врача, и он высказал два предположения: паралич сердца и апоплексический удар. Я думаю, что вернее – последнее, так как австриец был очень толст, и у него была короткая, бычья шея.
Уже много спустя, я получил письмо от жены, помеченное тем днем, когда произошел рассказанный мною случай. Прочитал, и для меня все стало ясно: я понял, почему я остался живым, почему ушел от неминуемой смерти. Жена писала:
«Сегодня Наташа весь день нервничала. После обеда я уснула, а когда на закате вошла в ее комнату, она стояла на коленях пред иконой и вслух молилась о тебе. Я даже запомнила слова ее молитвы: „Господи, спаси папочку! Господи, помоги, чтобы он остался живым и вернулся к нам. Я Тебя очень-очень прошу. Господи!“».
Вы понимаете, Наташа молилась на закате, молилась тогда, когда я подвергался смертельной опасности, когда неумолимая смерть уже занесла надо мной свою беспощадную руку.
И я понял: свершилось чудо. Бог услышал чистую молитву моей девочки, и спас ее папу.
Вы и теперь скажете, что это – случайность, случайное совпадение! Называйте, как хотите, а я верю, верю глубоко и непреклонно, что в тот день свершилось никем не узнанное, но великое и святое чудо.
И сколько таких чудес совершается теперь! Верьте, не одна наташина молитва услышана Богом, и не одна Наташа молится за тех, кто грудью своей защищает нашу родину от нашествия грозного и беспощадного врага.

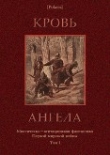

![Книга Шпионаж во время войны [сборник] автора Робер Букар](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-shpionazh-vo-vremya-voyny-sbornik-212070.jpg)




