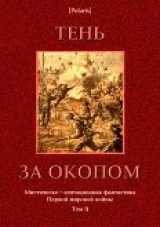
Текст книги "Тень за окопом
(Мистическо-агитационная фантастика Первой мировой войны. Том II)"
Автор книги: Коллектив авторов
Соавторы: Михаил Фоменко
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц)
ТЕНЬ ЗА ОКОПОМ
Мистическо-агитационная фантастика Первой мировой войны
Том II


Александр Грин
СПОКОЙНАЯ ДУША

Дух вечера, неторопливо овладев солнцем, прикрыл его низкими, воспламененными облаками, но солнце, временами пробивая слои красных паров, еще с час полосовало равнину приникшим к траве светом. Когда это кончилось, нерешительно блеснули первые звезды. Выразительный, жесткий стук выстрелов, разрывающий, не смолкая, тишину природы, напоминал треск огромного кузнечика страны Бробдиньягов[1]1
…страны Бробдинъягов – В более современном написании Бробдингнег (Brobdingnag), страна великанов в «Путешествиях Гулливера» (1726-7) Д. Свифта.
[Закрыть].
В траншее, в черном цвете разрытой земли тускло-зеленый цвет защитных рубах выделялся уже не так резко, зато огни папирос стали заметны; наступал мрак.
Солдат Неборский присел отдохнуть.
– Ну как, – страшно? – спросил его молодой унтер из вольноопределяющихся, и сел рядом.
Неборский был на позиции всего второй день.
– Сказать вам правду? – ответил он, закуривая, неторопливо гася спичку и расправляя усы. – Хотите верьте, хотите – не верьте. Не страшно совсем, и не было страшно, да и не будет.
– Как так? – возразил унтер. – Вы нервный, это по лицу видно, а жутко бывает всем.
– Обстоятельства так сложились, что меня не могут убить, – заявил, подумав, Неборский, и в красивом, бородатом его лице мелькнуло добродушно-лукавое выражение.
Унтер пожал плечами.
– Я, конечно, не хочу, чтобы вас убили… Пустяки все это. Что же это за такие бронированные обстоятельства?
– Вся жизнь. Ее логика – логика моей жизни.
Над головами их посвистывали, распевая вдали, пули и унтер думал: «Тянут, как вальдшнепы, по одному месту. Попробуй-ка, высунься».
– Возьмем прошлое, – сказал Неборский. – Я выбивался, как говорится, «в люди» – крайне медленно, с огромным трудом. С пятнадцати до двадцати восьми лет мне пришлось множество раз рисковать здоровьем на всевозможных профессиях. Однако, мое упорство привело меня, в конце концов, к настоящему, осмысленному, трудовому благополучию. Настоящее – таково: небольшое имение, хорошая, как весна – жена и трое детей. Будущее этих, родных мне людей, лежит, конечно, на мне. Это я и называю логикой обстоятельств – она требует моей жизни, а не смерти; в то, что останусь жив – я верю и, поэтому, душа моя очень спокойна.
Он помолчал и прибавил:
– Короче говоря, я верю, что судьба хочет того же, чего хочу я.
Он бросил окурок и поднялся во весь рост, спокойный, молодой, сильный, с ружьем в руках, готовый возобновить стрельбу, и упал. Пуля ударила его в бровь.
Унтер неподвижно сидел с минуту, нервно косясь на содрогающееся тело Неборского, затем чиркнул спичкой и осветил окровавленное лицо мертвого. Правый глаз, красный, как помидор, вылез из раздробленной орбиты, напоминая глаз рыбы, изуродованный крючком, неожиданно рванувшим ее из призрачной воды жизни к берегу смерти, у которой тоже есть своя логика.
Александр Грин
ТАМ ИЛИ ТАМ
Я проснулся. Было очень тихо. Я лежал под чем-то теплым, закрывавшим меня с головой. Я медлил откинуть свое покрывало и осмотреться. Все произошло из-за виденного мной только что сна.
Сон был странно неуловим, как большинство тяжелых и крепких снов, но общее от него впечатление было такое, что я делал во сне нечто, очень важное и теперь, наяву. Кроме того, мне казалось, что я делал это нечто дома, в домашней обстановке, и что сейчас я тоже нахожусь дома; что стоит мне только открыть то неизвестное, что покрывает меня, как я увижу знакомые предметы, обои, стулья, свой письменный стол и все, к чему так привык за долгие годы обывательской, мирной жизни.
С другой стороны, рассудок твердил мне, что я нахожусь не дома, а в окопе, что покрыт я шинелью, а не одеялом и что вчерашняя перестрелка, пришедшая на память, должна убедить меня наконец в том, что я действительно на войне.
Эта диковинная нерешительность сонного еще сознания осложнялась тем, что воображение, ясно нарисовавшее домашнюю обстановку, задавало лукавый вопрос: «А не приснилось ли тебе, что ты на войне? Может быть, едва лишь ты откинешь это (одеяло?), как сразу увидишь прежде всего – ночной столик с медным подсвечником, книгой и папиросами, а затем – умывальник, комод и зеркало?»
Представление о войне и представление о домашней обстановке были одинаково живы. Я не знал – что из них сон, и что – действительность? Разум твердил, что я лежу у стенки окопа, под шинелью, а окрепшая иллюзия, – что лежу дома, на кровати, под одеялом.
Следовало просто встать и посмотреть вокруг – протереть глаза, как говорят в таких случаях. Я освободил голову. Мутный дневной свет блеснул в лицо, что-то черное и серое, в неясных очертаниях, показалось на мне и скрылось, так как в этот момент разорвалась надо мной первая неприятельская шрапнель и я потерял сознание.
Что шрапнель разорвалась, что я, перед этим, лежал полусонный, стараясь сообразить, где я – дома или в окопе, – это я хорошо помню. Далее же я ничего не помню вплоть до очень похожего на этот момента: я так же лежу с закрытой чем-то мягким и теплым головой, и не знаю, что это – одеяло или шинель? Я, по-видимому, спал и проснулся. Один раз я просыпаюсь так или второй раз? Я не могу решить этого. Мне кажется, что я в окопе, что стоит открыть глаза, как увижу я серые фигуры солдат, блиндаж, комья земли и небо. Но по другому ощущению – ощущению некоторого физического удобства – мне кажется, что я – дома.
Стоит открыть глаза, откинуть с головы это теплое (шинель? одеяло?) и все будет ясно.
Открываю. Я – дома: это не сон, я действительно дома; в кресле против меня спит, сидя, измученная долгим ночным уходом за мной, жена. Бужу ее. Она, плача, говорит, что выпросила меня из лазарета на квартиру, что я сильно ранен шрапнелью в голову, но поправляюсь, а раньше был без сознания.
Лежу и стараюсь решить: два раза была иллюзия недействительной обстановки или – раз? Не бред ли это был двойной, дома, во время болезни?
Н. Николаев
КАСКА
Приклонский оставил жену на вокзале, а сам метался по городу в поисках квартиры.
Ему не хотелось ждать номера в гостинице. В очереди расположилось уже несколько человек. Их вещи стояли, сложенный кучей, у подъезда и наводили тоску. Какой-то офицер в полушубке, должно быть, с фронта, сидел, понурившись, у лестницы с небольшим саком в руке и не шевелился. Может быть, спал?
Приклонский безуспешно объехал уже несколько, как он выражался по студенческой привычке, «меблирашек», когда у него мелькнула идея:
«Не съездить ли по старому адресу?»
Надежды было мало. Квартир не было и рассчитывать приходилось только на дикий случай. Но случай-то и выручил.
Оказалось, передавалась квартира Ранка. Его давно уже не было в городе, но только теперь, накануне приезда Приклонского, управляющий получил из Швеции письмо: Ранк просил сдать его квартиру на год à un homme distingué[2]2
…à un homme distingué – Здесь: порядочному человеку (фр.).
[Закрыть]. Приклонский взял ее, не торгуясь, и был счастлив.
Приходилось тащиться на извозчике через весь город, на вокзал. Но у Приклонского на душе было теперь хорошо. Он успокоился и с интересом посматривал по сторонам, на шумную жизнь столичной улицы, на стаю голубей, слетевшихся к салазкам какой-то старушки, раскидывавшей кругом горох, на солнечные блики золотых церковных маковок.
Когда в дымной, промозглой зале он нашел Софью Людвиговну и рассказал ей, истомившейся в ожидании, про выручивший их случай, явилось сомнение.
– Хороша ли обстановка?
Но потом Софья Людвиговна решила, что, наверное, хороша:
– В крайнем случае, что-нибудь прикупим!
И они стали торопливо собираться.
«Домой» они попали все-таки к сумеркам. Неосвещенная, еще знакомая лестница показалась неприветливой и холодной. Странно было остановиться, не проходя по привычке выше, в бельэтаже, у двери с медной доской, на которой крупными латинскими буквами была изображена фамилия «Ранк».
Дворник давно уже ушел, а они все еще бродили по комнатам и обменивались впечатлениями. В общем, было сумрачно, но довольно уютно.
Когда из длинной столовой, слабо освещенной одним окном с которой стены, они перешли в кабинет с широкой, почти квадратной оттоманкой, мягким ковром и плотными гардинами на окнах, Софья Людвиговна повела худенькими плечами и сказала:
– Знаешь, Макс, мне будет здесь страшно.
Приклонский рассмеялся:
– Ведь здесь полумрак… Зажжем свет, опустим шторы и ты перестанешь нервничать.
Он поцеловал жену, обняв за талию, и прибавил:
– Ты устала с дороги. Василий принесет углей, поставит самовар… Ты согреешься и повеселеешь.
Софья Людвиговна устало и нетерпеливо сморщилась и повторила:
– Я буду бояться.
Приклонский подошел к окну и стал отвязывать шнурок. Тяжелые сборки шторы медленно упали вниз, глухо стукнув подвешенными гирьками.
Когда Максим Петрович перешел к другому окну и стал снова разматывать шнурок, Софья Людвиговна, молча следившая за движениями его сильных, узловатых рук, точно спохватившись, сказала:
– Зажги раньше свет. Если ты не зажжешь люстры и спустишь шторы, я задохнусь.
– Женщина, дышащая светом! – рассмеялся Приклонский, но люстру все-таки поспешил зажечь.
Теперь можно было осмотреться подробнее.
Комната была мрачна, но уютна.
Звуки глухо замирали в бархате мягкой мебели. Шагов не было слышно. По стенам темными пятнами привлекали взгляд почерневшие от времени гравюры. Письменный стол стоял посредине, резной и, по-видимому, старинный.
– Точно саркофаг! – подумал Приклонский. Но вслух не сказал, чтобы не расстраивать жену.
Он помог Софье Людвиговне подняться с низкого пуфа и провел ее, взяв за руку, в столовую.
Здесь было несколько светлее. Готические, высокие стулья были ровно расставлены вокруг и кое-где у стен. Против двери стояло пианино, точно подпирая большое зеркало-трюмо в черной раме, приткнувшееся в углу. И только самовар, брызгавший во все стороны кипятком и криво отражавший комнату, веселил и радовал взгляд.
– Соня, что это?
Приклонский показал на пианино.
Софья Людвиговна подошла ближе и сказала:
– Каска! Откуда она здесь?
Максим Петрович повертел в руках легкую кожаную каску, потрогал медное острие и медную же чешую на ремешки; и прочел вслух надпись:
– Mit Gott für Koenig und Vaterland[3]3
Mit Gott fur Koenig und Vaterland – С Богом за царя и отечество (нем).
[Закрыть].
Потом он спросил:
– Кто этот Ранк? И… ведь он уехал еще до начала войны?
– А почему это важно? – удивилась Софья Людвиговна.
Максим Петрович не любил говорить о войне. Война мешала его работе, мешала сосредоточиться, думать. Ему нужно было спокойствие, и он боялся, как огня, войны, газет, всей этой шумной и буйной, ненужной и непонятной ему жизни.
Но вопрос, оставшийся без ответа, так и отпал сам собой. Приклонский задумался о чем-то другом, а Софья Людвиговна стала заваривать чай.
После чая ей захотелось поскорее заснуть. Но в спальне лечь она не захотела. Очень уж неприветливо смотрела широкая металлическая кровать с большими блестящими шарами на углах. Софье Людвиговне показалось здесь холодно и неприветливо, а у Приклонского мелькнула мысль о том, что Ранк, должно быть, вел не очень сдержанный образ жизни. В небольшой комнате явственно сохранился раздражающий запах пудры, острых духов и женского тела.
Решили лечь спать в кабинете. Максим Петрович раскрыл дорожный мешок и вынул одеяло и простыни. Софья Людвиговна устроила себе постель на оттоманке, а он пристроился на коротком диване. Двери заперли на ключ. Потом Максим Петрович повернул выключатель и еле добрался до дивана. В комнате стало темно, как в склепе. Из-за плотных штор и гардин нельзя было рассмотреть даже смутного контура окон на фоне вечернего неба.
Когда Приклонский, наконец, нащупал диван, лег и прислушался, до него донеслось только ровное, частое дыхание заснувшей жены да мелодичный звон неудачно подвернувшейся упругой пружины. Потом откуда-то ему показалось, что в комнате есть кто-то третий.
Максим Петрович пролежал минуты три неподвижно. Он вслушивался в темноту, но ничего не слышал. Потом собрал разбежавшиеся мысли, напряженно сжал руки и тихо-тихо окликнул жену. Она молчала и дыхания ее теперь уже не было слышно.
Приклонский протянул руку, нащупал письменный стол и тотчас же ориентировался в темноте. Он спустил на пол ноги, затекшие в неудобной позе на коротком диване, привстал, нащупал соседнее кресло и медленно, бесшумно добрался до оттоманки. Здесь он протянул руку, чтобы разбудить жену, и вздрогнул: Софья Людвиговна не спала, а сидела на оттоманке, согнув спину и судорожно держась рукой за подушку. Она не вскрикнула от неожиданности и даже не пошевелилась. Потом по ее шепоту Максим Петрович понял, что его Соня чувствовала каждое его движение и знала, что он пробирается к дивану, так же точно, как будто видела в темноте.
– Соня, что с тобой? – тихо спросил Приклонский и удивился: почему у него такой хриплый голос.
Софья Людвиговна немного помолчала и ответила:
– Мне страшно.
– Отчего? – снова спросил, чтобы что-нибудь сказать, Максим Петрович.
– Оттого, что пока мы спали, здесь кто-то сидел на моей постели.
– Что за чушь! – с сердцем и уже громко ответил Приклонский.
Тогда Софья Людвиговна взял его руку и прижала к одеялу. В этом месте на одеяле образовалось углубление, и оно было теплое, точно нагретое сверху.
Не отвечая, Приклонский грубо вырвал свою руку из руки жены и, натыкаясь в темноте на мебель, бросился к двери. Он пошарил рукой по стене, нашел выключатель, щелк-пул им, и комната осветилась ровным, рассеянным светом. Приклонский увидел свою жену, сидевшую на оттоманке в скорченной позе, с уставленными вперед, неподвижными, расширенными, полубезумными глазами. Увидел свой растерзанный ночной туалет, руку, все еще державшуюся за выключатель, точно за единственную точку опоры, занавешенные окна, пустую, безжизненно-мягкую, мрачную комнату, и ему невольно стало стыдно.
– Нервы расшалились! – сказал он жене, точно извиняясь.
Потом спохватился, бросился к Софье Людвиговне, обнял ее за талию, стал гладить по кудрявым волосам, целовать ее испуганные глаза и ободрять ласковыми словами.
Софья Людвиговна, слушая, приходила в себя. Потом она ухватилась за плечи мужа и стала умолять его не отходить от нее и не тушить света.
Максим Петрович не расспрашивал ее и покорился. Он уложил жену, присел и закурил сигару.
Софья Людвиговна заснула не скоро. Приклонский сидел и думал, пуская дым струйкой и следя, как он расплывается по комнате ровными, густыми волнами.
Сигара была уже почти докурена, когда он прилег и задремал, не погасив огня. Софья Людвиговна лежала с закрытыми глазами, должно быть, также дремала.
Сквозь дремоту до него доносился тягучий, мелодичный мотив. Тихо, но надоедливо, кто-то наигрывал на рояле сентиментальную, наивную песенку. Мелодия докучливо щекотала слух, отрывала от сна и не могла оторвать, – только настораживала внимание, вызывая безуспешную борьбу с дремотой. И так тянулось долго, могло бы тянуться еще дольше, если бы не рыдание, глухое, сдержанное и все же отчетливое рыдание сплелось с мотивом и вырвало из полуяви в явь. Максим Петрович вскочил и присел на диван с протянутой вперед, точно для самозащиты, рукой.
В комнате было светло и пусто. На оттоманке, полуприкрытой скомканной простыней, сидела Софья Людвиговна, обхватив руками колени и спрятав лицо. Волосы у нее были распущены и разметались по поднятым кверху худеньким плечам. Она беззвучно вздрагивала и передергивалась мелкой дрожью. Только изредка, задыхаясь, она слегка поднимала лицо, и тогда Максим Петрович видел знакомые ему, милые, глубокие глаза, теперь расширенные, страдающие, и слышал рыдание, похожее на стон или жалобу.
Пораженный, он не сразу сообразил, что надо делать. Потом встал, подошел к жене, снова начал гладить ее лицо, целовать шею, успокаивать и просить, сам не зная, о чем. А она сидела все такая же, полная страдания и рыдающая, и только почти беззвучно повторяла:
– Это он, он…
– Кто он? – расслышав наконец, спросил Приклонский.
– Не знаю! – так же беззвучно прошептала Софья Людвиговна. – Не знаю.
Максим Петрович почувствовал, что ему становится не по себе. Голова слегка кружилась, и комната, полная ароматным туманом табачного дыма, принимала мгновениями фантастические очертания.
Он сделал усилие над собой, прижал к себе рыдающую, трепещущую жену и спросил настойчиво и властно:
– Скажи… Ты должна сказать: кто он?
Она сквозь слезы ответила:
– Не знаю… Он – там.
Маленькая худенькая рука протянулась по направлению к запертой двери.
– В столовой? – вздрогнул Приклонский. – Ты почем знаешь?
Теперь он прислушивался снова, и вдруг понял: кто-то наигрывал на пианино в столовой.
– Не может быть! – крикнул придавленным, театрально-громким шепотом Максим Петрович, точно убеждал и одергивал самого себя.
Потом он сжал руку жены так, что та вздрогнула, и насторожился, Маленькая, зажатая его сильными руками, худенькая ручка лежала неподвижно и послушно, не делая даже попытки вырваться.
Теперь у Приклонского взгляд был расширенный и неподвижный, как и у его жены. Он владел собой, старался не распускать нервов, но холодные мурашки явственно бегали по спине и под мышками на рубашке выступили пятна пота.
Софья Людвиговна зашептала, как в бреду:
– Знаешь, мне жаль его. Так жаль, что не могу выразить… Ты понимаешь? Слушай же! Слушай…
Мотив был все такой же сентиментально-наивный. То слегка заунывные, то более смелые нотки точно выбегали одна за другой, сливаясь то в гармоничные аккорды, то в наивно-мелодичный напев. Точно кто-то большой и сильный по-детски беспомощно жаловался на свою грустную судьбу – без отчаяния, без гнева, с тихой покорностью на неизбывное, щемящее горе. Максиму Петровичу даже показалось, что он слышал уже где-то этот напев. Ему было страшно, тяжело, но сочувствия к тому, кто так жаловался, он у себя в душе не нашел. А Софья Людвиговна плакала, точно вспоминала что-то знакомое с детства, и то затихала, то снова начинала судорожно подергиваться в конвульсивных рыданиях. Приклонский встал и оглянулся, отыскивая взглядом что-либо, что могло бы служить оружием. Но ничего не было. Взглянув, точно загипнотизированный, на валик оттоманки, он протянул было руку, чтобы взять его, и тотчас отдернул.
Потом, автомат, зашагал к двери.
Софья Людвиговна непрерывно рыдала:
– Не надо! Не надо!
Затем вскочила и, не переставая плакать, крадучись, поплелась за мужем.
У Максима Петровича дрожали руки и он не сразу открыл дверь. Теперь он явственно слышал, что звуки мелодии неслись из столовой. Только играл кто-то тихо-тихо, как трудно играть даже под сурдинку.
Приклонскому теперь было уже даже не страшно. Сердце у него билось, как обезумевшее, руки не слушались. Но где-то в глубине души вставало что-то похожее на злобу, заставлявшее хвататься за ключ и торопить непослушные, не-сгибающиеся, дрожащие руки.
Звучно щелкнул замок.
Нажав рукоятку, Максим Петрович распахнул обе половинки двери и замер на пороге.
Перед ним раскрылась зияющая темнота столовой. Светлый треугольник протянулся по полу и выхватил угол стола. Но там, дальше, все было темно и только придавленная мелодия, то грустная, то торжествующая, вырывалась теперь громче, отчетливее и страшнее.
Приклонский сделал шаг вперед, потом попятился и прижался к стене спиной. Он ничего не мог рассмотреть впереди в том углу, где стояло пианино. Одной рукой он держал за руку жену, прижавшую к его плечу разгоряченное, мокрое лицо, а другою шарил по стене, нащупывая выключатель, долго не мог его найти и еще дольше не умел повернуть. Потом вдруг щелкнул и зажег свет.
Теперь мурашки побежали у него со спины по голове.
Прямо впереди блестело черным матовым отсветом пианино. Перед ним стоял стул на винтовой ножке, но стул был пуст. В комнате никого не было, не было и у пианино никаких механических приспособлений, да и кто мог бы их завести? Но клавиши явственно прыгали под чьими-то руками, наглый, издевающийся напев теперь уже громче торжествовал какую– то гнусную победу.
Шатаясь, Приклонский подошел к пианино и схватился за край его. Музыка оборвалась на полутакте.
Он постоял, схватившись руками за голову. Теперь он не знал, где он, что с ним. Он боялся, он ждал чего-то страшного, но это «ничего» было страшнее, ужаснее всего, что подсказывало воображение.
И вдруг Максим Петрович услышал звук поцелуя. Он обернулся.
Софья Людвиговна стояла с поднятым кверху лицом, с вытянутыми вперед, хватающими воздух руками. Потом Приклонский почему-то перевел ошалелый взгляд в угол, за пианино, туда, где стояло зеркало, и вскрикнул, вскрикнул диким, срывающимся голосом, без слов и смысла. В зеркале он увидел в профиль жену и перед ней высокого, знакомого по мимолетным встречам человека с длинной, холеной русой бородой. Прижимая к себе Софью Людвиговну, он впился в ее губы бесконечным поцелуем, а она, дрожа и вытягиваясь, отдавалась этому поцелую и прижималась к его странной, однобортной серой тужурке со стоячим отложным воротником и, обессиленная, готова была упасть, если бы ее не поддерживал он, нагло прижав к ней ногу в коротком сапоге.
Не понимая, что делает, Приклонский схватил что-то, что было у него под рукой, и бросил в зеркало.
Медное острие каски мелькнуло в воздухе. Посыпались осколки разбитого стекла.
Потом Максим Петрович бросился вперед. Туман застлал ему глаза. Он помнил только, что грохнулся вместе с ними на пол и что его сильные, узловатые руки долго и безумно давали попавшееся в них чье-то мягкое тело.
* * *
Утром его нашли в беспамятстве. Софья Людвиговна лежала, раскинувшись, с темными кровоподтеками на исцарапанной шее.
Зеркало было разбито, и возле него лежала исковерканная кожаная каска с медным одноглавым орлом.



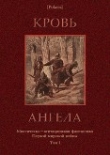
![Книга Шпионаж во время войны [сборник] автора Робер Букар](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-shpionazh-vo-vremya-voyny-sbornik-212070.jpg)



