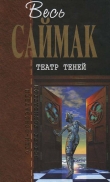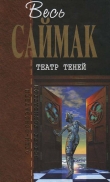Текст книги "Грот танцующих оленей: Фантастические рассказы"
Автор книги: Клиффорд Саймак
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 57 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
ВРАЧЕВАТЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ
Он очнулся и очутился в месте, которого никогда прежде не видел. Собственно, мест было два: одно бесплотное, которое то вспыхивало, то снова затухало, другое сумеречное, где из мрака еле уловимо выступали более темные фигуры. Два белых лица вспыхивали вместе с этим местом, и он ощущал запах, который был ему незнаком: затхлый темный дух, какой исходит от глубокой черной воды, слишком застоявшейся и не колеблемой ни единой свежей струей.
А потом это место исчезло, и он снова вернулся в то, другое место, наполненное ослепительным светом, и что-то большое и мраморное высилось перед ним, и виднелась голова мужчины, который сидел чуть выше и позади этого большого и мраморного, так что приходилось задирать голову, чтобы разглядеть его далеко снизу. Как будто человек был очень высоко, а он – очень низко, как будто человек был великан, а он – жалкий карлик.
Губы, расположенные в центре лица человека, шевелились, и он силился уловить хотя бы слово, но слышал лишь тишину, жуткую, звенящую тишину, которая не пускала в это ослепительное место, которая заставляла его чувствовать себя совершенно одиноким, маленьким и ничтожным – слишком жалким и ничтожным, чтобы внимать словам, которые произносил великан. Хотя, похоже, он знал эти слова, знал, что великан не может сказать никаких иных слов, что он должен сказать их, потому что, несмотря на всю свою высоту и все свое величие, он угодил в ту же самую ловушку, что и маленькое ничтожное существо, которое стояло и смотрело на него снизу вверх. Слова были, просто они скрывались за каким-то непостижимым барьером, и если бы он мог проникнуть за этот барьер, то понял бы, что это за слова, даже не слыша их. А понять их было очень важно, ибо они напрямую касались его – по сути, эти слова были о нем, и они определяли всю его жизнь.
Его сознание принялось ощупью искать барьер, чтобы отделить его от слов, и в тот самый миг, когда ему это удалось, ослепительный свет померк и он снова очутился в колышущемся сумраке.
Белые лица все еще склонялись над ним, только одно из них теперь приблизилось и как будто парило в воздухе – одинокий маленький белый воздушный шар. В темноте тело существа оставалось неразличимым. Если оно вообще было.
– Вы выкарабкаетесь, – произнесло белое лицо. – Вы уже идете на поправку.
– Ну разумеется, выкарабкаюсь, – брюзгливо откликнулся Альден Стрит.
Потому что он был зол на слова, зол на то, что здесь он их слышит, а там, в ослепительном месте, – нет; а ведь важны именно те слова, тогда как слова, которые он услышал здесь, не больше чем шелуха.
– Кто сказал, что я не выкарабкаюсь? – спросил Альден Стрит.
Это он был Альденом Стритом, но не только, ибо являл собой не просто имя. Каждый человек, подумал он, это не просто имя. Это много всего сразу.
Он был Альденом Стритом и одновременно чудаковатым сумрачным одиночкой, обитателем большого, высокого, сумрачного дома, который стоял на отшибе над деревней и выходил на болотистую пустошь, протянувшуюся далеко на юг, – дальше, много дальше, чем достигал человеческий взгляд. Подлинные размеры болота можно было определить только по карте.
Перед домом располагался просторный двор, а позади простирался сад, на краю которого росло исполинское дерево. Осенью его на несколько быстротечных часов охватывал золотистый пожар, и дерево это хранило в себе нечто неимоверно важное, а он, Альден Стрит, имел какое-то отношение к этой важности.
Он отчаянно попытался вспомнить, в чем заключалась эта неимоверная важность, но не мог – все тонуло в тумане. Когда-то он знал, он помнил это, он жил с этим всю жизнь, с самого детства, но теперь знания больше не было. Оно куда-то подевалось.
Альден яростно цеплялся за него, потому что никак не мог его потерять, снова и снова погружался за ним в темные глубины своего мозга. И, рыская в этих потемках, он вновь вспомнил вкус, тот горький вкус, который ощутил, когда осушил фиал и бросил его об пол.
Он тыкался в темные закоулки своего сознания, разыскивая утраченное, не помня, что это, не имея ни малейшего понятия о том, чем бы это могло быть, но твердо уверенный, что узнает его, как только найдет.
Он искал и не находил. Ибо внезапно очутился не во мраке своей памяти, а опять в том ослепительном месте. И разозлился, что его поиски прервали.
Великан в вышине молчал, хотя Альден видел, что он готов вот-вот заговорить. И самое странное, он был совершенно уверен, что уже видел все это раньше и слышал все то, что великан собирался сказать. Однако, хоть убей, не мог вспомнить ни слова. Он уже был здесь прежде, он знал это, и не один раз, а целых два. Он видел все это, точно снятое на пленку, – прошлое повторялось вновь.
– Альден Стрит, – послышался в неизмеримой вышине голос человека, – встаньте и посмотрите на меня.
Что за глупость, подумал Альден, он ведь и так уже стоит и смотрит на этого человека.
– Вы слышали свидетельские показания, прозвучавшие в этом зале, – сказал человек.
– Слышал, – согласился Альден.
– И что вы можете сказать в свое оправдание?
– Ничего.
– То есть вы ничего не отрицаете?
– Я не отрицаю, что все так и было. Но у меня имелись смягчающие обстоятельства.
– Я уверен, что они были, но суд не может их принять.
– Значит, я не могу рассказать…
– Ну конечно можете. Но это ничего не изменит. Закон принимает во внимание лишь совершение преступления. Никаких оправданий быть не может.
– Тогда, полагаю, – подытожил Альден Стрит, – мне нечего вам сказать. Ваша честь, я не стану попусту тратить ваше время.
– Я рад, – сказал судья, – что вы трезво смотрите на вещи. Это все упрощает. Дело закрыто.
– Но вы должны понять, – продолжал Альден Стрит, – что меня нельзя выслать. У меня масса крайне важной работы, и мне необходимо к ней вернуться.
– Вы признаете, – сказал высокий крупный мужчина, – что в течение двадцати четырех часов были больны и самым гнусным образом утаили факт своего заболевания?
– Да, – произнес Альден Стрит.
– Вы признаете, что так и не обратились за лечением, а были задержаны контролером.
Альден не отвечал. Обвинение росло как снежный ком, и отвечать толку не было. Он отчетливо понимал, что это ничего не принесет.
– Кроме того, вы признаете, что не являлись на медосмотр уже восемнадцать месяцев.
– Я был слишком занят.
– Слишком заняты, несмотря на закон, который весьма недвусмысленно гласит, что вы должны проходить медосмотр через каждые шесть месяцев?
– Вы не понимаете, ваша честь.
Его честь покачал головой.
– Боюсь, я все понимаю. Вы поставили себя над законом. Вы сознательно попрали закон и должны ответить за это. Наши медицинские статуты принесли слишком большое благо, чтобы ставить под вопрос их соблюдение. Ни одному гражданину не может быть позволено создать такой опасный прецедент. В борьбе за здоровье населения поддержку должен оказывать каждый из нас, и я не могу попустительствовать…
Ослепительный свет померк, и он снова провалился в сумрак.
Он лежал на спине и смотрел вверх, во тьму, и, хотя он ощущал под собой кровать, на которой лежал, у него было такое чувство, будто он висит в каком-то сумеречном промежутке без конца и начала, в промежутке, который был ничем и вел в никуда и который сам по себе был конечной точкой любой жизни.
Откуда-то из глубины самого себя он снова услышал бесстрастный неумолимый голос, почему-то отдающий металлом:
«Вы когда-либо принимали участие в программе по совершенствованию тела?»
«Когда вы в последний раз чистили зубы?»
«Как часто, по вашей оценке, вы принимаете ванну?»
«Случалось ли вам когда-либо выражать сомнение в том, что спорт закаляет характер?»
Белое лицо выплыло из темноты и снова повисло над ним. Лицо было старое, он увидел это – женское и доброе.
Чья-то рука скользнула под его затылок и приподняла голову.
– Вот, – сказало белое лицо, – выпейте это.
К его губам поднесли ложку.
– Это суп, – продолжала женщина, – Горячий. Он придаст вам сил.
Он раскрыл рот, и ложка проникла внутрь. Суп был горячим и бодрящим.
Ложку вытащили.
– Где… – начал он.
– Где вы находитесь?
– Да, – прошептал он, – где я? Мне нужно знать.
– Это Промежуток, – ответило белое лицо.
Теперь у этого слова было значение.
Теперь он мог вспомнить, что такое Промежуток.
Но он не мог оставаться в Промежутке.
У него в голове не укладывалось, как кто-то может думать, будто он останется в Промежутке.
Он отчаянно замотал головой по тощей жесткой подушке.
Если бы только у него было побольше сил. Совсем недавно их было много. Он был старый, жилистый и очень сильный. У него хватало сил почти на все.
Но бездеятельный, сказали тогда в Ивовой Излучине.
Теперь у него появилось еще и это название. Он был рад, что оно вернулось, и ухватился за него.
– Ивовая Излучина, – сказал он в темноту.
– Эй, старина, вам плохо?
Он не видел говорившего, но не испугался. Чего ему было бояться? У него было его имя, и Ивовая Излучина, и Промежуток, а совсем скоро к нему вернется и все остальное – и тогда он снова станет здоровым и сильным.
– Мне хорошо, – сказал он.
– Китти покормила вас супом. Хотите еще?
– Нет. Все, чего я хочу, – выбраться отсюда.
– Вы были серьезно больны. Температура поднималась почти до тридцати девяти.
– Я не болен. Жара нет.
– Сейчас нет, а когда вы попали к нам…
– Откуда вам знать, какая у меня температура? Вы не медик. Я по голосу слышу, что никакой вы не медик. В Промежутке нет медиков.
– Нет, – согласился невидимый голос, – Но я врач.
– Вы лжете, – возразил Альден, – Не бывает людей-докторов. У нас вообще больше нет докторов. Остались только медики.
– Кое-кто из нас еще ведет исследования.
– Промежуток не место для исследований.
– Временами, – сказал голос, – от исследований очень устаешь. Они слишком безликие и бесплодные.
Альден ничего не ответил. Он осторожно провел рукой по одеялу, которым его укрыли. Оно было жесткое и колючее на ощупь и казалось довольно тяжелым.
Он попытался разложить по полочкам то, что ему только что сообщили.
– Здесь нет никого, – сказал он, – кроме нарушителей. Что вы нарушили? Забыли подстричь ногти на ногах? Или недосыпали?
– Я не нарушитель.
– Тогда, наверно, доброволец.
– И не доброволец. Сюда просто так не попасть. Никто не пустит. В этом и смысл Промежутка, в этом-то вся и шутка. Ты игнорируешь медиков, за это медики игнорируют тебя. Тебя отправляют в такое место, где вообще нет медиков, чтобы ты попробовал, каково это.
– Значит, вы пробрались сюда тайком?
– Можно и так сказать.
– Да вы спятили, – заявил Альден Стрит.
Ибо Промежуток был не из тех мест, куда пробирались незаконно. Любой мало-мальски здравомыслящий человек делал все возможное, чтобы туда не попасть. Он чистил зубы, принимал ванну, пользовался одним из нескольких одобренных видов ополаскивателей для рта, регулярно проходил обследования, непременно делал зарядку, соблюдал диету и во весь дух мчался в ближайшую клинику при первых же признаках недомогания. Впрочем, недомогание вовсе не было обычным делом. При столь пристальном наблюдении и том образе жизни, который тебя заставляли вести, недомогание стало чем-то из ряда вон выходящим.
В его мозгу снова зазвенел ровный металлический голос: полный отвращения, возмущенный, осуждающий голос чиновника медицинского дисциплинарного корпуса.
«Альден Стрит, – произнес он, – вы просто опустившийся грязнуля!»
И это, разумеется, был самый ужасный эпитет из всех возможных. Вряд ли можно заклеймить его хуже. Его назвали предателем красоты и здоровья собственного тела.
– Что это за место? – спросил он. – Больница?
– Нет, – ответил доктор. – Здесь нет больниц. Здесь вообще ничего нет. Только я, да то немногое, что я знаю, да еще травы и прочие природные средства, которые есть в моем распоряжении.
– А этот Промежуток… Что это за Промежуток?
– Болото, – ответил доктор, – Гнусное место, можете мне поверить.
– Смертный приговор?
– Это равносильно ему.
– Я не могу умереть, – сказал Альден.
– Все умирают, – возвестил спокойный голос. – Рано или поздно.
– Не сейчас.
– Нет, не сейчас. Через несколько часов вы будете здоровы.
– Что со мной произошло?
– Вы подхватили какую-то лихорадку.
– Вы так и не сказали, как она называется.
– Послушайте, откуда мне знать? Я же не…
– Я знаю, что вы не медик. Люди не могут заниматься медициной – ни терапией, ни хирургией, вообще ничем, что имеет отношение к человеческому телу. Но люди могут проводить медицинские исследования, потому что для этого требуются интуиция и воображение.
– Вы много об этом думали, – заметил доктор.
– Так, немножко, – ответил Альден, – А кто не думал?
– Возможно, таких больше, чем вам кажется. Но вы злитесь. Вы ожесточились.
– А кто бы не ожесточился? Если хорошенько подумать.
– Я, – возразил доктор.
– Но вы же…
– Да, если кому-то и следовало бы ожесточиться, то это мне. Но я не ожесточился. Потому что мы сами довели себя до этого. Роботы не просили нас об этом. Мы сами возложили на них такую задачу.
Разумеется, именно так и было, подумал Альден. Все началось давным-давно, когда компьютеры стали использовать для диагностики и для расчетов дозировки лекарств. А дальше пошло-поехало. Применение машин поощряли как прогрессивный метод. А кто отважился бы встать на пути у прогресса?
– Ваше имя… – попросил он, – Мне хотелось бы знать ваше имя.
– Меня зовут Дональд Паркер.
– Честное имя, – одобрил Альден Стрит, – Хорошее, чистое, честное имя.
– А теперь поспите, – велел Паркер, – Вы слишком много говорили.
– Сколько сейчас времени?
– Скоро рассветет.
Вокруг было темно, хоть глаз выколи. Ниоткуда не проникал ни единый луч света. В темноте было не видно ни зги и не слышно ни звука; в воздухе стоял зловещий запах сырости. «Он угодил в преисподнюю, – подумал Альден, – в преисподнюю для жалкой горстки людей, которые сопротивлялись, пренебрегали или по той или иной причине отказывались исповедовать религию всеобщего здоровья. Человек рождался в ней, воспитывался в ней, рос в ней и жил в ней до последнего вздоха. И это, разумеется, было чудесно, но Боже мой, до чего же она утомляла, до чего же навязала в зубах! Не сама программа и не закон, а та неослабная бдительность, та атмосфера священной войны против каждого крошечного микроба, непрекращающегося сражения с каждым вирусом, с каждой пылинкой, того почти религиозного рвения, с которым медицинский корпус нес свой неусыпный дозор».
До такой степени, что просто из чувства противоречия хотелось вываляться в грязи, что невымытые руки становились предметом бравады.
Ибо закон весьма недвусмысленно гласил: заболевание – уголовное преступление, а пренебрежение любой, даже мельчайшей мерой, направленной на сохранение здоровья, – серьезное правонарушение.
Все это начиналось с колыбели и тянулось до гробовой доски, и существовала даже шутка, которую, впрочем, никогда не произносили в полный голос (что может быть жальче?): дескать, единственное, от чего человек теперь может умереть, это неодолимая скука. В школе ребятишки получали поощрительные звездочки за чистку зубов, за мытье рук, за гигиенические навыки, за уйму прочих вещей. На детских площадках больше не было места столь бесполезному, несерьезному (и даже преступному) времяпрепровождению, как бесцельные игры, – их сменили тщательно разработанные программы ритмической гимнастики, направленные на совершенствование тела. Для каждого уровня существовали свои спортивные программы: программы для дошколят и младших школьников, для старшеклассников и студентов, программы для микрорайонов и районов, программы для молодых семей, для людей среднего возраста и для людей пожилого возраста – все виды спорта, на любой вкус и сезон. Они не были рассчитаны на болельщиков. Если человек понимал, что для него хорошо, ему в голову ни на минуту не могло закрасться столь нелепое и подозрительное желание, как стать спортивным болельщиком.
Табак находился под строжайшим запретом, как и все алкогольные напитки (теперь названия «табак» и «алкогольные напитки» превратились в лишь немногим более чем пустые словосочетания, закрепленные в законах), а в продажу поступали исключительно Полезные для здоровья продукты. Конфеты, лимонад и жевательная резинка были позабыты. Они наряду с алкоголем и табаком наконец-то стали всего только словами из далекого прошлого, преданиями, которые с замиранием в голосе рассказывали словоохотливые старики, слышавшие о них когда-то в детстве или ставшие свидетелями последних жалких попыток неповиновения со стороны горстки недовольных – попыток, которые предшествовали их окончательному искоренению.
Давным-давно исчезли такие уродливые явления, как разносчики сладостей, спекулянты лимонадом или торговцы жевательной резинкой из-под полы.
Теперь все люди были здоровыми, а болезней не существовало – или почти не существовало. В свои семьдесят человек только-только подбирался к среднему возрасту и мог с уверенностью предвкушать еще четыре десятка лет полноценной жизни в избранном роде деятельности или профессии. Теперь человек не умирал в восемьдесят лет, а вполне мог дожить до своего полуторавекового юбилея, если, конечно, не становился жертвой какого-нибудь несчастного случая.
Все это, разумеется, было бы замечательно, если бы не цена, которую приходилось платить.
– Дональд Паркер, – позвал Альден.
– Да, – ответил голос из темноты.
– Я просто хотел убедиться, что вы здесь.
– Я уже собирался уходить. Мне казалось, что вы заснули.
– Вы же как-то попали сюда, – сказал Альден, – Ну, то есть без посторонней помощи. Вас не привезли медики.
– Без посторонней помощи, – подтвердил Паркер.
– Тогда вы должны знать дорогу. И по ней может пройти другой человек.
– Вы хотите сказать, что сюда может попасть кто-нибудь еще?
– Нет. Я хочу сказать, что кто-нибудь может выбраться отсюда. Повторить то, что сделали вы.
– Никто из здешних не способен на такое, – возразил Паркер, – Я находился на пике свой физической формы, но и то едва-едва справился. Еще пять миль – и я никогда бы не добрался.
– Но если одному человеку…
– Одному человеку с крепким здоровьем. Здесь нет никого, кому это было бы по силам. Считая и меня тоже.
– Если бы вы могли объяснить мне, как найти дорогу…
– Это настоящее безумие, – отрезал Паркер, – Закройте рот и спите.
Альден слушал, как другой уходит, направляясь к невидимой двери.
– Я справлюсь, – сказал Альден, обращаясь не к Паркеру и даже не к самому себе, а скорее к темноте и миру, объятому этой темнотой.
У него просто нет другого выхода. Ему необходимо вернуться в Ивовую Излучину. Что-то ждет его там, и он должен вернуться.
Паркер ушел, и он остался совсем один.
В мире было тихо, темно и сыро. Тишина казалась такой всеобъемлющей, что даже в ушах звенело.
Альден положил руки по бокам и медленно приподнялся на локтях. Одеяло съехало с груди, он уселся на кровати и ощутил холод, пронизывавший тьму, а сырость протянула щупальца и завладела им.
Он сидел и дрожал.
Потом поднял руку, очень осторожно, и потянулся за одеялом, намереваясь завернуться в него. Но когда его пальцы сжали грубую материю, он не стал тянуть ее к себе. «Так не годится, – решил он. – Не дело это – нежиться в кровати под одеялом».
Вместо того чтобы накинуть одеяло на себя, он отшвырнул его прочь и опустил руку, чтобы ощупать ноги. Пальцы ощутили материю – он так и лежал в брюках и в рубахе, только ступни оказались босыми. Может, ботинки с засунутыми в них носками стоят где-нибудь у кровати? Он принялся шарить вокруг себя в темноте – и выяснил, что лежит не в кровати, а на чем-то вроде тюфяка, брошенного прямо на пол, вернее, на голую землю. Утоптанная поверхность под его ладонью была сырой и холодной.
Ботинок не обнаружилось. Он еще пошарил вокруг, вытянулся, поводил рукой по полу.
Кто-то убрал их, подумал он. А может, украл. В Промежутке пара ботинок наверняка настоящее сокровище. А может, у него их и не было. Может, в Промежуток нельзя брать с собой ботинки – возможно, такова часть наказания.
Ни ботинок, ни зубных щеток, ни ополаскивателя для рта, ни нормальной еды, ни лекарств, ни медиков. Зато здесь был доктор – живой доктор, пробравшийся сюда тайно, человек, добровольно заточивший себя в Промежутке.
Что за личностью нужно быть, чтобы пойти на такое? Что толкает его на подобный поступок? Какой идеализм, какое ожесточение поддерживает его на этом пути? Какая любовь или ненависть удерживает его здесь?
Альден сидел на своем тюфяке, оставив бесплодные поиски ботинок, и качал головой, молчаливо поражаясь тому, на что способен человек.
Смех что такое этот человеческий род, размышлял он. На словах преклоняются перед рассудком и логикой, а на деле куда как чаще руководствуются эмоциями и совершают алогичные поступки.
В этом, наверное и кроется причина того, что теперь все медики – роботы. Ведь медицина такая наука, в которой годятся лишь рассудок и логика, а у роботов нет никаких качеств, которые соответствовали бы человеческим слабостям и эмоциям.
Он осторожно спустил ноги с тюфяка и поставил их на пол, потом медленно поднялся. Он стоял в темноте, один, и сырой пол холодил подошвы.
Весьма символично, подумалось ему. Возможно, и непреднамеренное, но превосходное символическое знакомство с сущностью места под названием Промежуток.
Он вытянул руки, нащупывая какой-нибудь ориентир, и медленно пошаркал вперед.
И вскоре уткнулся в стену, сколоченную из вертикально поставленных досок, грубо распиленных и никогда не знавших рубанка, с неровными щелями там, где доски прилегали друг к другу.
Медленно, на ощупь Альден двинулся вдоль них и в конце концов добрался до места, где они заканчивались. Он пошарил руками и понял, что нашел вход, но двери не было.
Он перенес ногу через порог, нащупывая пол с другой стороны, и нашел его – почти вровень с порогом.
Поспешно, как беглец, он шмыгнул из комнаты, и темнота впервые за все время расступилась. На светлеющем небе вырисовывались очертания исполинских деревьев, а чуть пониже места, где он стоял, Альден различил какую-то призрачную белизну – вероятно, туман, скорее всего стелющийся над озером или ручьем.
Он стоял, прямой и застывший, и оценивал свое состояние: небольшая слабость, головокружение, в животе холодно и в костях как будто мурашки бегают, но в остальном он хоть куда.
Альден поднял руку и потер челюсть; щетина кололась. Прошло не меньше недели, с тех пор как он в последний раз брился, – по крайней мере, так ему показалось. Он попытался заставить свою память вернуться к тому дню, но время стекалось, как маслянистая жидкость, и у него ничего не получилось.
У него закончилась вся еда, и впервые за много дней он вышел в деревню – очень туда не хотелось, но голод был сильнее. У него не было времени сходить за едой, у него ни на что вообще не было времени, но наступает пора, когда человеку необходимо питаться. Интересно, задумался он, сколько времени он обходился совсем без еды, слишком поглощенный важной задачей, о которой он теперь ничего не помнил – знал лишь, что корпел над ней и что она осталась незаконченной и он должен вернуться к ней.
Почему он все забыл? Потому что был болен? Разве может болезнь лишить человека памяти?
Надо начать с самого начала, подумал он. Потихоньку, полегоньку. Помаленьку, осторожно и без лишней спешки; не все сразу.
Его зовут Альден Стрит. Он живет в большом, высоком, сумрачном доме, который его родители почти восемьдесят лет назад построили во всем его надменном великолепии на холме над деревней. И за этот дом на вершине холма, за всю его надменность и великолепие его родителей ненавидели, но, несмотря на ненависть, признавали, поскольку его отец был человек образованный и наделенный недюжинной деловой сметкой и за свою жизнь сколотил небольшое состояние, торгуя закладными на фермы и прочее имущество в округе Маталуса.
Когда родители умерли, ненависть перенесли на него – но не признание, которое шло рука об руку с ненавистью, поскольку, несмотря на то что он окончил несколько колледжей, от его образования не было никакой пользы – по меньшей мере, такой, которую считали бы таковой в деревне. Он не торговал ни закладными, ни имуществом. Он уединенно жил в большом, высоком доме, давно пришедшем в упадок, и помаленьку расходовал деньги, которые его отец скопил и оставил ему. У него не было друзей, да он их и не искал. Случалось, он по целым неделям не показывался на деревенских улицах, хотя все знали, что он дома. Ибо всеведущие соседи видели огни, загоравшиеся в высоком доме на отшибе вечерами.
Когда-то дом был настоящим красавцем, но время и запустение постепенно брали свое. Погнутые ставни сиротливо висели на петлях; много лет назад ураган выбил из верхушки дымохода расшатавшиеся кирпичи, и часть из них до сих пор лежала на крыше. Краска облупилась и осыпалась, парадное крыльцо просело: фундамент подкосили деловитый суслик, вырывший под ним себе нору, и зарядившие вслед за этим дожди. Лужайка, некогда аккуратно ухоженная, буйно заросла травой, кусты забыли, что такое стрижка, а деревья разрослись так безбожно, что из-за них едва был виден дом. Цветочные клумбы, которые любовно пестовала его мать, остались в прошлом, давным-давно задушенные бурьяном и ползучей зеленью.
Очень жаль, подумал он, стоя в ночи. Мне следовало сохранить дом в том виде, в каком он был при отце и матери, но у меня было так много других забот.
Жители деревни презирали его за бездеятельность и беспечность, из-за которых надменное великолепие пришло в упадок и запустение. Ибо как бы сильна ни была их ненависть к надменности, они все же гордились ею. Они говорили, что он ленивый и равнодушный.
Но я не был равнодушным, подумал он. У меня болела душа – не за дом, не за деревню, даже не за себя самого, а за работу, которую я не выбирал: мне ее навязали.
Или работа была всего лишь сном?
«Давай начнем с самого начала», – сказал он себе, и именно так намеревался поступить, но начал не с начала, а почти с конца. Он начал очень далеко от начала.
Он стоял в темноте, где очертания деревьев вырисовывались в светлеющем небе и белый призрачный туман стелился над самой водой, и пытался выплыть против течения времени к самым истокам – туда, откуда все началось. Они уходили глубоко, куда глубже, чем он думал, и, похоже, были как-то связаны с запоздалой сентябрьской бабочкой и рыжим золотом облетающей листвы орехового дерева.
Он – тогда еще ребенок – сидел в саду. Стоял голубой и терпкий, как вино, осенний день, и воздух был свежим-свежим, и солнце было ласковым-ласковым – таким свежим и таким ласковым, каким что-то может быть только в детстве.
Листья золотым дождем осыпались с высокого дерева, и он подставлял руки, чтобы поймать лист – не какой-то определенный, нет, он просто протягивал руки и ждал, когда какой-нибудь из них спорхнет ему на ладошку, расходуя за этот единый миг всю ту безоглядную детскую веру, какую только может испытывать человек.
Он закрыл глаза и попытался снова возродить пережитое, попытался перенестись в далекий миг и стать тем маленьким мальчиком, каким был в тот день, когда с дерева дождем падало золото.
Он перенесся туда, но все вокруг утопало в дымке, картинка была тусклой и не желала проясняться, ибо что-то происходило: там, в темноте, появилась еле различимая тень и послышался чмокающий звук влажных туфель по земле.
Он распахнул глаза, и осенний день померк, и кто-то приближался в темноте – словно кусок мрака отделился, обрел форму и надвигался на него.
Он услышал тяжелое дыхание, хлюпанье туфель – и движение прекратилось.
– Эй ты, – неожиданно раздался хриплый голос. – Ты, там, кто ты такой?
– Я здесь недавно. Меня зовут Альден Стрит.
– Ах да, – сказал голос. – Новенький. Я шла взглянуть на тебя.
– Это очень мило с вашей стороны, – сказал Альден.
– Мы здесь присматриваем друг за другом, – сказал голос, – Заботимся друг о друге. Мы здесь одни. У нас нет другого выхода.
– Но вы…
– Я Китти, – сказал голос. – Это я кормила тебя супом.
Она чиркнула спичкой и прикрыла ее ладонями, как будто пыталась защитить крошечный огонек от тьмы.
Только трое, подумал Альден, трое против тьмы. Ибо огонек был одним из них, он, живой и трепещущий, стал с ними единым целым – и сражался с мраком.
Он увидел, что пальцы у Китти – тонкие и чуткие, изящные, как старинная ваза из фарфора.
Она наклонилась, все еще прикрывая ладонью пламя, и поднесла спичку к огарку свечи, воткнутому в бутылку, которая, судя по высоте, стояла на столе, хотя стола в темноте не было видно.
– Мы здесь нечасто зажигаем свет, – сказала Китти, – Эту роскошь мы редко можем себе позволить. Спички – слишком большой дефицит, а свечи чересчур коротки. У нас здесь очень мало всего.
– Не нужно, – запротестовал Альден.
– Еще как нужно, – сказала Китти. – Ты здесь новенький. Не хватало только, чтобы ты оступился в темноте. На первое время мы зажжем для тебя свет.
Свеча занялась и заморгала, разбрасывая по сторонам мятущиеся тени. Потом огонек загорелся ровно и очертил в темноте тусклый круг.
– Скоро утро, – сказала Китти, – за ним настанет день, а свет дня хуже, чем ночная тьма. Днем все видишь и понимаешь. В темноте можно хотя бы думать, что все не так уж и плохо. Но это самое лучшее – маленькое озерцо света, чтобы устроиться в темноте.
Он увидел, что она немолода. Волосы слипшимися сосульками падали на лицо – худое и изможденное, покрытое морщинами. Но за этими сосульками, за худобой и морщинами скрывалось нечто большее – какой-то дух вечной юности и жизненной силы, который ничто не смогло сломить.
Теперь, когда пламя свечи горело равномерно, озерцо света разлилось чуть пошире и он мог разглядеть строение, в котором они стояли.
Оно было крошечное, не больше хижины. На полу лежал тюфяк, рядом – сброшенное им одеяло. Еще там были колченогий стол, на котором горела свеча, и два деревянных чурбака, служившие стульями. На столе стояли две тарелки и две белые чашки.
Между досками, составлявшими стены хижины, зияли щели, на месте ссохшихся и вывалившихся сучков там и сям темнели круглые глазки, открытые во внешний мир.
– Это было ваше жилище, – сказал он, – Я не хотел причинить вам беспокойство.
– Не мое, – ответила она. – Здесь жил Гарри, но он не станет возражать.
– Обязательно надо будет поблагодарить его.
– Не получится, – сказала она. – Он мертв. Теперь эта хижина твоя.
– Я не займу ее надолго, – заверил Альден. – Я не собираюсь здесь оставаться. Мне нужно возвращаться.
Она покачала головой.
– Кто-нибудь пытался? – спросил он.
– Да. И все вернулись назад. Ты не сможешь преодолеть болото.
– Но док-то пробрался сюда.
– Док был большим, сильным и крепким. И им двигала веская причина.