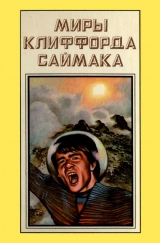
Текст книги "Миры Клиффорда Саймака. Книга 11"
Автор книги: Клиффорд Дональд Саймак
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
– Человек не дойдет, – сказал он. – Человек умрет. Нет еды. Нет воды. Человеку смерть.
– Мы позаботимся о тебе, – ответил Седьмой. – У нас никогда не было человека-друга. Люди убивали нас, мы убивали людей. Но пришел человек-друг. Мы позаботимся о таком человеке.
Уэбб немного помедлил, размышляя, потом спросил:
– Вы дадите человеку еду? Вы найдете для человека воду?
– Мы позаботимся, – был ответ.
– Как Седьмой узнал, что я видел шестерых?
– Человек сказал. Человек подумал. Седьмой узнал.
Вот оно что – телепатия… След былого могущества, остаток величественной культуры, еще не совсем позабытой. Интересно, многие ли другие существа в пещере наделены тем же даром?
– Человек пойдет вместе с Седьмым? – спросил Седьмой.
– Человек пойдет, – решил Уэбб.
«В самом деле, почему бы и нет?» – сказал он себе. Идти на восток, в сторону поселений – это не решение. У него не хватит пищи. У него не хватит воды. Его подстережет и сожрет какой-нибудь хищник. У него нет ни малейшей надежды выжить.
Но если он пойдет за крошечным существом, что встало рядом с ним во мраке пещеры, надежда, быть может, забрезжит опять. Пусть не слишком твердая, но все-таки надежда. Появится пища и вода – или по крайней мере надежда на пищу и воду. Появится спутник, который поможет ему уберечься от внезапной смерти, странствующей по пустыне, который предостережет его и подскажет, как опознать опасность.
– Человеку холодно, – произнес Седьмой.
– Холодно, – согласился Уэбб.
– Одному холодно, – объявил Седьмой. – Двоим тепло.
Пушистое создание залезло к нему на грудь, обняло за шею. Спустя мгновение Уэбб осмелился прижать существо к себе.
– Спи, – произнес Седьмой. – Тепло. Спи…
Уэбб доел остатки своих припасов, и тогда семеро «древних» вновь сказали ему:
– Мы позаботимся…
– Человек умрет, – настойчиво повторял Уэбб. – Нет еды. Человеку смерть.
– Мы позаботимся, – твердили семь маленьких существ, выстроившись полукругом. – Позаботимся позже…
Он понял их так, что сейчас еды для него нет, но позже она должна появиться. Они снова двинулись в путь.
Пути, казалось, не будет конца. Уэбб падал с ног и кричал во сне. Он дрожал мелкой дрожью даже тогда, когда удавалось отыскать древесину и они сидели, скорчившись у костра. День за днем только песок да скалы – ползком вверх на крутой гребень, кубарем вниз с другой стороны или шаг за шагом по жаркой равнине, по морскому дну давно минувших эпох.
Путь превратился в монотонную мелодию, в примитивный ритм, в попевку из трех звенящих нот, заунывную, нескончаемую, которая звенит в висках весь день и еще многие часы после того, как настала ночь и путники остановились на отдых. Стучит до головокружения, пока мозг не отупеет от стука, пока глаза не откажутся четко видеть мир и мушку пистолета – надо встретить огнем нападающего, подползающего или пикирующего врага, вдруг возникающего ниоткуда, а она превращается в расплывчатый шарик.
И повсюду их подстерегали миражи, вечные марсианские миражи, которые, казалось, вплотную граничат с реальностью. В небе вспыхивали мерцающие картины: вода и деревья, и неоглядные зеленые степные дали, каких Марс не видел на протяжении бессчетных столетий. Словно, как говорил себе Уэбб, минувшее крадется за ними по пятам, словно оно по-прежнему существует и пытается нагнать тех, кто ушел вперед, оставив былое позади против его воли.
Он потерял счет дням, заставляя себя не думать о том, сколько еще таких дней до цели; в конце концов ему стало мерещиться, что так будет продолжаться вовеки, что они не остановятся никогда и это их пожизненный удел – встречать утро в голой пустыне и брести по пескам вплоть до прихода ночи.
Он допил остатки воды и напомнил семерым, что не сможет жить без нее.
– Позже, – ответили они. – Вода позже.
И действительно, в тот же день они вышли к городу, и там в туннеле, глубоко под лежащими на поверхности руинами, была вода – капля за каплей, мучительно медленно, она сочилась из разбитой трубы. Но все равно – вода, даже еле капающая, на Марсе была чудом из чудес.
Семеро пили сдержанно: они столетиями приучали себя обходиться почти совсем без питья, приспособились к безводью и не страдали от жажды. А Уэбб лежал у разбитой трубы часами, подставляя под капли ладони, стараясь накопить хоть немного воды, прежде чем выпить ее одним глотком, а то и просто отдыхая в прохладе, что было само по себе блаженством.
Потом он заснул, проснулся и выпил еще немного. Теперь он отдохнул и жажды больше не чувствовал, но тело кричало криком, требуя еды. А еды не было, и не было никого, кто мог бы ее принести. Маленькие существа куда-то скрылись.
«Они вернутся, – успокаивал он себя. – Они ушли ненадолго и скоро вернутся. Они ушли, чтобы достать мне еды, и вернутся, как только достанут…»
Все его мысли о семерых были именно такими, добрыми мыслями.
Не без труда Уэбб выбрался наверх тем же туннелем, который привел его к воде, и наконец очутился подле развалин. Развалины лежали на холме, господствующем над окружающей пустыней; с вершины холма открывался вид на многие мили, и в каком направлении ни взгляни, местность шла под уклон.
По правде говоря, от развалин почти ничего не осталось. Легче легкого было бы пройти мимо холма и не заметить никаких следов города. Тысячелетия кряду здания осыпались, обрушивались, а то и крошились в пыль; в проемы просачивался песок, покрывая остатки стен, заполняя пространство между ними, пока руины не стали просто-напросто частью холма.
То здесь, то там Уэбб натыкался на осколки камня со следами обработки, на керамические черепки, но сам понимал, что, не ищи он их специально, он спокойно мог бы пройти мимо, приняв эти осколки и черепки за обычные обломки породы, без счета разбросанные по поверхности планеты.
Туннель вел в недра погибшего города, в усыпальницу рухнувшего величия и померкшей славы народа, потомки которого ныне бродили, как звери, по древней пустыне, еле-еле сохранив диалект – жалкое воспоминание о культуре, процветавшей во время оно в городе на холме. Уэбб нашел в туннеле свидетелей тех далеких дней – большие глыбы обработанного камня, сломанные колонны, плиты мостовой и даже нечто, бывшее некогда, по-видимому, прекрасной статуей.
В глубине туннеля он подставил ладони под трубу и снова напился, потом вернулся на поверхность и сел возле входа в туннель, меряя взглядом пустынные марсианские просторы.
Нужны силы и инструменты – силы многих людей, чтобы перекопать и просеять песок и открыть город миру. Понадобятся годы кропотливого, упорного труда – а у него нет даже обыкновенной лопатки. А еще того хуже – нет и времени. Если семеро не вернутся с едой, ему не останется ничего другого, как спуститься вновь в темноту туннеля, чтоб его человеческий прах с течением лет смешался с древней пылью чужого мира.
«А ведь была лопатка, – вдруг припомнил он. – Уомпус и Ларс, когда бросили меня, оставили мне лопатку. Вот уж воистину редкая предусмотрительность…» Но из снаряжения, что он унес тем памятным утром от потухшего костра, сохранились лишь два предмета: спальный мешок и пистолет у пояса. Без всего остального можно было обойтись, эти два предмета были абсолютно необходимы.
«Эх ты, археолог, – подумал он. – Археолог, натолкнувшийся на величайшую находку за всю историю археологии и не способный предпринять по этому поводу ровным счетом ничего…»
Уомпус и Ларс подозревали, что здесь зарыты сокровища. Только зря: не было тут никакого определенного сокровища, которое можно откопать и взять в руки. Он подумал о славе – но и славы тут не было. Подумал о знаниях – но без лопатки и какого-то запаса времени знаний не было тоже. Если не считать знанием тот голый факт, что он оказался прав и город действительно существовал.
Впрочем, кое-какие знания ему все же удалось приобрести. Например, он узнал, что семь разновидностей «древних» еще не вымерли и, следовательно, их раса может продолжать себя, невзирая на выстрелы и капканы, невзирая на жадность и вероломство песковиков, затеявших охоту на Седьмых ради пятидесятитысячедолларовых шубок.
Семь крошечных существ семи различных полов. И все семь необходимы для продолжения рода. Шестеро безуспешно искали Седьмого, а он, Уэбб, нашел. И поскольку он нашел Седьмого, поскольку выступил в роли посредника, раса «древних» продлит себя по крайней мере еще на одно поколение.
«Но что за смысл, – спросил он себя, – продлевать дни расы, утратившей свое назначение?..»
Он покачал головой.
«Усмири гордыню, – сказал себе Уэбб. – Кто дал тебе право судить? Или смысл есть во всем на свете, или смысла нет ни в чем, и не тебе это решать. Есть смысл в том, что я добрался до города, или нет? Есть смысл в том, что я, очевидно, здесь и умру? Или моя смерть среди руин – не более чем случайное отклонение в великой цепи вероятностей, которая движет планеты по их орбитам и приводит человека под вечер к порогу родного дома?..»
И еще он приобрел четкое представление о безграничных просторах и о жестоком одиночестве, которые вместе взятые и есть марсианская пустыня. Представление о пустыне и о странной, почти нечеловеческой отрешенности, какой она наполняет душу.
«Да, это урок», – подумал он.
Урок, что человек сам по себе – лишь мельчайшая помарка на полотне вечности. Урок, что одна жизнь относительно несущественна, если сравнивать ее с ошеломляющей истиной – чудом всего живого.
Он поднялся и встал в полный рост – и осознал с пронзительной ясностью свою ничтожность и свое смирение перед лицом необжитых далей, убегающих во все стороны, и перед аркой неба, изогнувшейся над головой от горизонта к горизонту, и перед мертвой тишиной, царящей над планетой и над просторами неба.
Умирать от голода – занятие нудное и непривлекательное.
Некоторые виды смерти быстры и опрятны. Смерть от голода не принадлежит к их числу.
Семеро не вернулись. Однако Уэбб по-прежнему ждал их и, поскольку все еще испытывал к ним симпатию, искал оправдания их поведению. «Они не понимают, – убеждал он себя, – как недолго человек может протянуть без еды. Странная физиология, – доказывал он себе, – требующая участия семи личностей, приводит, вероятно, к тому, что зарождение потомства превращается в сложный и длительный процесс, немилосердно долгий с человеческой точки зрения. А может, с ними что-нибудь случилось, может, у них какие-нибудь свои заботы. Как только они справятся с этими заботами, они вернутся и принесут мне еду…»
Он умирал от голода, преисполненный добрых мыслей и терпения, куда большего, чем мог бы ожидать от себя даже в более приятных обстоятельствах. И вдруг обнаружил, что, несмотря на слабость от недоедания, проникающую в каждую мышцу и в каждую косточку, несмотря на изматывающий страх, пришедший на смену острым мукам голода и не стихающий ни на мгновение даже во сне, – несмотря на все это, разум оказался не подвластен демонам, разрушающим тело; напротив, разум как бы обострился от недостатка пищи, как бы отделился от истерзанного тела и стал самостоятельной сущностью, которая впитала в себя все его способности и сплела их в тугой узел, почти не подверженный воздействию извне.
Уэбб часами сидел на гладком камне, некогда составлявшем, по-видимому, часть горделивого города, а ныне валяющемся в нескольких ярдах от входа в туннель, и неотрывно глядел на умытую солнцем пустыню – миля за милей она стелилась до недосягаемого горизонта. Своим обостренным умом, проникающим, казалось, до самых корней бытия и истоков случайности, он искал смысла в череде произвольных факторов, скрытых под мнимой упорядоченностью Вселенной, искал хоть какого-то подобия системы, доступной пониманию. Зачастую ему мерещилось даже, что он вот-вот нащупает такую систему, но всякий раз она в последний момент ускользала от него, как ускользает ртуть из-под пальцев.
Тем не менее он понимал: если Человеку суждено когда-либо найти искомое, это может произойти лишь в местах, подобных марсианской пустыне, где ничто не отвлекает внимания, где есть перспектива и нагота, необходимые для сурового обезличивания, которое одно оттеняет и сводит на нет непоследовательность человеческого мышления. Ведь достаточно размышляющему подумать о себе как о чем-то безотносительном к масштабу исследуемых фактов – и условия задачи будут искажены, а уравнение, если это уравнение, никогда не придет к решению.
Сперва Уэбб пытался охотиться, чтобы раздобыть себе пищу, но странное дело: в то время как пустыня кишмя кишела хищными тварями, подстерегающими других, нехищных, зона вокруг города оставалась практически безжизненной, словно некто очертил ее магическим меловым кругом. На второй день охоты Уэбб подстрелил зверушку, которая на Земле могла бы сойти за мышь. Он развел костер и зажарил свою добычу, а позже разыскал высушенную солнцем шкурку и без конца жевал и высасывал ее в надежде, что в ней сохранилась хотя бы капля питательности. Но кроме этой зверушки, он не убил никого – убивать было некого.
И пришел день, когда он понял, что семеро не вернутся, что они и не собирались возвращаться, а бросили его точно так же, как до них его бросили люди. Он понял, что его оставили в дураках, и не один раз – дважды.
Уж если он тронулся в путь, то и должен был идти на восток, только на восток. Не следовало поворачивать вслед за Седьмым, чтобы присоединиться к шестерым, поджидающим Седьмого в ущелье.
«А может, я и добрался бы до поселений, – говорил он себе теперь. – Вот взял бы и добрался. Разве это исключено, что добрался бы?..»
На восток! На восток, в сторону поселений!
Вся история человечества – погоня за невозможным, и притом нередко успешная. Тут нет никакой логики: если бы человек неизменно слушался логики, то до сих пор жил бы в пещерах и не оторвался бы от Земли.
«Пробуй!» – сказал себе Уэбб, впрочем, не вполне понимая, что говорит.
Он опять спустился с холма и побрел по пустыне, двигаясь на восток. Здесь, на холме, надежды не оставалось; там, на востоке, теплилась надежда.
Пройдя примерно милю от подножия холма, он упал. Потом протащился, падая и поднимаясь, еще милю. Потом прополз сто ярдов. Именно тогда его и отыскали семеро «древних».
– Дайте мне есть! – крикнул он им и почувствовал, что хотел крикнуть в полный голос, а не издал ни звука. – Есть! Пить!..
– Мы позаботимся, – отвечали семеро и, приподняв Уэбба за плечи, заставили сесть.
– Жизнь, – обратился к нему Седьмой, – обтянута множеством оболочек. Словно набор полых кубиков, точно вмещающихся один в другом. Внешняя оболочка прожита, но сбрось ее – и там внутри окажется новая жизнь…
– Ложь! – воскликнул Уэбб. – Ты не умеешь так связно говорить. Ты не умеешь так стройно мыслить. Тут какая-то ложь…
– Внутри каждого человека скрыт другой, – продолжал Седьмой. – Много других…
– Ты про подсознание? – догадался Уэбб, но, задав свой вопрос в уме, мгновенно понял, что губами не произнес ни слова, ни звука. И еще понял наконец, что Седьмой тоже не произносил ни звука – потому только и возникали слова, каких не могло быть в жаргоне пустыни: они отражали мысли и знания, совершенно чуждые боязливым существам, прячущимся в самой дальней марсианской глуши.
– Сбрось с себя старую жизнь и вступишь в новую, прекрасную жизнь, – заявил Седьмой, – только надо знать как. Есть строго определенные приемы и определенные приготовления. Нельзя браться за дело, не ведая ни того ни другого, – только все испортишь.
– Приготовления? – переспросил Уэбб. – Какие приготовления? Я никогда и не слышал об этом…
– Ты уже подготовлен, – заявил Седьмой. – Раньше не был, а теперь подготовлен.
– Я много думал, – отозвался Уэбб.
– Ты много думал, – подхватил Седьмой, – и нашел частичный ответ. Сытый, самодовольный, самонадеянный землянин ответа не нашел бы. Ты познал себя.
– Но я и приемов не знаю, – возразил Уэбб.
– Мы знаем приемы, – заявил Седьмой. – Мы позаботимся.
Вершина холма, где лежал мертвый город, вдруг замерцала, и над ней вознесся мираж. Из могильников, полных запустения, поднялись городские башни и шпили, пилоны и висячие мосты, сияющие всеми оттенками радуги; из песка возникли роскошные сады, цветочные клумбы и тенистые аллеи, и над всем этим великолепием заструилась музыка, летящая с изящных колоколен.
Вместо песка, пылающего зноем марсианского полудня, под ногами росла трава. А вверх по террасам, навстречу чудесному городу на холме, бежала тропинка. Издалека донесся смех: там под деревьями, на улицах и садовых дорожках, виднелись движущиеся цветные пятнышки…
Уэбб стремительно обернулся – семерых и след простыл. И пустыню как ветром сдуло. Местность, раскинувшаяся во все стороны, отнюдь не была пустыней – дух захватывало от ее красоты, от живописных рощ и дорог и неторопливых водных потоков.
Он опять повернулся в сторону города и присмотрелся к мельканию цветных пятнышек.
– Люди!.. – удивился он.
И откуда-то, неизвестно откуда, послышался голос Седьмого:
– Да, люди. Люди с разных планет. И люди из далей более дальних, чем планеты. Среди них ты встретишь и представителей своего племени. Потому что из землян ты здесь тоже не первый…
Исполненный изумления, Уэбб зашагал по тропинке вверх. Изумление быстро гасло и, прежде чем он достиг городских стен, угасло безвозвратно.
Уомпус Смит и Ларс Нелсон вышли к тому же холму много дней спустя. Они шли пешком – пескоход давно сломался. У них не осталось еды, кроме того скудного пропитания, что удавалось добыть по дороге, и во флягах у них плескались последние капли воды, – а воды взять было негде.
Неподалеку от подножия холма они наткнулись на высушенное солнцем тело. Человек лежал на песке лицом вниз, и только перевернув его, они увидели, кто это.
Уомпус уставился на Ларса, замершего над телом, и прокаркал:
– Откуда он здесь взялся?
– Понятия не имею, – ответил Ларс. – Без знания местности, пешком ему бы сюда вовек не добраться. А потом это было ему просто не по пути. Он должен был идти на восток, туда, где поселения…
Они обшарили его карманы и ничего не нашли. Тогда они забрали у него пистолет – их собственные были уже почти разряжены.
– Какой в этом толк! – бросил Ларс. – Мы все равно не дойдем.
– Можем попробовать, – откликнулся Уомпус.
Над холмом замерцал мираж – город с блистающими башнями и головокружительными шпилями, с рядами деревьев и фонтанами, брызжущими искристой водой. Слуха людей коснулся – им померещилось, что коснулся, – перезвон колокольчиков. Уомпус сплюнул, хоть губы растрескались и пересохли и слюны давно не осталось:
– Проклятые миражи! От них того и гляди рехнешься…
– Кажется, до них рукой подать, – заметил Ларс. – Подойди и тронь. Словно они отделены от нас занавеской и не могут сквозь нее прорваться…
Уомпус снова сплюнул и сказал:
– Ну ладно, пошли…
Оба разом отвернулись и побрели на восток, оставляя за собой в марсианских песках неровные цепочки следов.
СоседМеста у нас в Енотовой долине – краше не сыщешь. Но не стану отрицать, что лежит она в стороне от больших дорог и не сулит легкого богатства: фермы здесь мелкие, да и земли не слишком плодородные. Пахать можно только в низинах, а склоны холмов годны разве что для пастьбы, и ведут к ним пыльные проселки, непроходимые в иное время года.
Понятное дело, старожилам вроде Берта Смита, Джинго Гарриса или меня самого выбирать не приходится: мы в этих краях выросли и давно распрощались с надеждой разбогатеть. По правде говоря, мы чувствуем себя не в своей тарелке, едва высунемся за пределы долины. Но попадаются порой и другие, слабохарактерные: чуть приехали, года не прожили – и уже разочаровались, снялись и улепетнули. Так что по соседству у нас непременно найдется ферма, а то и две на продажу.
Люди мы простые и бесхитростные. Ворочаемся себе в одиночку в грязи, не помышляя ни о сложных машинах, ни о племенном скоте, а впрочем, что ж тут особенного: обыкновенные фермеры, каких немало в любом конце Соединенных Штатов. И раз уж мы живем обособленно и кое-кто по многу лет, то, пожалуй, можно сказать, что мы теперь стали как бы одной семьей. Хотя из этого вовсе не следует, что мы чураемся посторонних, – просто живем мы вместе так давно, что научились понимать и любить друг друга и принимать вещи такими, каковы они есть.
Мы, конечно, слушаем радио – музыку и последние известия, а некоторые даже выписывают газеты, но, боюсь, по натуре мы все-таки бирюки – уж очень трудно расшевелить нас какими-нибудь мировыми событиями. Все наши интересы – здесь, в долине, и нам если говорить откровенно, недосуг беспокоиться о том, что творится за тридевять земель. Чего доброго, вы решите, что мы к тому же еще и консерваторы: голосуем мы обычно за республиканцев, даже не утруждая себя вопросом «почему», и сколько ни ищите, не найдется среди нас такого, у кого хватило бы времени отвечать на адресованные фермерам правительственные анкеты и тому подобную дребедень.
И всегда, сколько я себя помню, в долине у нас все шло хорошо. Я сейчас не про землю, я про людей говорю. Нам всегда везло на соседей. Новички появляются что ни год, а вот поди ж ты: ни одного подонка среди них не попалось, а это для нас куда как важно.
Но, признаться, мы всякий раз тревожимся, когда кто-нибудь из нетерпеливых снимается с места и уезжает, и гадаем промеж себя, что за люди купят или арендуют опустевшую ферму.
Ферма, где жил когда-то старый Льюис, была заброшена так давно, что все постройки обветшали и порушились, а поля заросли травой. Правда, года три или четыре подряд ее арендовал зубодер из Гопкинс-Корнерс. Держал там кой-какую скотину, а сам наведывался только по субботам. А мы в своем кругу все думали, захочет ли там еще кто-нибудь пахать, но в конце концов даже думать перестали: ферма пришла в такое запустение, что мы решили – охотников на нее больше не сыщется. И вот однажды я заглянул в Гопкинс-Корнерс к тамошнему банкиру, представлявшему интересы владельцев, и заявил, что если зубодер не станет продлевать аренду, то я, пожалуй, не против. Но банкир ответил, что хозяева фермы, проживающие где-то в Чикаго, желали бы не сдавать ее, а продать совсем. Хотя лично он ни на что подобное не надеется: кто же ее в таком виде купит!
Однако смотрим – весной на ферме объявились новые люди. А спустя какой-то срок узнаем, что ее все-таки продали и нового владельца зовут Хит, Реджинальд Хит. И Берт Смит сказал мне:
– Реджинальд, подумать только! Ну и имечко у нового фермера!..
Больше он, правда, ничего не сказал. А Джинго Гаррис, возвращаясь как-то из города, увидел, что Хит вышел во двор, и завернул к нему на часок. Сами знаете, такое меж добрыми соседями водится, и Хит вроде обрадовался, что Джинго завернул к нему, только тот все равно нашел, что новичок мало похож на фермера.
– Иностранец он, вот кто, – втолковывал мне Джинго. – С лица весь темный. Вроде как испанец или из какой другой южной страны. И откуда он только выкопал имя Реджинальд! Имя английское, а он никакой не англичанин…
Позже мы услышали, что Хит и не испанец даже, а откуда-то с самого края света. Но англичане, испанцы или кто там еще, а только он и его домашние показали себя работягами всем на зависть. Их было всего-то трое: он, жена да дочка лет четырнадцати, зато все трое трудились от темна до темна – умело, старательно, ни к кому попусту не приставая. И мы стали их за это уважать, хотя наши дорожки пересекались не так уж часто. Не то чтобы мы того не хотели или они нас отваживали. Просто в таких общинах, как наша, новых соседей признают не сразу, а постепенно: они вроде как должны сами врасти в нашу жизнь.
У Хита был старый-престарый, латанный-перелатанный трактор, весь подвязанный проволочками, а уж тарахтел этот трактор – не приведи бог! Но едва земля подсохла достаточно, чтобы пахать, сосед принялся поднимать поля, совсем заросшие за долгие годы. Я частенько диву давался – уж не пашет ли он всю ночь напролет, потому что не раз слышал тарахтенье и тогда, когда уже собирался ко сну. Хоть это было не так поздно, как, может, покажется горожанину: мы здесь, в долине, ложимся рано, зато и встаем ни свет ни заря.
И вот как-то вечером пришлось мне выйти из дому в поисках двух пропавших телок – из тех неуемных, кому любой забор нипочем. Только представьте себе: время позднее, человек пришел с работы усталый, да еще и дождик моросит, и на дворе темно – хоть глаз выколи, а тут выясняется, что эти две телки опять куда-то запропастились, и хочешь не хочешь, а надо подниматься и идти их искать. И на какие только хитрости я с ними ни пускался, а все без толку. Если уж телка пошла выкидывать номера, то хоть тресни, а ничего с ней не поделаешь.
Засветил я фонарь и отправился на поиски. Промучился часа два, а телки как сквозь землю провалились. Я было совсем отчаялся и решил возвращаться домой, как вдруг понял, что нахожусь чуть выше западной межи прежнего Льюисова поля. Теперь, чтобы попасть домой, мне короче всего было идти вдоль поля, а значит, можно и подождать чуток, пока трактор воротится с дальнего конца борозды, и заодно спросить Хита, не видал ли он этих чертовых телок.
Ночь выдалась темная, звезды попрятались за облаками, в верхушках деревьев шумел ветер, и в воздухе пахло дождем. Я еще сказал себе, что, наверное, Хит решил поработать сегодня лишний часок, чтобы закончить вспашку до дождя. Хотя нет, я уже тогда подумал, что он, пожалуй, усердствует через край. Он и так успел обогнать с пахотой всех остальных в долине.
Ну вот, спустился я с крутого склона и перешел ручеек, благо знал, где мелко. Но пока я искал это мелкое место, трактор сделал полную ходку и ушел. Я поискал глазами, не мелькнет ли где свет от фар, но ничего не разглядел и рассудил, что света, должно быть, не видать за деревьями.
Потом я добрался до поля, пролез меж жердями ограды и зашагал через борозды трактору наперерез. Было слышно, как он повернул в конце поля и затарахтел обратно в мою сторону. Но странно: шум я слышал явственно, а света по-прежнему не было и в помине.
Я нашел последнюю свежую борозду и встал, поджидая, – и не то чтобы сразу встревожился, но все же подивился, как это Хит умудряется держать борозду, не зажигая огней. Помнится, я еще подумал тогда, что, может, у него глаза как у кошки и он умеет видеть в темноте. Теперь-то, когда вспоминаю про это, мне и самому смешно становится: с чего я, в самом деле, взял, что у Хита глаза как у кошки, – но тогда мне было не до смеха.
Трактор тарахтел все сильнее, все ближе с каждой секундой – и вдруг как выскочит из темноты прямо на меня! Я испугался, как бы не попасть под колеса, и отпрыгнул ярда на два, если не на три. Да что там испугался – душа в пятки ушла, а только мог бы и не прыгать: стой я столбом, я тоже не оказался бы на дороге.
Трактор прошел мимо, и тогда я замахал фонарем и крикнул Хиту, чтобы притормозил. Но когда я махал фонарем, то поневоле осветил кабину – и обнаружил, что она пуста.
Сотня разных предположений пронеслась у меня в голове, но запала одна ужасная мысль: не иначе как Хит сверзился с трактора и лежит где-нибудь в поле, истекая кровью.
Я помчался вдогонку за трактором, чтоб успеть заглушить его прежде, чем он сойдет с борозды и врежется в дерево или еще куда-нибудь, да только чуточку припоздал, и он достиг поворота раньше меня. И что бы вы думали – пошел на поворот сам собой, и так точно, словно вокруг был ясный день и за рулем сидел тракторист.
Вскочив на заднюю тягу, я уцепился за сиденье и кое-как влез наверх. Потом протянул руку и взялся за рычаг газа, хотел было заглушить двигатель, но, едва рука коснулась рычага, передумал. Трактор уже завершил поворот и сам собой пошел по новой борозде – но дело было не только в этом.
Возьмите вы любой старый трактор, который чихает, кашляет и гремит на ходу, угрожая развалиться на части, и полезайте в кабину – да у вас зубы тут же сведет от вибрации! Этот трактор тоже чихал и кашлял честь по чести, а никакой вибрации не возникало. Он катился вперед плавно, как дорогой лимузин, и лишь слегка подрагивал, когда колеса наезжали на бугор или попадали в рытвину.
Так я и стоял, одной рукой придерживая свой фонарь, а другой сжимая рычаг газа – и не предпринимая больше ничего. А когда доехал до места, где трактор нацелился на новый разворот, то просто спрыгнул на землю и отправился домой. Искать соседа, лежащего бездыханным на поле, я не стал, потому что понял: Хита на поле не было и нет.
Мне бы сразу задаться вопросом, как же это все получается, только я не позволил себе тогда мучиться в поисках ответа. Должно быть, поначалу я был слишком ошарашен. Можно волноваться сколько влезет обо всяких пустяках, если они идут не так, как надо, но, когда напорешься на что-то по-настоящему большое и непонятное, вроде этого трактора без тракториста, лучше уж сразу, без долгих слов поднять руки вверх: все равно тебе с твоим умишком с такой загадкой не совладать, на это нет ни единого шанса из тысячи. Пройдет какое-то время – ты и вовсе позабудешь про встречу с загадкой. Раз ее нельзя решить, остается только выкинуть ее из головы.
Я вернулся домой и еще постоял немного на дворе, прислушиваясь. Ветер разошелся не на шутку, и снова стал накрапывать дождь, но как только ветер чуть-чуть стихал, до меня по-прежнему доносилось тарахтенье трактора.
Когда я вошел в дом, Элен с ребятами уже крепко спали, так что я не мог никому ничего рассказать. А на следующий день, обдумав все хорошенько, и подавно не стал ничего рассказывать. Как сам теперь понимаю, главным образом потому, что мне все равно никто бы не поверил и я только навлек бы на себя кучу насмешек – уж соседи не упустили бы случая проехаться насчет автоматических тракторов.
Хит закончил пахоту, а затем и сев гораздо раньше всех остальных в долине. Всходы появились дружно, погода выдалась как по заказу. Правда, в июне вдруг зачастили дожди, и никак не удавалось прополоть кукурузу – разве выйдешь в поле, когда земля вся насквозь сырая! Мы слонялись по своим усадьбам, подправляли заборы, занимались разной другой ерундой, поносили погоду и бессильно смотрели, как зарастают сорняками непрополотые поля.
То есть слонялись все, кроме Хита. У него кукуруза была как на выставке – сорняки разве что в лупу и углядишь. Джинго не утерпел, завернул к нему и полюбопытствовал, как это у него получается, а Хит только усмехнулся в ответ тихой такой, беззлобной усмешечкой и заговорил о другом.
Наконец подошло время яблочных пирогов – яблоки хоть и были еще зеленые, но на пироги в самый раз, – а надо сказать, во всей долине никто не печет их лучше, чем Элен. Она у меня что ни год берет за свои выпечки призы на окружной ярмарке и очень этим гордится.








