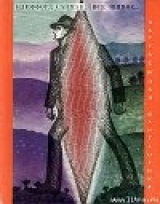
Текст книги "Все живое..."
Автор книги: Клиффорд Дональд Саймак
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)
Он попросту боится, что мы спутаем все карты, вот в чем суть. Хочет, чтоб все было шито-крыто.
– И притом, нет достаточно веских доказательств… – продолжал сенатор.
– А вот Дэйвенпорт думает, что есть.
– Вы говорили с Дэйвенпортом?
– Нет, не говорил, – со спокойной совестью ответил я.
– Дэйвенпорт в таких вещах не разбирается. Он – ученый, привык к уединению, вне стен своей лаборатории он теряется…
– А мне он понравился. По-моему, у него и голова и сердце на месте.
Эх, зря я это сказал: мало того, что сенатор напуган, теперь я его еще и смутил.
Я дам вам знать, – сказал он довольно холодно. – Как только сам что-либо узнаю, извещу вас или Джералда. Я сделаю все, что в моих силах. Думаю, что вам не о чем тревожиться. Главное – старайтесь, чтобы барьер не сдвинулся с места, главное – сохраняйте спокойствие. Больше вам ни о чем не надо заботиться.
– Ну еще бы, сенатор, – сказал я.
Мне стало очень противно.
– Спасибо, что позвонили. Я буду поддерживать с вами связь.
– До свидания, сенатор.
И я положил трубку. Джо смотрел вопросительно. Я покачал головой.
– Ничего он не знает и говорить не хочет. Я так понимаю, ничего он и не может. Не в его власти нам помочь.
По тротуару простучали шаги, и тотчас дверь распахнулась. Я обернулся – на пороге стоял Хигги Моррис.
Надо же, чтобы в такую минуту нелегкая принесла именно его!
Он поглядел мне в лицо, перевел глаза на Джо и снова на меня.
– Что это с вами, ребята?
Я в упор смотрел на него. Хоть бы он убрался отсюда! Да нет, не уйдет…
– Надо ему сказать, Брэд, – услышал я голос Джо.
– Валяй, говори.
Хигги не шелохнулся. Он так и остался у двери и слушал. Джо рассказывает, а Хигги стоит истукан истуканом, глаза остекленели. Ни разу не пошевелился, не перебил ни словом.
Наступило долгое молчание. Потом Хигги спросил:
– Как ты считаешь, Брэд, могут они учинить над нами такое?
– Могут. Они все могут. Если барьер опять двинется с места. Если еще что-нибудь стрясется.
Тут его как пружиной подбросило:
– Так какого черта мы тут торчим? Надо скорее копать.
– Копать?
– Ну да. Бомбоубежище. Рабочей силы у нас сколько угодно. В городе полно народу, и все слоняются без дела. Поставим всех на работу. В депо у вокзала есть экскаватор и всякий дорожный инструмент, по Милвилу раскидано десятка полтора грузовиков. Я назначу комиссию, и мы… послушайте, ребята, да что это с вами?
– Хигги, ты просто не понял, – почти ласково сказал Джо. – Это ведь не какие – нибудь радиоактивные осадки выпадут, бомбу влепят прямо в нас. Тут никакое убежище не спасет. Такое, чтоб спасло, и за сто лет не построить.
– Надо попробовать, – долбил свое Моррис.
– Нам не зарыться так глубоко и не построить так прочно, чтоб это убежище выдержало прямое попадание, – сказал я. – А если даже и удалось бы, ведь нужен кислород…
– Надо же что-то делать! – заорал Хигги. – Неужели просто сидеть сложа руки? Кой черт, нас же всех убьет!
– Да, брат, плохо твое дело, – сказал я.
– Слушай, ты… – начал Хигги.
– Хватит! – крикнул Джо. – Хватит вам! Может, вы и опротивели друг другу, но действовать надо всем вместе. Выпутаться можно. У нас и правда есть убежище. Я вытаращил глаза – и тут же понял, куда он гнет.
– Нет! – закричал я. – Так нельзя. Пока нельзя. Как же ты не понимаешь? Тогда мы загубим всякую надежду на переговоры. Нельзя, чтобы они узнали!
– Ставню десять против одного, что они уже знают, – сказал Джо.
– Ничего не понимаю! – взмолился Хигги. – Какое у нас убежище, откуда?
– Другой мир, – объяснил Джо Эванс. – Смежный мир, тот самый, где побывал Брэд. В крайнем случае мы перейдем туда. Они о нас позаботятся, они нас не выгонят. Будут выращивать для нас еду, найдется распорядитель – приглядит, чтоб мы не болели, и…
– Ты кое о чем забываешь. – перебил я. – Мы не знаем, как туда попасть. Было одно такое место в саду, но теперь там все переменилось. Цветов больше нет, одни долларовые кустики.
– Пускай распорядитель и Смит нам покажут. Они-то уж наверняка знают дорогу.
– Их уже нету, – сказал Хигги. – Они ушли к себе. Больных никого не осталось, и тогда они сказали, что им пора, а если нам понадобится, они опять придут. Я их отвез к твоему дому, Брэд, и они живо отыскали дверь или как это там называется. Просто пошли в сад, раз – и исчезли.
– А ты найдешь это место? – спросил Джо.
– Да, пожалуй. Я примерно знаю, где это.
– Стало быть, надо будет, так найдем, – вслух соображал Джо. – Составим цепь, да поплотнее, плечом к плечу, и двинемся через сад.
– Думаешь, это так просто? – сказал я. – Может, там не всегда открыто.
– Как так?
– Если б этот ход все время был открыт, у нас бы за последние десять лет куча народу без вести пропала, – стал объяснять я. – Там и детишки играют, и взрослые ходят напрямик, кому надо поскорее. Я всегда той дорогой хожу к доктору Фабиану, и не я один, там многие топают взад и вперед. Кто-нибудь уж как пить дать проскочил бы в эту дверь, если бы она всегда была открыта.
– Ну, ладно, тогда давайте им позвоним, – предложил Хигги. – Возьмем один из этих телефонов…
– Нет, – сказал я. – Просить у них помощи – это только на самый крайний случай. Ведь обратного пути, скорей всего, не будет, мы отколемся от человечества – и конец.
– Все лучше, чем помирать, – сказал Хигги.
– Не надо кидаться очертя голову, – продолжал я уговаривать их обоих. – Пусть люди сперва сами все обдумают и сообразят. Может, еще ничего и не случится. Нельзя же просить у чужих убежища, покуда мы не знаем точно, что другого выхода нет. Еще есть надежда, что люди и Цветы сумеют договориться. Я знаю, сейчас все это выглядит довольно мрачно, но, если останется малейшая возможность, человечеству никак нельзя отказываться от переговоров.
– Какие уж там переговоры, Брэд, – сказал Джо. – Я думаю, эти чужаки никогда всерьез и не собирались с нами договариваться.
– А все из-за твоего отца, – вдруг заявил Хигги. – Если б не он, ничего бы этого не случилось.
Я чуть было не вспылил, но сдержался.
– Все равно случилось бы. Не в Милвиле, так где-нибудь еще. Не сейчас, так немного погодя.
– В том-то и соль! – обозлился Хигги. – Уж случилось бы, так не у нас, в Милвиле, а где-нибудь в другом месте.
Отвечать было нечего. То есть, конечно, я мог бы ответить, но такого ответа Хигги Моррису не понять.
– И вот что, Брэд Картер, – продолжал он. – Мой тебе добрый совет – гляди в оба. Хайрам так и рвется свернуть тебе шею. Думаешь, ты задал ему трепку, так это к лучшему? Совсем наоборот. И в Милвиле хватает горячих голов, которые с ним заодно. Во всем, что у нас тут стряслось, виноваты вы с отцом, вот как они считают.
– Послушай, Хигги. – вступился Джо. – Никто не имеет права…
– Знаю, что не имеет, – оборвал Хигги. – Но так уж люди настроены. Я постараюсь и впредь блюсти закон и порядок, но ручаться теперь ни за что не могу.
Он опять повернулся ко мне:
– Моли бога, чтоб эта заваруха улеглась, да поскорее. А если не уляжется, заройся поглубже в какую-нибудь нору и даже носу не высовывай.
– Слушай, ты…
Я кинулся к нему с кулаками, но Джо выскочил из-за стола. перехватил меня и оттолкнул.
– Бросьте вы! – гневно крикнул он. – Мало у нас других забот, надо еще вам сцепиться.
– Если слух про бомбу дойдет до наших, я за твою шкуру гроша ломаного не дам, – злобно сказал Хигги. Без тебя тут не обошлось. Люди живо смекнут.
Джо ухватил его и отшвырнул к стене.
– Заткнись, не то я сам заткну тебе глотку!
Он помахал перед носом у Хигги кулаком, и Хигги заткнулся.
– Ладно, Джо, – сказал я, – закон и порядок ты восстановил, все чинно – благородно, так что я тебе больше не нужен. Я пошел.
– Постой, Брэд, – сказал Джо сквозь зубы. – Одну минуту…
Но я вышел и хлопнул дверью.
Уже совсем смерклось, улица опустела. Окна муниципалитета еще светились, но у входа не осталось ни души.
Может, напрасно я ушел? Может, надо было остаться хотя бы затем, чтоб помочь Эвансу урезонить Хигги – как бы тот не наломал дров?
Но нет, что толку. Если бы я и мог что-то присоветовать (а что советовать? В голове хоть шаром покати) – ко всему отнесутся с подозрением. Видно, теперь уж мне никакого доверия не будет. Хайрам с Томом Престоном, конечно, целый день без роздыха внушали милвилцам – дескать, во всем виноват Брэдшоу Картер и давайте с ним поквитаемся.
Я свернул с Главной улицы к дому. Все вокруг тихо и мирно. Набегает летний ветерок, покачиваются подвешенные на длинных кронштейнах уличные фонари, и от этого на перекрестках и на газонах вздрагивают косые тени. В комнатах жарко и душно – окна всюду распахнуты настежь; мягко светятся огни, урывками доносится бормотанье телевизора или радиоприемника.
Тишь да гладь – но под нею таится страх, ненависть, животный ужас; довольно одного слова, неосторожного шага – и все это вырвется наружу, и начнется всеобщее буйное помешательство.
Жгучая обида и негодование мучит всех: почему мы, только мы одни заперты в загоне, точно бессловесная скотина, когда все на свете свободны и живут, как хотят? Возмутительно, несправедливо, бесконечно несправедливо: почему загнали, заперли, обездолили не кого-то другого, а нас? Пожалуй, еще и тревожно, неприятно ощущать, что все на нас глазеют, только о нас и говорят, будто мы и не люди вовсе, а какие – то чудища, уроды. И еще, пожалуй, всех точит стыд и страх, а вдруг весь мир вообразит, что мы сами повинны в своей беде, что это плоды одичания и вырождения или кара за какие-то грехи?
Не диво, если, влипнув в такую историю, люди жадно ухватятся за любое объяснение, лишь бы восстановить свое доброе имя, вновь подняться не только в собственных глазах, но и в глазах всего человечества и в глазах пришельцев; не диво, если они поверят чему угодно, и хорошему и плохому, любым слухам и сплетням, самой несусветной нелепице, лишь бы все окрасилось в ясные и определенные света: вот черное, а вот белое (хоть в душе каждый знает – все сплошь серо!). Ведь там, где есть белое и черное, там найдешь желанную простоту, тогда все легче понять и со всем удобней примириться.
И нельзя их в этом винить. Они не готовы были к тому, что случилось, оно им не по плечу. Долгие-долгие годы они существовали скромно и неприметно в тихой заводи, вдалеке от широкого русла, где неслась и бурлила жизнь большого мира. Крохотные событьица милвилского житья-бытия непомерно разрастались в их глазах, становились историческими вехами: кто же не помнит, как сумасбродный мальчишка, младший из Джонсонов, врезался на ветхом семейном фордике в дерево на Улице Вязов? Или тот день, когда вызывали пожарную команду, чтоб снять кошку мамаши Джоунс с крыши пресвитерианской церкви (никто и по сей день не понимает, как угораздило кошку туда забраться)? Или случай, когда дядюшка Эндрюс с удочкой в руках заснул на берегу реки – и бултых в воду! Спасибо, мимо проходил Лен Стритер и вытащил его; тут уж сон со старика слетел, он так наглотался воды, что на силу отдышался (и пошли рассуждения: а что понадобилось там Лену Стритеру, с чего это его понесло на реку?). Из таких крупиц и складывалась жизнь со всеми ее треволнениями.
И вот перед этими людьми предстало нечто большое, значительное, и они не в силах его постичь; то, что произошло, пока еще слишком огромно и непостижимо не только для них, но для всего человечества. Все слишком сложно, тут не отделаешься праздным любопытством, недоумением зеваки перед кошкой, бог весть как забравшейся на верхотуру, – вот почему им тягостно, неспокойно, в них разгорается досада и злость, того гляди – вспыхнет, прорвется открытой враждебностью, а тогда недалеко и до насилия… был бы повод для насилия, было бы на кого наброситься. Что ж, если придет минута, когда их ярость вырвется наружу, мишень готова – об этом постарались Хайрам Мартин и Том Престон.
Идти уже недалеко. Я поравнялся с обителью нашего банкира Дэна Виллоуби – этакая огромная скучная махина из кирпича, с первого взгляда всякий догадается, что в таком доме может жить только тип вроде Дэниела Виллоуби. Напротив, на углу, дом старика Перкинса. С неделю назад сюда въехали новые жильцы. Это один из немногих домов у нас, в Милвиле, которые сдаются внаем, и обитатели его меняются чуть не каждый год. Никто даже не дает себе труда с ними знакомиться – охота время тратить! А дальше, в конце улицы, живет доктор Фабиан.
Еще несколько минут – и я буду у себя, в доме с продырявленной насквозь крышей, в пустых гулких комнатах, наедине с вопросом, на который нет ответа, а за оградой будут меня подстерегать подозрительность и ненависть всего Милвила.
На той стороне улицы хлопнула дверь, кто-то, громко топая, бежал по веранде. И тотчас раздался крик:
– Уолли, нас хотят бомбить! Сказали по телевизору!
Из темноты приподнялась большая сутулая тень – кто-то лежал на траве или на низко, у самой земли, расставленном шезлонге, я и не видал его, пока он не вскинулся на крик.
В горле у него булькало, он силился что-то сказать и не мог.
– Экстренное сообщение! – кричал тот, с веранды. – Сейчас передают! По телевизору!
Второй, с шезлонга, вскочил и кинулся в дом.
И я тоже кинулся бежать. Домой, во весь дух, не думая, не рассуждая, – ноги сами несли меня.
Я-то думал, у меня еще есть немного времени, а времени нет. Не ждал я, что слух разнесется так быстро.
Потому что это сообщение наверняка только еще слух: предполагается, что могут бомбить… говорят, что в самом крайнем случае на Милвил, может быть, сбросят бомбу… Но для нас тут разницы нет. Милвилцам все едино, они не станут разбирать, где слухи, а где факты.
Только этого и не хватало, чтоб ненависть сорвалась с цепи. И все обрушится на меня да, пожалуй, на Джералда Шервуда… будь сейчас в Милвиле Шкалик, досталось бы и ему.
Улица осталась позади; обежав дом доктора Фабиана, я помчался под гору, к сырой низине, где росли долларовые кустики. И уже на полпути спохватился: а Хайрам? Днем он сторожил эти кусты, вдруг он и сейчас там? С разгону я насилу остановился, пригнулся к самой земле. Наскоро окинул взглядом склон холма и низину, потом снова, уже медленно, стал всматриваться в каждую тень, подстерегая малейшее движение, которое выдало бы засаду.
Вдалеке послышались крики; наверху кто-то бежал, громыхая по тротуару тяжелые башмаки. Хлопнула дверь, где-то, за несколько кварталов, взревел мотор и рванула с места машина. Из открытого окна слабо донесся взволнованный голос комментатора последних известий, но слов я не разобрал.
Хайрама нигде не было видно.
Я выпрямился и медленно стал спускаться дальше. Вот и сад, теперь напрямик. Впереди уже темнеют старые теплицы и знакомый вяз на углу, тот самый, что поднялся из давнего тоненького побега.
Я дошел до теплиц, остановился на минуту – проверить напоследок, не крадется ли за мною Хайрам, – и двинулся было дальше. Но тут я услышал голос, он позвал меня – и я оцепенел.
Оцепенел, прирос к земле… но ведь я не слышал ни звука!
– Брэдшоу Картер, – вновь позвал беззвучный голос.
И – аромат Лиловости… может быть, даже не аромат, скорее ощущение. Воздух полон им – и вдруг резко, отчетливо вспоминается: так было там, у шалаша Таппера Тайлера, когда Нечто ждало на склоне холма и потом проводило меня домой, на Землю.
– Я слышу, – отозвался я. – Где ты?
Вяз у теплиц словно бы качнулся, хотя ветерок чуть дышал – где ему было качнуть такое дерево.
– Я здесь, – сказал вяз. ~Я здесь давно, долгие годы. Я всегда ждал этой минуты, ждал, когда смогу с тобой заговорить.~
– Ты знаешь? – спросил я.
Глупо спрашивать, конечно же он знает – и о бомбе, и обо всем…
– Мы знаем, – сказал вяз, ~но отчаянию нет места.
– Нет места? – растерянно переспросил я.
– Если мы потерпим неудачу на этот раз, мы попробуем снова. Возможно, в другом мире. Или, может быть, придется подождать, чтобы ради… как это называется?~
– Радиация, вот как это называется, – подсказал я.
– Подождать, чтобы радиация рассеялась.
– На это уйдут годы.
– У нас есть годы, – был ответ. ~У нас есть время, сколько угодно. Нам нет конца. И времени нет конца.~
– А для нас время кончается, – сказал я, и меня захлестнула горькая жалость ко всем людям на свете и сильней всего – к самому себе. – И для меня наступает конец.
– Да, мы знаем, сказала Лиловость. ~Мы очень о вас сожалеем. – Вот когда пора просить помощи! Пора объяснить, что мы попали в беду не по своей воле и не по своей вине – пусть же нас выручают те, кто нас до этого довел!
Так я и хотел сказать, но слова не шли с языка. Не мог я признаться этому чужому, неведомому, в нашей совершенной беспомощности.
Наверно, это просто гордость и упрямство. Но лишь когда я попытался заговорить и убедился, что язык не слушается, лишь тогда я открыл в себе эту гордость и упрямство.
«Мы очень о вас сожалеем», – сказал вяз. Но и жалеть можно по – разному. Что это – подлинная, искренняя скорбь или так только, мимолетная, из чувства долга, жалость того, кто бессмертен, к бренной дрожащей твари в ее смертный час?
От меня останутся кости и тлен, а потом не станет ни костей, ни тлена, лишь забвение и прах, – а Цветы будут жить и жить вовеки веков.
Так вот, нам, кто обратится в тлен и прах, куда важней обладать этой упрямой гордостью, чем другим – сильным и уверенным. Она – единственное, что у нас есть, и только она одна нам опора.
Лиловость… а что же такое Лиловость? Не просто цвет, нечто большее. Быть может, дыхание бессмертия, дух невообразимого равнодушия: бессмертный не может себе позволить о ком-то тревожиться, к кому-то привязаться, ибо все преходящи, все живут лишь краткий миг, а бессмертный идет своей дорогой, в будущее без конца, без предела, – там встретятся новые твари, новые мимолетные жизни, и о них тоже не стоит тревожиться.
А ведь это – одиночество, вдруг понял я, безмерное, неизбывное одиночество, – людям никогда не придется изведать такое…
Безнадежное одиночество, ледяной, неумолимый холод… во мне вдруг шевельнулась жалость. Как-то странно жалеть дерево. Но нет, не дерево мне жаль и не те лиловые цветы, а неведомое. Нечто, которое провожало меня из чужого мира, которое и сейчас здесь, со мной… жаль живую мыслящую материю – такую же, из какой создан и я.
– Я тоже сожалею о тебе, – сказал я и, еще не досказав, опомнился: оно не поймет моей жалости, как не поняло бы и гордости, если бы узнало о ней.
Из-за поворота улицы, идущей по бровке холма, на бешеной скорости вылетела машина, яркий свет фар хлестнул по теплицам. Я отпрянул, но фары погасли, еще не настигнув меня.
Во тьме кто-то позвал меня по имени – чуть слышно и, кажется, пугливо.
Из-за угла, не замедляя скорости, вывернулась еще машина, ее занесло на повороте, взвизгнули шины. Первый автомобиль круто затормозил и, содрогнувшись, замер возле моего дома.
– Брэд, – снова чуть слышно, пугливо позвали из темноты. – Где ты, Брэд?
– Нэнси?! Я здесь. Нэнси.
Что-то случилось, что-то очень скверное. Голос у нее точно натянутая до отказа струна, точно пробивается он сквозь густой туман охватившего ее ужаса. Что-то неладно, иначе не мчались бы так неистово к моему дому эти машины.
– Мне послышалось, ты с кем-то разговариваешь, – сказала Нэнси. – Но тебя нигде не было видно. Я и в комнатах искала, и…
Из-за дома выбежал человек – черный силуэт на миг четко обрисовался в свете уличного фонаря. Там, за домом, были еще люди – слышался топот бегущих, злобное бормотанье.
– Брэд, – опять сказала Нэнси.
– Тише, – предостерег я. – Что-то неладно.
Наконец-то я ее увидел. Спотыкаясь в темноте, она шла ко мне.
Возле дома кто-то заорал:
– Эй, Картер! Мы же знаем, ты у себя! Выходи, не то мы сами тебя вытащим!
Я бегом кинулся к Нэнси и обнял ее. Она вся дрожала.
– Там целая орава, – сказала она.
– Хайрам со своей шатией, – сказал я сквозь зубы.
Зазвенело разбитое стекло, в ночное небо взметнулся длинный язык огня.
– Ага, черт подери! – злорадно крикнул кто-то. – Может, теперь ты вылезешь?
– Беги, – велел я Нэнси. – Наверх. Спрячься за деревьями.
– Я от Шкалика, – зашептала она. – Я его видела, он послал меня за тобой.
В доме вдруг разгорелось яркое пламя. Окна столовой вспыхнули, как глаза разъяренного зверя. В отсветах пожара бессмысленно, неистово приплясывали и вопили черные фигуры.
Нэнси повернулась и побежала, я кинулся за нею, и тут позади, перекрывая разноголосицу горланящей толпы, рявкнул оглушительный бас:
– Вот он! В саду!
Что-то дало мне подножку, я споткнулся и с разбегу ухнул в долларовые кусты. Колючие ветки царапали лицо, цеплялись за одежду, с трудом я поднялся на ноги, огляделся.
Из отверстия в крыше, пробитого «машиной времени», взбесившимся фонтаном хлещет пламя. Все стихло, только рычит огонь, пожирая дом изнутри, вгрызаясь в балки и стены.
А люди молча бегут вниз, в сад. Доносится гулкий топот, тяжелое, прерывистое дыхание.
Наклоняюсь, шарю по земле – вот оно, то, обо что я споткнулся. Обломок деревянного бруса длиной фута в четыре, чуть подгнивший по краям, но еще крепкий.
Дубинка. И на том конец. Но пока меня прикончат, один из них тоже распрощается с жизнью… а может быть, и двое.
– Беги! – кричу я Нэнси, она где-то там, хоть ее и не видно.
Осталось одно, еще только одно я должен сделать. Разбить, этой дубиной башку Хайраму Мартину, пока меня не захлестнула толпа.
Вот они уже сбежали с холма, несутся по ровному месту, через сад. Впереди – Хайрам. Стою и жду с дубиной наготове; а Хайрам все ближе, на темном лице, точно белый шрам, блестят оскаленные зубы.
Надо метить между глаз, расколю ему башку пополам. А потом стукну и еще кого – нибудь… если успею.
Пожар разгорелся в полную силу, ведь дерево старое, сухое, даже и сюда пышет жаром.
А эти уже совсем близко… Я крепче сжал дубинку, занес повыше, жду.
Вдруг, в нескольких шагах от меня, они сбились, затоптались из месте… одни попятились, другие застыли, рты разинуты, глаза вытаращены, и в них – изумление, ужас. Уставились не на меня, а на что-то позади меня.
И вот – шарахнулись, бегут со всех ног обратно, вниз, и еще громче, чем рев огня, их отчаянный вой… словно мчится и ревет перепуганное насмерть стадо, гонимое степным пожаром.
Как ужаленный, оборачиваюсь… а, это те, из чужого мира! Черные тела поблескивают в дрожащих отсветах пожара, серебристые перья лохматых голов чуть колышутся на ветру. Они подходят ближе и щебечут, щебечут на своем непонятном, певучем языке.
Не терпится им, черт возьми! Слишком поторопились, лишь бы не упустить хоть единую предсмертную дрожь объятого ужасом клочка нашей Земли.
Не только сегодня – снова и снова вечерами они станут сюда приходить, станут возвращать послушное им время к этой роковой минуте. Нашлось еще одно место, где можно стоять и ждать, пока начнется зрелище, есть еще один призрачный дом, зияющий провалами окон, через которые можно заглянуть в безумие и ужас иного мира.
Они приближаются, а я стою и жду, сжимая дубину, и вдруг опять – дыхание Лиловости и знакомый неслышный голос.
– Назад, – говорит голос. – Назад. Вы пришли слишком рано. Этот мир не открыт. – Издали кто-то зовет, но ничего не различить а грохоте и треске пожара, в звонком, взволнованном певучем щебете этих беззаботных вампиров, проскользнувших к нам из лиловой страны Таппера Тайлера.
– Идите назад, – повторил вяз, неслышные слова хлестнули, как взмах бича.
И они ушли – исчезли, растворились в непостижимой тьме, во мраке более густом и черном, чем сама ночь.
Вяз, который разговаривает… а сколько еще есть говорящих деревьев? Много ли здесь осталось от Милвила? Сколько уже принадлежит другому, лиловому миру? Я поднимаю голову, смотрю на вершины деревьев, стеной окружающих сад, – призрачные тени в темном небе, они трепещут под дуновением странного ветра, что веет неведомо откуда. Трепещут на ветру… а быть может, тоже говорят о чем-то?. Кто они – прежние земные деревья, бессловесные и неразумные, или совсем иные деревья, порождение иной Земли?
Никогда мы этого не узнаем, а может, это и не важно, ведь с самого начала нам не на что было надеяться. Мы еще не вышли на ринг, а нас уже положили на обе лопатки. Все потеряно для нас давным-давно, в тот далекий день, когда мой отец принес домой охапку лиловых цветов.
Опять издали кто-то кричит, зовет меня по имени.
Бросаю свое оружие, иду через сад. Кому я понадобился?
Это не Нэнси, но голос знакомый.
А вот и Нэнси сбегает с холма.
– Скорей, Брэд!
– Где ты была? Что еще случилось?
– Там Шкалик Грант. Я ведь говорила, тебя ищет Шкалик. Он ждет у барьера. Он как – то проскользнул мимо часовых. Ему непременно надо с тобой повидаться…
– Так ведь Шкалик…
– Он здесь. И требует тебя. Говорит, больше никто не годится.
Она повернулась и почти побежала наверх. я тяжело поплелся за нею. Через двор доктора Фабиана, потом через улицу, а там еще один двор и… ну, конечно, здесь, прямо перед нами. проходит барьер.
По ту сторону с земли поднимается коренастый гном.
– Это ты, паренек? – слышу я.
Сажусь на корточки перед самым барьером и во все глаза смотрю на Шкалика
– Ну да, я… а ты как же…
– Об этом после. Некогда. Часовые знают, что я пролез сквозь оцепление. Меня ищут.
– Чего ты хочешь?
– Не я. Все. И ты. Всем это нужно. Вы здорово влипли.
– Все здорово влипли.
– Я про то и говорю. Одному болвану в Пентагоне приспичило сбросить бомбу. Я, когда сюда пробирался, слышал, в какой-то машине радио трепало всякую чушь. Краем уха кой-что поймал.
– Так, – говорю я. – Стало быть, человечеству крышка.
– Нет, не крышка! – сердито возражает Шкалик. – Есть выход. Если только в Вашингтоне поймут, если…
– Если ты знаешь выход, чего ж ты тратил время, искал меня? Сказал бы там…
– Кому? Да разве мне поверят? Кто я такой? Дрянь, забулдыга и пьяница, да еще из больницы сбежал…
– Ладно, – говорю я, – ладно.
– А вот ты им растолкуешь, ты вроде как посол, что ли, доверенное лицо. Тебя кто-нибудь да выслушает. Свяжись там с кем – нибудь, и тебя послушают.
– Если есть что слушать.
– Есть что слушать! – говорит Шкалик. – У нас есть кое-что такое, чего тем чужакам не хватает. И только мы одни можем им это дать.
– Дать? – кричу я. – Все, что им надо, они у нас и так отберут.
– Нет, это они так сами взять не могут, – возражает Шкалик.
Я качаю головой.
– Что-то слишком просто у тебя получается. Ведь они уже подцепили нас на крючок. Люди только того и хотят, чтоб они к нам пришли, да если бы и не хотели, они все равно придут. Они угодили в наше самое уязвимое место…
– У Цветов тоже есть уязвимое место, – говорит Шкалик.
– Не смеши меня.
– Ты просто обалдел и уже не соображаешь.
– Какой ты догадливый, черт подери!
Еще бы не обалдеть. Весь мир летит в тартарары. Над Милвилом нависла ядерная смерть, уже и так все с ума посходили, а теперь Хайрам расскажет о том, что видел у меня в саду, и народ окончательно взбесится. Хайрам и его шайка дотла сожгли мой дом, я остался без крова… да и все человечество осталось без крова, вся Земля перестала быть для нас родным домом. Отныне она всего лишь еще одно звено в длинной, нескончаемой цепи миров, подвластных иной форме жизни, и эту чужую жизнь людям не одолеть.
– Эти Цветы – очень древняя раса, – объясняет Шкалик. – Даже и не знаю, какая древняя. Может, им миллиард лет, а может, и два миллиарда, неизвестно. Сколько миров они прошли, сколько всяких народов видели – не просто живых, а разумных. И со всеми они поладили, со всеми сработались и действуют заодно. Но ни разу ни одно племя их не полюбило. Никто не выращивал их у себя в саду, никто и не думал их холить и нежить только за то, что они красивые…
– Да ты спятил! – ору я. – Вконец рехнулся!
– Брэд, – задохнувшись от волнения, говорит Нэнси, – а может быть, он прав? Ведь только за последние две тысячи лет или около того люди научились чувствовать красоту, увидели прекрасное в природе. Пещерному человеку и в голову не приходило, что цветок – это красиво…
– Верно, – кивает Шкалик. – Больше ни одно живое существо, ни одно племя не додумалось до такого понятия – красота. Только у нас на Земле человек возьмет, выкопает где-то в лесу несколько цветочков и притащит к себе домой, и ходит за ними, как за малыми детьми, ради ихней красоты… а до той минуты Цветы и сами не знали, что они красивые. Прежде их никто не любил и никто о них не заботился. Это вроде как женщина и мила, и хороша, а только покуда ей кто – нибудь не сказал, – моя, какая ж ты красавица! – ей и невдомек. Или как сирота: все скитался по чужим, а потом вдруг нашел родной дом.
Как просто. Не может этого быть. Никогда ничто на свете не бывает так просто. И однако, если вдуматься, в этом есть смысл. Кажется, только в этом сейчас и можно найти какой-то смысл…
– Цветы поставили нам условие, – говорит Шкалик. – Давайте и мы выставим условие. Дескать, милости просим к нам, а за это сколько-то из вас, какой-нибудь там процент, обязаны оставаться просто цветами.
– Чтобы люди у нас на Земле могли их разводить у себя в саду, и ухаживать за ними, и любоваться ими – вот такими, как они есть! – подхватывает Нэнси.
Шкалик тихонько усмехается:
– У меня уж это все думано – передумало. Эту статью договора я и сам мог бы написать.
Неужели это и есть выход? Неужели получится?
Конечно, получится!
Стать любимцами другого народа, ощутить его заботу и нежность – да ведь это привяжет к нам пришельцев узами столь же прочными, как нас к ним – благодарность за то, что с войной покончено навсегда.
Это будут узы несколько иные, но столь же прочные, как те, что соединяют человека и собаку. А нам только того и надо: теперь у нас будет вдоволь времени – и мы научимся жить и работать дружно.
Нам незачем будет бояться Цветов, ведь это нас они искали, сами того не зная, не понимая, чего ищут, даже не подозревая, что существует на свете то, чем мы можем их одарить.
– это нечто новое, – говорю я.
– Верно, новое, – соглашается Шкалик.
Да, это ново, непривычно. Так же ново и непривычно для Цветов, как для нас – их власть над временем.
– Ну как, берешься? – говорит Шкалик. – Не забудь, за мной гонится солдатня. Они знают, что я проскочил между постами, скоро они меня учуют.
Только сегодня утром представитель госдепартамента и сенатор толковали о длительных переговорах – лишь бы можно было начать переговоры. А генерал признавал один язык – язык силы. Меж тем ключ ко всему надо было искать в том, что есть в нас самого мягкого, человечного, – в нашей любви к прекрасному. И отыскал этот ключ никакой не сенатор и не генерал, а ничем не примечательный житель заштатного городишки, всеми презираемый нищий забулдыга.
– Давай зови своих солдат, пускай тащат сюда телефон, – говорю я Шкалику. – Мне недосуг его разыскивать.
Первым делом надо добраться до сенатора Гиббса, а он поговорит с президентом. Потом поймаю Хигги Морриса, объясню, что к чему, и он поуспокоит милвилцев.








