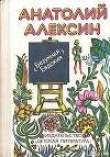Текст книги "Брат Молчаливого Волка"
Автор книги: Клара Ярункова
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
Ну разве не лучше перекусить наскоро где-нибудь на природе под Марманцем?
В коридоре послышались тяжелые шаги. За ними – чьи-то более легкие. Я прилип к стулу. Все наши сидели, словно аршин проглотили. Во даем! Ну и семейка! Сначала подъедим все, что есть на столе, а когда надо встречать гостей, сидим как дураки.
К счастью, Юле пришло в голову выглянуть в коридор. Она взвизгнула, всплеснула руками и с воплями бросилась встречать Смржовых. Тут наконец поднялась и мама и довольно глупо воскликнула:
– Смотрите-ка, к нам гости!
Йожо состроил гримасу. Отец сделал ему знак глазами, встал и медленно прошествовал через кухню в коридор. Я не выдержал, отлепился наконец от стула и выскочил через окно на улицу. Страж и Бой, дурачье несчастное, кинулись за мной.
Я услыхал, как завизжал кто-то из девчонок, – наверное, собаки сбили с ног, потом, сделав вираж возле печи, псы в телячьем восторге выскочили следом за мной в окно.
В малиннике я бросился на землю и чуть не заревел. Псы подбежали ко мне, и я треснул Боя по уху. Страж заворчал и оскалил на меня зубы. Ступайте прочь, балбесы несчастные! Видеть вас не желаю! Я чуть-чуть раздвинул кусты малины, ровно настолько, чтобы разглядеть кухонное окно и крыльцо со ступеньками, и твердо решил ни за что на свете не возвращаться. Но Лива могла бы выйти и сама. Не будет же она до бесконечности торчать в этом сумасшедшем доме. Через открытое окно я слышал лишь смех и суматоху. Громче всех смеялись тетя Смржова и Юля. Если она хохочет надо мною, я ее вечером убью! Да разве она сознается?
Я начал про себя упрашивать Ливу выйти. Как там, на холме, когда она посмотрела на меня в бинокль. Через пять минут она действительно появилась на пороге!
Огляделась и направилась прямо к Марманцу. Я поскорее расширил свой наблюдательный пункт и увидел, что под Марманцем развалился Бой. Лива села на скамейку; Бой лениво подполз к ней, поднялся, и она стала его гладить.
Тихо, как рысь, я обогнул поросячий загон. Через лопухи я уже шел нормально и появился с другой стороны Марманца с каменным лицом индейца. Лива подвинулась на скамейке и дала мне место. Она все еще гладила Боя, который с виду казался чистым. К счастью, собачьи блохи прячутся в густой шерсти. Я поднял руку, чтобы тоже погладить его. Но Бой дернул головой: он боялся, что я хочу снова врезать ему.
– Что это с ним? – вздрогнула Лива.
В другой раз он бы получил свое, но сейчас я не хотел, чтобы Бой удирал, и мне пришлось сказать:
– Одичал немного в этом Микулаше. Но ничего, ты можешь его гладить.
И тоже принялся гладить Боя так ласково, как только умел. Лива положила на белую шерсть Боя свою загорелую руку с серебряным колечком на мизинце. И так мы вместе гладили Боя, и я два раза коснулся Ливиной руки. Мы молчали.

– Твой отец берет нас с собой в машину, – сказала наконец Лива.
Я обрадовался. Ведь сам бы я не отважился попросить отца об этом, хотя знал, как Лива ненавидит давку в автобусе. Мы как-то в прошлом году ехали с нею вместе, и я видел, как она смотрела на людей и отпихивала локтями каждого, кто прикасался к ней. Моя мама осуждала ее за это, а я нет; как Ливе привыкнуть к давке, если на Дюмбере никто не толкается!
– У тебя нет с собой губной гармоники? – отважился я спросить, ведь мыслей еще никто читать не умеет.
– Отчего же, есть, – кивнула она головой и ужасно смешно заморгала. Глаза у нее и правда совсем зеленые!
– Сыграй что-нибудь, – попросил я и погладил Боя.
– Не могу, – шепнула она мне почти в самое ухо. – Она в рюкзаке на самом дне. В тапочке.
И со смехом рассказала, как мама ее уже дважды выбрасывала гармонику из рюкзака, но Лива маму все-таки перехитрила.
Бою уже надоели наши ласки, и он попытался улизнуть.
Но я незаметно так дернул его за ухо, что он тут же все понял и сел на место.
– Отец сказал, что я уже большая и могу теперь иногда приезжать домой на воскресенье.
Вот было бы здорово! Просто замечательно.
– А так ты приехала бы только на рождество?
– Вот еще! Может, повезет, и я заболею, тогда приеду раньше и надолго.
Сомневаюсь, чтобы Лива могла вообще когда-нибудь заболеть.
– Помнишь, в прошлом году? – посмотрела она мне прямо в глаза. – Ведь повезло же в прошлом году. Я отравилась колбасой уже в октябре и целых три недели жила дома!
Я немного испугался, но Лива только смеялась.
По ступенькам спустился Вок в выходных длинных брюках, сером свитере и белой рубашке. Смотрите-ка, настоящий барин! Только обросший, а под носом паршивенькие усики, как будто он просто плохо умылся. Следом за ним вышли Эста с Габкой. Габа нас заметила, отпустила Эстину руку и приперлась к нам.
– А что я тебе покажу! – сказала она Ливе. – Знаешь, что у него есть?
Она схватила Боя и начала разбирать ему шерсть.
– Гляди-ка! Блохи!
– Нет у него ничего, – крикнул я Габке, – не выдумывай!
Я хотел ее прогнать, но она никак не уходила. Заметив Ливии интерес, она во что бы то ни стало хотела показать ей блох. Я надеялся, что она ни одной не найдет. Иногда блохи так прячутся, что не найдешь. Но именно сейчас, и именно перед Ливой, они вдруг начали передвигаться по желтоватой шерсти как на параде.
– Вот видишь! – ликовала Габа. – Ты не бойся, они на людей не прыгают. Правда, Бойчик? Покажи своих блошек, Бойчик, покажи! – ласкала и обнимала она Боя, чтобы только показать Ливе, что не надо бояться собачьих блох.
Я смеялся вместе с Ливой, но, честно говоря, мне было не до смеху. Я еще в жизни не тронул Габу пальцем, но сегодня, наверное, выдеру как Сидорову козу вместе с ее противным блохастым Боем.
А мы так хорошо гладили его!
– Ну, по коням! – скомандовал отец, и мама кинулась обнимать Йожу.
Он не стал увертываться, но страшно покраснел, стал хлопать маму по спине и поцеловал ее в щеку. Мне он подал руку, Габу подкинул и притворился волком, готовым ее съесть. Она пищала, кричала, но спускаться на землю не хотела. Ну и покажу же я ей!
Тетя Смржова с Ливой и Эстой сели сзади, отец – за руль. Мы с Воком раскачали машину, и «лимон» довольно легко завелся. Потом мы его догнали, и Вок вскочил к отцу.
– Привет, Дюро! – протянула мне Лива руку, и я схватил ее.
Привет, Лива!
Меня чуть не задушил выхлопной дым. Я пробежал еще несколько шагов, но машина уже скрылась за поворотом.
Я все еще стоял и смотрел, хотя уже ничего не было видно.
Привет, Лива!
Привет, Лива, серна пугливая…
* * *
Таков уж закон природы: когда не надо, ты можешь подняться хоть в четыре часа утра, но как только нужно собираться в школу, то тебя будят, будят, а ты никак не можешь встать. Так и со мною. Когда меня утром будят, я ругаюсь и клянчу, отбиваюсь и сую голову под подушку, но проснуться никак не могу и ничего этого не помню! Ведь если б я понимал и помнил, разве я б сказал отцу: «Убирайся! Отстань от меня! Не приставай! Я болен». Еще Юле или маме – могу, но отцу… Когда меня будят, то я ничего не понимаю и ругаю всех подряд. На этот раз дело кончилось плохо. Отец облил меня водой и раз навсегда запретил будить.
– Вот тебе будильник, – сказал он мне вечером. – С завтрашнего дня будешь вставать сам! Совсем взрослый парень – и никакой дисциплины!
– Какой же он взрослый, – заступилась мама, – ведь…
Отец на нее глянул и глядел до тех пор, пока она не забыла, что хотела сказать.
– Я сам утром проверю, как он будет ругать будильник.
Это означало, что маме будить меня запрещается.
Я завел будильник и стал вставать в самое разное время, в зависимости от того, удавалось ли мне с будильником справиться. Иногда он звонил в шесть, иногда в пять, иногда в четыре. Один раз звонил ровно в полночь. А то и вовсе не звонил. В тот день я проспал до семи, но отец не разрешил мне остаться дома, хотя я уже пропустил свой автобус. Государственный заповедник закрыл дорогу, и мне теперь до остановки почти два километра, потому что сюда могут добраться только легковые машины, а автобусы – нет.
– Стану я всю дорогу пешком тащиться из-за какого-то испорченного будильника! – уперся я.
Мама упросила отца. «Лимон» – ха-ха, редкий случай в нашей жизни! – стоял на очередном ремонте, и я остался дома. Отец целых полчаса учил меня обращаться с будильником. Интересно, как он теперь будет звонить! Потом, к сожалению, пошел дождь, и я отправился учить уроки в свою комнату. Габу я послал за ножницами и велел незаметно прихватить журналы из столовой. До самого обеда мы вырезали с ней всякие интересные картинки – только внутри, обложки мы не трогали. Габочка хотела, чтобы я вырезал ей красивых женщин, всяких раздетых артисток. А я с четвертого класса собираю животных, у меня их уже почти три больших альбома. Я и теперь не могу удержаться, когда вижу хорошенькую обезьянку или рассвирепевшего тигра, мне обязательно хочется их заполучить. Я хотел было немножко почитать, но Габа все время приставала ко мне. Она очень любопытная – все ей нужно знать. Кое-что я ей объяснил, но потом она по всем журналам разыскивала атомные грибы, колола их ножницами и изуродовала на другой странице чудесного грустного пса, с ушами до самой земли. Я разозлился и перестал ей рассказывать.
А на улице все льет и льет дождь.
Вообще весь сентябрь шли дожди, и, кроме дяди Рыдзика и дорожных рабочих, к нам никто не приезжал. Только один раз заглянули какие-то гости – наверное, инженеры из Брезна. Мы тогда всю ночь не могли уснуть. Гости выпили почти весь отцовский коньяк, прыгали, плясали и вопили во все горло и под конец разбили семнадцать бокалов. Когда я первый раз проснулся оттого, что хлопали двери, я испугался и выбежал посмотреть, что творится.
Двери в столовую были открыты, и на лестницу, где я стоял, никто не смотрел. Да и кто бы стал смотреть на лестницу, если на столе выплясывала какая-то девица? В туфлях, прямо на белой скатерти. Инженеры визжали, как обезьяны, девица прыгала, поднимала ноги, трясла длинными светлыми волосами и сыпала на инженерские головы пепел от сигареты. Я злился, что меня разбудили, но не мог удержаться от смеха – уж очень смешно она сыпала этот пепел. Да еще на какую голову! На лысую! Она дрыгнула ногой, туфелька отлетела и сбила известку с потолка. В тот же миг девица рухнула прямо на головы инженерам как подпиленное дерево. Так им и надо! Когда она падала, вид у нее был такой глупый, что она уже вовсе не казалась красивой.
Отец выскочил из кухни, но мама стала тянуть его обратно.
– Ф еро, прошу тебя, не пей, – услышал я ее голос.
– Я и не пью, – ворчал отец, – но не могу же я отказываться, когда угощают.
– Что за народ, боже мой! – вздыхала мама. – Гони ты их прочь! Давно пора закрывать.
– Торговля есть торговля, мы месяц с тобой бездельничали. Ты иди ложись, Терочка. – Отец и вправду был довольно веселый.
– Не лягу! – сердилась мама. – Тьфу! Ну и люди! Я пойду и скажу, что мы закрываем!
– Где у тебя разум, жена? – разозлился отец. – Ты что, хочешь довести меня до беды? Знаешь, кто эти люди?! – И он стал шептать маме на ухо, кто они, эти пьяницы.
– А мне все равно! – кричала мама. – Ведут себя хуже скотов!
– Ты замолчишь?! – прошипел отец. – Послал черт помощницу! Что ты вообще смыслишь в торговле?! Иди вари черный кофе!..
Я взбежал по лестнице и очутился в темноте. Отец шел по коридору и свистел, а в дверях рассмеялся, увидев, что гости укладывают девицу на скамью. Потом он прикрыл дверь, и в столовой заиграла радиола.
Я вернулся к себе в комнату, но уснуть не мог. Мне очень хотелось знать, что творится там внизу. Но когда я попробовал открыть двери, они оказались запертыми. Радиола играла всю ночь. «Маленькую девочку», наверное, раз десять, один раз даже «Аккорды в огне». Сначала я обрадовался, услышав «Аккорды», но уже на середине мне стало грустно. Это Ливина песня. Очень нужно, чтобы ее заводили всякие пьяные? Кто бы они там ни были, могут заводить свои стиляжьи песни, а «Аккорды» пусть оставят в покое.
Я выглянул в окно: что это за гости такие знаменитые? Перед домом стояли две «Татры-603». Из окон столовой лился свет, и я разобрал на них знак «БА» – значит, Братислава. Действительно, не простые инженеры. Мне вдруг стало очень холодно, и я забрался под одеяло.
Я уже почти заснул, когда в дверь стал скрестись Бой, и щеколда стукнула. Ага, значит, там оба пса! Отворять двери умеет только Страж. Я впустил их. Обычно они спят внизу в коридоре, но бедняга Бой совершенно не выносит музыки, особенно когда пиликают скрипки. Он не в силах удержаться и начинает выть, хочет он этого или нет. Я впустил их в комнату. Да разве с собаками уснешь? Ночью им не спится; ведь они не люди, им играть хочется. Бой поплелся было к Габуле, чтоб разбудить ее. Этого только не хватало! Мне пришлось наподдать ему, чтобы он отправился в угол и улегся там.
Все-таки будильник отвратительная, бесчувственная тварь!
Встала пока только мама. Она дала мне завтрак и очень жалела меня, хотя ей это запрещено.
Ночных гостей уже не было. От «татр» остались лишь следы на размокшей дороге. Дождь прошел, но было темнее, чем ночью. Темнее, потому что ночью темнота – привычная, черная, и ты знаешь, что так и должно быть. А теперь тяжелые тучи неподвижно повисли на вершинах, и день стал серым и мглистым. Чернел только лес. И было слышно, как падают капли с мокрых деревьев. Когда я спускаюсь вниз, в долину, мне это не мешает. Но когда выхожу из школы, жду автобуса и смотрю на Дюмбер, мне как-то не по себе, что я его не вижу. Однажды я не видал его целых три недели, и мне стало казаться, что его вообще уже нет. Что, он растаял, растворился в серых тучах, как исчезли другие вершины, и вся наша долина, и наш дом? И я, поднявшись наверх, напрасно буду звать, искать и разгребать мокрую землю – я не найду ничего и никого и в конце концов исчезну сам, утону в этом море серого тумана…
В тот раз шофер автобуса сказал мне:
«Ну и намучился ты, Дюро, с этой школой! Ты вполне заслуживаешь, чтоб тебя сделали президентом или хотя бы министром. И почему тебя не устроят ночевать в деревне?»
Да потому, что я не хочу! Потому и не устраивают. Только когда морозы очень сильные и автобус не ходит, я остаюсь ночевать у Рыдзиков. Хотя мне неохота. Они мне всегда дают огромный пуховик, а я привык к простому одеялу. Да и торчать целый день в натопленной комнате мне вовсе не улыбается. Уроки я делаю быстро и от скуки отправляюсь к девчонкам.
«Ну, а если назначат президентом, – продолжали мы разговор с шофером, – что мне тогда нужно будет делать?»
«Что? Ну, кое-что… – старался он перекричать шум мотора. – И еще ты поселишься в кремле…»
Хо-хо! Больно надо!
«Не хочу!» – кричал я в ответ.
«А Первого мая мы будем тебя приветствовать».
Это уже интересней.
«Все равно не хочу!» – кричал я.
«С тобою не договоришься», – смеялся шофер.
Со мной, правда, договориться трудно. Я и сам не знаю, кем хочу быть. Из-за этого я и за сочинение «Кем я хочу стать» схватил кол. Я не знал, что придумать, и все сдул у Дэжо Врбика. Нашему Габчику показалось подозрительным, что мы оба хотим быть летчиками-планеристами, да еще пишем об этом одними и теми же словами. Он не стал ломать голову над тем, кто из нас именно хочет быть летчиком, и вкатил обоим по единице. А у нас на двоих было всего три ошибки! Дэжо меня не выдал, но считает себя пострадавшим и все время меня этим попрекает. Если бы, мол, он был таким же «хорошим товарищем», как я, то получил бы четверку. И еще он не может мне простить, что я не принес ему в сентябре динамит. А как я мог принести, если минеры мне его не дали. Стащить? Может, я бы и стащил, да не знаю, где они его держат. Догадались, что мы с динамитом играем, и, конечно, припрятали. Все равно Дэжо зря на меня злится. Мортиру он не достал, а кроме того, мы просто не знали, как ее зарядить, чтобы дать торжественный залп. Но от сестрицы ему досталось и без мортиры. Ему, конечно, на сестру наплевать. Ему интересно было пострелять.
Иногда мы с шофером ездим в автобусе только вдвоем. Кондукторша с большим удовольствием остается в деревне. В такой хмурый день, как сегодня, шофер уже на пятом километре включает свет во всем автобусе, чтобы было повеселее. Мне-то не грустно, но шофер родом из Трн авы, с равнины, и не любит наших узких темных ущелий.
«Здесь житье для медведей, а не для людей», – ворчит он и добавляет, что если б не трое детей, то он бы сбежал от жены, которая не может жить на равнине.
Я бы на равнину с удовольствием поглядел. Но когда я выхожу из автобуса и шофер мне говорит: «Почему ты, Дюрко, не носишь с собой хотя бы дубинку?» – я вижу, что он меня жалеет, и начинаю смеяться.
Я так люблю возвращаться домой!
А когда напридумываю про исчезнувшие горы, то начинаю торопиться больше, чем обычно, и даже насвистываю, чтобы поскорее услышать Стража. Он все замечает раньше, чем Бой, и лает громовым голосом. Оба пса мчатся ко мне вниз стремительно, как танки. Бою я кладу на спину портфель (продеваю ремни через передние лапы), а Стражу даю что-нибудь полегче – шапку или тапочки (он все носит только в зубах).
Возле дома стоит Габа (когда идет сильный дождь, она высовывается из окна). Она присоединяется к нам и просит, чтоб я дал ей тоже что-нибудь нести, но обычно у меня уже ничего не остается.
«Мы чистили плиту, – говорит она важно. – Хи-хи, знаешь, какая Юля была черная! Наверное, труба упала!» Или: «А поросенок не хочет есть! Тот, маленький, с черным ухом. Как бы не умер!» Или: «А нам звонили! Один дядя приедет к нам чинить телевизор. Ай-ай-ай, как это нам дорого обойдется!..»
Пока мы дойдем до дому, я узнаю от нее все новости. Не только то, что она сама видела, но и то, что слыхала от взрослых. И если ей случайно не удается рассказать мне все, она держит меня за пальто и не впускает в дом до тех пор, пока все не выложит. Боится, как бы кто-нибудь ее не опередил.
В кухне тихо и приятно, не то что в разгар сезона, когда стоит шум и крик. На желтом полу лежат бенюшские половики, и обувь надо снимать. Страж и Бой торчат в коридоре или на улице. И лишь когда совсем обсохнут, могут забраться под стол. У Боя уже нет блох. Они пали жертвой керосина. Нам пришлось держать его втроем, пока отец мазал его керосином и обматывал тряпками. Полдня Бой пролежал в сарае, запеленатый, как египетская мумия. Когда мы приходили его проведать, он жалобно скулил, но как только оставался один – я видел в щель, – то дрых за милую душу и керосиновая вонь была ему нипочем. Известный притворщик!
За столом я сижу один, как барин. Являюсь, когда все наши уже давно отобедали. Но и мне остается достаточно. Одних только пирогов с маком тарелки три. Мясо, слава богу, теперь варят редко, не то что летом, когда нет времени возиться с тестом. После обеда начинаются расспросы, что нового в школе.
– Ничего, – отвечаю я.
– Что значит – ничего! – сердится отец.
– Да так, ничего особенного, – говорю я.
Наши никак не могут привыкнуть к тому, что я уже не малое дитя и мне не хочется болтать попусту. Если меня вызывали, я говорю; а если нет, то к чему даром тратить слова? Не стану же я рассказывать, что Габчик хотел врезать Дэжо Врбику и не смог, потому что не родился еще на свет такой человек, который бы мог стукнуть Дэжо. Хотя Дэжо не удирает, нет, он стоит как столб, но когда на него замахнутся, он так ловко уклонится, что удар всегда приходится мимо. Габчик озлился, поставил Дэжо в угол, левой рукой схватил за плечо, но все равно не попал – Дэжо подогнул колени. Габчик покраснел как рак, прижал его колени своими и снова замахнулся. Дэжо опустил голову, и Габчик ударился рукой об стену. В это время прозвенел звонок, и Габчик выскочил вон из класса, а мы принялись хохотать. На перемене мы из спортивного интереса пытались проделать то же самое, но Дэжо действительно неуязвим.
Это, что ль, я должен рассказывать отцу? Или как мы поймали двух мышей, посадили их в дровяной ящик и ждали, когда появятся мышата, чтобы потом выпустить их в зал?
Хо-хо! Я-то ведь не такой неуязвимый, как Дэжо Врбик!
Я поднимаюсь в свою комнату, чтобы переодеться в лыжный костюм. Нам постелили новую дорожку. Мы с Габой на ней кувыркались, пока я не выбил стекло. Босой ногой. Во внутренней раме. Кровь хлестала вовсю, но жилы остались целы. Еще у нас здесь стоят сосновые ветки в огромной вазе, обычно она украшает столовую. Ваза словацкая, расписная: на ней парень сидит. Конечно, не на самой вазе, а на кабане, что там нарисован. Сидит и держит кабана за уши, а тот сопит и несется как бешеный. Очень смешной парень. Когда я смотрю на вазу, мне всегда становится смешно. Наверное, и сам художник смеялся, когда вокруг этого психа-охотника рисовал прекрасные невинные цветочки.
Конечно, я и уроки делаю. Когда в комнате появляется мама или отец. Но чаще я бегаю по улице, даже в дождь. Ведь у меня остался Йожкин плащ.
* * *
Убили старика оленя! Некому теперь дразнить отца. Не выглянет больше старик из-за деревьев, не сунет морду в нашу машину и не повредит электричество во всем доме, потому что никогда больше не сможет засыпать водоем. Его застрелили…
А мой отец, который так на него сердился, не хочет даже пойти взглянуть на него. Два года он уговаривал дядю Рыдзика устроить охоту, а теперь, когда олень мертв, ругается и ворчит, что не желает с этим иметь ничего общего. Так же было, когда Юля резала Крампулькиных петушков. Отец тогда тоже не хотел иметь ничего общего с этим, но мясо ел. А я следил, чтобы не появилась Габулька и не увидала, как прыгают, обливаясь кровью, обезглавленные петушки. Габе мы сказали, что их унес ястреб. Она поплакала-поплакала и принялась обгладывать куриную ножку. Единственный, кто не стал есть курятины, был я. Когда мама просила отца зарезать петушка, он сказал: «Не могу я, у меня сердце жалостливое».
Потом она смеялась: «Зато желудок здоровый». А у меня наоборот. Сердце не жалостливое, а желудок – слабый. Сторожить, чтобы не появилась Габка, я могу, а есть мясо – не могу.
С оленем такая же история. Отец вечно на него ругался, но видеть его убитым не может. Я, наоборот, всегда мечтал его спасти, а когда не удалось, то захотел хоть взглянуть на него напоследок.
Вечером я лежал под одеялом и проклинал школу. Из-за нее я не мог по утрам брать собак и бегать с ними по лесу, чтобы псы своим лаем разогнали зверье, когда явились эти немцы-охотники. Неделю охотники ходили просто так, приглядывались, никого не отстреливали, и я решил, что у старика оленя хватит ума, чтобы спрятаться в микулашском лесу. Но у бедняги хватало ума только на шуточки с моим отцом, а если что посерьезнее – тут он не соображал. По крайней мере лесника Рыдзика он не перехитрил.
Что касается Рыдзика, у меня о нем свое мнение.
Вечером в среду наши собаки дома не ночевали, и я был очень рад, что они сами догадались отправиться пугать зверье. Я не пошел их искать и Габке не велел звать Боя. Пусть побегают. Хотел бы я посмотреть на того оленя, который не испугается их бреха и не сбежит за тридевять земель!
В четверг меня встречал только Страж, но зато у самою автобуса. Он, правда, поздоровался со мной, пролаяв, но отказался что-либо нести – мчался вперед и торопил меня. И Габуля не встречала меня, как обычно, с новостями. Это мне показалось подозрительным. И только на кухне я понял почему.
Бой лежал на половике, весь дрожал, скулил и протягивал всем правую переднюю лапу. На его шерсти запеклась кровь, а лапа опухла.
– Сломал? – осмотрел отец лапу. – А кровь-то откуда?
– Может, змея ужалила, – предположила Юля.
Мы всполошились, но мама сказала:
– При чем тут змея? Ведь в конце августа, на святого Варфоломея, все змеи прячутся в норы. Потом земля смыкается, и если какая-нибудь змея не скроется вовремя в нору, то погибнет где-нибудь в кустарнике.
– Может, его как раз и куснула такая, оставшаяся, – предположил я.
Хотя едва ли. По ночам уже сильные заморозки, а когда змеям холодно, они слабеют, яд пропадает, и ужалить они не могут, даже если захотят.
– Ступай в сарай и принеси дощечку. – Отец рвал старое полотенце на повязку.
– А может, две? Если лапа сломана, ее надо зажать между двух дощечек.
– Нет, одну. – Отец стал ощупывать лапу, и Бой взвыл на всю комнату. – Опухшее место нельзя зажимать. Мы подложим доску только снизу, а рану зальем йодом и перевяжем.
Йодом! Нет уж, спасибо! Как бы он от боли кого-нибудь не цапнул!
– Беги к телефону, – велел отец, когда я вернулся из сарая.
Мне не хотелось отпускать лапу Боя. Ее как раз собирались мазать йодом. Но телефон все звонил и звонил. Юля сменила меня, и я побежал в комнату.
– Алло!
– Это ты, Дюро? – просипел в трубку дядя Рыдзик. – Скажи отцу, чтобы он этих разбойников запер в погреб. Если я еще раз замечу их в лесу, застрелю без всякой жалости! Сегодня я уже жахнул одному под нос зарядом дроби. На этот раз только пугнул, но завтра уже шутить не стану! Скажи отцу. Все!
– Ага, пугнул! – крикнул я и отставил трубку, чтобы было слышно, как воет Бой: ему поливали йодом лапу.
– Что вы там вытворяете? – спросил лесник.
– От вашей дроби – чтоб вы знали! – у Боя вся лапа распухла! – закричал я.
– Не выдумывай, Дюро! – теперь уже кричал и он, – Я его только пугнул. Ведь я не слепой и точно видел, куда попал. Прямо в скалу! Искры так и посыпались. А камень брызнул во все стороны. Не выводи меня зря из терпения!
К телефону подошел отец. В кухне уже было тихо. Бой приходил в себя, непрерывно подрагивая лапой, залитой йодом. Разок он даже понюхал ее. Габочка обмахивала его рану моим учебником истории.
Отец вернулся после телефонного разговора злой.
– Ах ты разбойник! – закричал он на Боя. – Тебе бы выпустить хороший заряд соли в зад, чтобы ты раз и навсегда забыл, как носиться по лесу! Ну-ка дай сюда!
И он безжалостно ощупал его лапу и, убедившись, что она действительно лишь поцарапана, выбросил дощечку в окно, а бинты сунул в плиту.
– Я тебе покажу! – злился отец. – Чуть задело камнем, а он тут цирк устраивает, будто сейчас сдохнет! Ну-ка, марш вон!
Бой не понимал, почему все так сразу изменилось. Он и не думал подниматься с пола.
– Ты что, не слышишь? – кричал отец. – Ну-ка вон!
Бой вскочил и с оскорбленным видом, прыгая на трех лапах, выбежал вон.
И все-таки насчет дяди Рыдзика у меня свое мнение. Ни с того ни с сего у Боя нога не распухла бы. А дядя Рыдзик такой, что способен сдержать слово и пристрелить наших собак только за то, что те распугивают зверье, и оленей уже нет там, куда лесник ведет убийц – охотников-иностранцев. Ведь не будь Рыдзика, немцам никогда не поймать бы на мушку старого бродягу оленя. Это он, дядя Рыдзик, преподнес им это, как на тарелочке. Да, такого свинства наш Йожка никогда не допустит. Все, кто захочет охотиться с Йожо, должны будут сами выслеживать зверей. И уж Йожо никогда не наведет никаких чужеземцев на след самого осторожного и мудрого во всех Низких Татрах оленя-рогача. Этого он никогда не сделает!
Старика подстрелили вдали от нашего дома, где-то у К амзички. Не могу понять, что он там делал. Камзичка намного ниже наших мест, от дороги далеко, в самом лесу. Я несколько раз там был. Там построили охотничий домик государственного лесничества. Ключ от него есть только у Рыдзиков, и войти может лишь тот, кого приведет туда сам Рыдзик. Недавно домик выкрасили зеленой и желтой краской, чтобы он нравился иностранцам. А как-то я встретил одного парня из деревни, который тащил туда за десять крон старую медвежью шкуру и чучело глухаря. Из чучела летела моль, и перья едва держались.
Вот у этого-то домика на Камзичке и погиб одинокий старый бродяга.
После этого охотники не явились вечером в наш дом. Они с отцом договорились, что если застрелят оленя, то останутся ночевать на Камзичке, а мы им на следующий день отнесем по списку все, что они велели. Я надеялся, что такой день никогда не наступит. И вдруг в пятницу мы целый вечер прождали их напрасно. Я сразу понял, что дело плохо.
Утром отец мне сказал:
– Приходи из школы пораньше. Пойдешь на Камзичку с продуктами. Сегодня суббота. Там переночуешь и в воскресенье вернешься.
Ну и ладно. Все равно мне хотелось взглянуть на беднягу старика. Я вошел в дом, увидал два набитых рюкзака и сумку, полную бутылок, и сказал:
– Если вы воображаете, что я все это донесу, то пожалуйста. Мне, конечно, их даже не поднять. Но если вы меня сумеете навьючить как мула, – пожалуйста, я потащу!
– Не болтай, – сказала мама и дала мне поесть. – Сейчас приедет повар из Брезна, он возьмет самое тяжелое. А ты только рюкзак поменьше.
– Смотрите-ка, им еще и повара заказали!
– Ого, ему уже пора быть здесь! – всплеснула мама руками. – Ведь он должен был приехать автобусом!
И правда, со мной в автобусе ехал какой-то тип, в шляпе, в пальто до пят и в полуботинках. Наверное, это и есть повар. Кроме него, в автобусе были две женщины, но они направились к рабочим. За всю дорогу этот тип не проронил ни слова. А я не имею привычки приставать к людям. Я вылез из автобуса, прибавил шагу и всех обогнал.
– Наверняка это он, – сказал отец и отправился ему навстречу.
Вскоре они с поваром уже вместе сидели в столовой. Повар передохнул немного, есть не стал, выпил пива, и мы двинулись в путь.
Когда я видел какого-нибудь повара на картинке, то всегда его изображали толстым-претолстым, и я уже думал, что это просто юмор. А вдруг является всамделишный повар. И толстый будь здоров! Будь он из Братиславы или из Б анской-Б ыстрицы, тогда понятно. Но из какой-то Брезны – и уже килограммов сто!
Свой груз он тащил честно. Только шляпу сдвинул на затылок, чтобы ветром обдувало вспотевший лоб. На полуботинке у него развязался шнурок, но из-за своей толщины он не увидел.
– Смотрите, дядя, на шнурок не наступите, – решился я заговорить, потому что не мог больше идти молчком.
– Ну и наплевать, – сказал он противным голосом.
И снова наступила тишина, только повар сопел, как десяток кабанов, разрывающих картофельное поле. Он шагал широким, по-медвежьи косолапым шагом, и полы его расстегнутого пальто развевались словно крылья.
– Чтоб их все черти драли! Им что, живанской [2]2
Специальным образом зажаренное на огне мясо.
[Закрыть]у лесника мало? – прохрипел он. – С деньгой хотя бы?
Я не знал; правда, автомобили у них шикарные: «опель» и «мерседес».
– Подумаешь! У них каждый ободранец на колесах. Я говорю про деньги! Про валюту! Задаром я не дурак таскаться.
Я согласился. Конечно, дурак он, что ли, тащиться на край света, да еще в зимнем пальто!
– Если вам жарко, – сказал я, – давайте понесу ваше пальто.
– Еще чего! – удивился повар. – Разве я могу его теперь снять? Вспотевший человек раз-два и простудился.
Я спросил его, знает ли он в Брезне Ри ачеков.
– Как не знать! – засмеялся он. – Я сам Риачек! Самый знаменитый из всех брезнянских Риачеков.