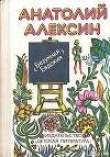Текст книги "Брат Молчаливого Волка"
Автор книги: Клара Ярункова
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
Когда мы все были на лавине, я боялся, что Яне еще тяжелее дышать оттого, что мы там ходим. Ведь снег и так тяжелый. А нас все-таки тридцать. Но когда все ушли, мне вдруг стало Яну жалко, ведь она осталась совсем одна, и ей, наверное, очень страшно. Ведь теперь она не слышит больше стука ломов и лопат, не слышит никакого движения. Говорят, что снег пропускает звук. Человек надеется, пока слышит. Но когда ничего не слышит, даже слабого звука, то он может подумать, что все ушли и бросили его одного.
Быстрее, товарищи, быстрее! Мы ждем вас, очень!
Нас много! Нас здесь столько мужчин, неужели мы оставим в беде девушку! Ведь не дадим же мы ей погибнуть! Теперь уже заволновались многие. И хотя все по-прежнему стояли на своих местах, но время от времени, сложив руки рупором, кричали:
– Ну как?
– Ничего?
– Может, прибор не работает?
– Давайте искать без него!
– Все вместе!
– Мы с одного конца, а вы с другого!
Начальник поднял руку, и все стихли. Люди с прибором постояли, потом вернулись, снова двинулись вперед и опять повернули в обратном направлении.
– Восемь человек ко мне! – закричал начальник.
К нему бросилось гораздо больше, но он отобрал лишь восьмерых. И Вока – хотя легко можно было найти парня посильнее и не такого измученного. Поисковая группа быстро наметила точки, от которых нужно было рыть, наметила направление и размер тоннелей. Все они сходились в виде звезды. Это было там, где боковая долина присоединялась к главной. Не в центре, а значительно правее, метрах в двух от долины.
У нас блеснула надежда: отмеченное место находилось на правом крае лавины, глубина там не такая большая, а значит, тяжесть не так велика.
– Каждые пять минут меняемся! – крикнул начальник. – Начали!
Менялись все, только Йожка копал не останавливаясь. Все смотрели с жалостью, как он работает, пробиваясь к центру даже быстрее, чем остальные.
Примчался лыжник, бегавший к нам звонить. Он нашел отца и, с трудом переводя дыхание, сказал ему:
– Кто-нибудь из вас должен пойти домой… Ведь там… две перепуганные женщины и ребенок…
Отец велел идти мне.
Но я не пойду! Не пойду – и все! Ведь каждую минуту я могу увидеть Яну, ей надо будет помочь, придется куда-нибудь сбегать, понести ее и радоваться вместе с Йожкой.
Не пойду! Почему всегда я? Ничего дома не случится, а я отсюда не уйду, пока не увижу Яну спасенной!
– Ступай, – сказал мне отец с таким грозным видом, что я попятился.
– Еще минутку… – Я показал туда, где копали. – Минутку! Может быть, тогда скажу маме, что…
– Что? Что ты скажешь? – Лицо у отца было измученное, глаза ввалились, морщины стали четкими. – Что ты ей скажешь? – повторял он. – Чем мы можем помочь? Отправляйся домой! Мигом! Ты нужен матери!
Я стал крепить лыжи.
– Ведь ты мужчина, – сказал мне отец на прощание. – Присмотри за ней. Здесь уже все равно ничем не поможешь.
Мне стало страшно от отцовских слов.
– Нас здесь и без тебя хватает, – добавил отец. – Скоро и мы вернемся… Подготовь все, что нужно. Ведь ты мужчина…
Я оттолкнулся и помчался вниз по сырой лыжне.
«Ты мужчина…» Я мужчина? Так почему у меня гудит в ушах от усталости? Почему я бегу не останавливаясь и не хочу идти домой, но и обратно не хочу вернуться? Почему мне кажется, что вся долина гудит, когда я знаю, что вокруг мертвая тишина?
Почему мне стало казаться, что у меня глаза на мокром месте, как только я остался один?
Ведь я мужчина!
Что мне сказать маме?
И главное: что нужно подготовить? Что!
Почему я не знаю, ведь я мужчина!
Я сбросил лыжи и медленно вошел в кухню.
Она была пуста. Лишь будильник нарушал тишину своим тиканьем.
Будильник показывал половину третьего.
Яну не нашли и к вечеру.
К девяти Йожку силой привели домой. И с тех пор он, не двигаясь, стоял в комнате, смотрел в темное окно, не произнося ни звука. На нем была все та же мокрая куртка, только лыжные ботинки он снял еще вечером, когда увидел, что Габуля их расшнуровывает. Отец поставил ему к окну стул, а Юля принесла чай.
– Выпей немного, Йожка, – просила она его. – Хотя бы глоток, Йожо!
В чай по совету Юли налили рому, чтобы Йожка немного отошел.
– Если бы он мог поплакать, – Юля долила в чай рому, – хоть немного поплакать, тогда ему на сердце стало бы легче…
И она снова и снова, стоя рядом со стаканом в руке, уговаривала Йожку. Наконец он повернулся, взглянул на Юлю и одним глотком выпил весь чай. С самого утра у него во рту не было и маковой росинки.
Я пошел за Юлей спросить, что будет с Йожкой, если у него не отойдет от сердца.
– Сердце может окаменеть, – сказала она. – Но он еще молодой, еще мальчик, выплачется, и полегчает.
– Не выплачется, – испугался я, потому что вспомнил, какой он был грустный, когда Яна летом не приехала, но и тогда он не плакал, совсем не плакал, только ушел один в лес.
– Не бойся, – сказала Юля задумчиво, – слезы – это дар, данный из всех живых существ одному человеку. И каждый человек им обладает.
– Слезы – и вдруг дар!
– Да, – кивнула она, – великий дар. Слезы помогают человеку пережить всё и продолжать жить даже после большой беды.
Никогда еще Юля не выражалась так непонятно. Мне хотелось подробнее расспросить ее, но больше она ничего не сказала, а я не знал, как продолжать дальше свои расспросы. Но одна вещь не давала мне покоя, когда я смотрел на Юлю.
– И тебе не жалко Яну? – крикнул я.
– Тише, Дюрко… – кивнула она в сторону комнаты. – Яну мне очень жалко. Но еще больше Вока. А больше всего Яниных родителей.
Я представил себе, как завтра приедут родители Яны. Им уже послали телеграмму. Завтра приедут…
– Это самое страшное, – прошептала Юля, и я уже не мог ничего, ничего сказать.
В кухню снова явился тот пьяный турист. Я не знаю, как его зовут, но знаю его в лицо, он часто ходит на Дюмбер.
В столовой было полно народу, встречали Новый год. Не спал, по-моему, никто. Из наших спала только Габа, Юля уложила ее в свою постель. На ужин Юля приготовила солянку с колбасой. Тому, кто остался голодным, она подавала холодные закуски. Отец не разливал, как обычно, в рюмки вино или другие напитки. Просто поставил все бутылки на столик у телевизора, а на телевизор – большой поднос с бокалами, пусть каждый берет, что захочет, и оставляет деньги. Кто может сейчас обмануть нас? А если и так, – отец махнул рукой, – пусть это останется на его совести. Туристы сидели, пили потихоньку, но никто не пел и музыка не играла.
А тот, кто ходил вместе с нами тогда к лавине, то и дело являлся на кухню и в комнату (он был немного подвыпившим), подходил к постели, на которой лежала мама прямо в фартуке, одетая так еще с утра.
– Послушайте, мамаша, – говорил он, опускаясь на колени у постели, – не плачьте. Слышите? («Не плачьте», – говорил он, а у самого по лицу текли слезы.) Не мучайтесь вы так из-за этого письма.
Он уже знал, чего не может себе простить мама. Ведь она сама писала родителям Яны и приглашала ее сюда, она и должна была следить за ней – и вот не уследила. Бедная наша мама думала, что это она всему виной, и если б не ее письмо, Яна осталась бы жива. Когда я вернулся в половине третьего, мама потеряла сознание, и нам с Юлей пришлось приводить ее в чувство уксусными примочками. С тех пор она лежит, уже не в силах даже плакать, и со страхом ждет завтрашнего дня: как она посмотрит в глаза Яниным родителям.
– Такая уж ее судьба, мамаша. А вы только перст судьбы, – говорил гость, держа маму за руку. – Слышите? Вы должны были написать это письмо! А если б не вы, все равно судьба настигла бы ее в другом месте. Никто не может изменить того, что написано в книге судеб! Никто на свете!
Он погладил маму по лицу и попытался встать. Я помог ему подняться на ноги. Он был сильно пьян, но я видел, что его слова помогают маме, да и всем нам. Может быть, и правда все так и есть, как он говорит.
Не может же наша мама быть причиной Яниной смерти! И Вок тоже! Он ведь любит Яну. Разве преступление, что он хотел показать ей, где живет, показать горы, среди которых он вырос, и где хотел жить вместе с Яной, когда станет лесничим. Я знаю Йожку – и знаю: все, что он делает, он делает по-настоящему. Яну он по-настоящему очень любил.
Наконец турист встал, поднял руку и торжественно обратился к нам:
– Природа всемогуща. Она дарует жизнь, она ее и берет. Покоритесь ей! У нее есть на то право. Никто другой не имеет права взять жизнь, но природа – имеет!.. А вообще вам всем нужно немного поспать. Хотя бы вам, ребята.
Я с испугом взглянул на него. Спать? Йожке?
– Ведь я знаю… – покачал он тяжелой головой. – Знаю… Все знаю…
И, держась за дверь, он вышел в кухню.
В комнате снова воцарилась тишина. И опять я стал думать о Яне. Я уже ничего не мог поделать, не мог совладать с собой: все мои мысли возвращались туда, к холодной ночи под лавиной.
Мысль о Яне не покидала меня, когда я подкладывал в печку поленья, чтобы поддержать тепло до утра. Думал я о ней и когда Юля наливала мне чай. Думал, когда с ужасом представил себе, что вот мы-то ложимся спать под теплые одеяла…
Я попробовал думать о Юло Мравце. Спасатели отвезли его на своих санях в деревню, а оттуда санитарная машина – в больницу. Юло искалечен, но все-таки жив! Юля рассказывала мне, что, когда его везли мимо нас, мама выбежала, а он начал кричать, что ни в чем не виноват. От волнения у него на губах выступила кровь. Юля хотела влить ему в рот рому, чтобы успокоить боль, но он сжал зубы и отвернулся. Я знаю, Юло не терпит алкоголя. Вспотевшие спасатели выпили рому и быстро и осторожно повезли его дальше.
Кто знает, что теперь с ним, беднягой! Наверное, его, как нашу маму, мучает не только боль, но и совесть, потому что это он предложил идти на Козий хребет. Но кто мог знать? Кто мог предположить, что их там ждет?! Ведь никто – ни наш отец, ни Смржовы не помнят, чтобы хоть раз лавина обрушилась с Козьего хребта. С дюмберского склона лавины сползали часто, с Гапля тоже. В прошлом году одна такая огромная лавина крушила на своем пути лес, еще и сейчас видно, как она шла. Но на Козьем хребте лавин никогда не было.
И все-таки лучше бы ребята отправились в другое место. Лучше бы Юло не вспомнил про этот Козий хребет.
И как он вообще пришел ему в голову? Ведь Козий хребет – совсем невысокий боковой гребень, не то что Гапль или Баран. Он и круче, и голый какой-то, открытый всем ветрам; удивительно даже, как на нем удерживается такой толстый слой снега.
Кое-кто из подбрезовцев ушел еще вечером, потому что Анча плакала и рвалась к брату. Она упрекала себя, что не ушла сразу, но тогда все мы верили, что, если нас будет больше, мы скорее спасем Яну. Сам Юло велел ей остаться. Анча послушалась и ушла только вечером с двумя девушками и парнем.
Остальные остались и грустно сидели на соломенных тюфяках в спальне. Их угол в столовой за елкой пустовал. Как они могли сесть за праздничный стол, если нет среди них Юлы и нет больше в живых Яны?!
Мне вдруг вспомнилось, как мы танцевали в нашей комнате, и я вскочил со стула. Я больше не мог выдержать, не мог оставаться с Йожкой, с мамой и даже с отцом, который сидел не говоря ни слова вот уже несколько часов. Хоть бы этот подвыпивший турист пришел!
Я снова сел. Но потом опять встал, подбросил в печку полено и пошел в комнату к ребятам.
Они сидели, прислонясь к стене, и вспоминали, как все произошло.
С прошлого года, с тех пор как в тумане потерялся их товарищ (потом он нашелся), они ходили в горы так: кто-нибудь один, обычно это был Юло Мравец, брал на себя командование, и все его слушались. Юло решал, кто куда пойдет, в каком порядке они будут двигаться, чтобы более слабые не отставали. Он выбирал трассу, каждому по его силам, назначал место встречи и слабых прикреплял к лыжникам посильнее. Если Юло почему-либо не шел командиром, выбирали кого-нибудь другого, только не Лайо.
По дороге на Козий хребет стало ясно, что Яне нужен тренер. Йожко попросил Юло, чтобы тот сам взялся ее обучать и сделал это сразу на подъеме, не теряя времени. Он знал, что Юло Мравец лыжник очень опытный.
– «Только потихоньку, Юло, не гоняй ее», – сказал Йожка, – вспоминали ребята. – «Это уж предоставь мне», – засмеялся Юло и сразу взялся за тренировку. Причем достаточно жестко. Он учил ее, как беречь дыхание и брать подъем. Йожка стал вмешиваться. Тогда Юло назначил его старшим и отослал вперед, к остальным. А нам было смешно, – вспоминали ребята, – и по дороге для смеха мы учинили Йожке настоящий экзамен. Правил он толком не знал, но отбивался от нас довольно ловко.
– На подковырки тоже находил ответ, – вспоминал Лайо. – Когда мы хором спросили его, с какой ноги начинать, с правой или с левой, он скомандовал: «С задней!» Анча Мравцева еще спросила, можно ли идти в шапках, а он сказал: «Нет! Приказываю надеть боевые каски!»
– Так мы незаметно поднялись, преодолев две трети Козьего хребта, и решили, что хватит. Но тут…
Дальше рассказывать никому не хотелось. Никто не мог вспомнить, в чьей голове родилась идея пересечь склон поперек, а потом развернуться строем и всем вместе, одной шеренгой, спуститься вниз.
Первая четверка прошла хорошо, все по одной лыжне. Потом они сошли с лыжни, развернулись и стали готовиться к спуску. Тогда-то внизу в долине и появились Юло Мравец с Яной. Он увидел наверху шеренгу лыжников, забегал и начал что-то кричать.
Лайо утверждает, что он кричал: «Вниз!», и лицо у него было злое и испуганное.
Эрнесту послышалось: «Брысь!», и показалось, что Юло смеется.
Не знаю, но я больше верю Лайо, потому что Эрнест шел пятым, он слышал Юло и все-таки двинулся поперек лавины за четверкой. Он не прошел и десяти метров, как почувствовал, что снег под его ногами сдвинулся.
– Я бросился лицом в снег, против движения, прижался всем телом, вцепился в него, уперся коленями… А больше ничего не помню! – закричал он, и его широко открытые глаза побелели.
Вскочив, он порылся в рюкзаке; руки его дрожали. Он достал сигарету и закурил.
– Больше я ничего не знаю, ничего, – продолжил он уже тихо. – Я был пятый… Четверо передо мной… И Юло кричал…
– Перестань, Эрнест. – Лайо поглядел на меня. – Этим ничего не изменишь.
Значит, Юло кричал. А звук в горах может сдвинуть с места лавину. Как-то раз здесь снимали кино, и тогда динамитом сдвинули столько лавин, сколько им было нужно. Но ведь это динамит, а не человеческий голос!
– Если бы вы знали, – продолжал Эрнест, уже как будто говоря сам с собой, – если бы вы знали, что это такое – чувствовать под ногами пустоту, чувствовать, что тебе не удержаться, что снег медленно ползет и…
– Перестань!
Эрнест не мог сдержаться. Сначала на животе, потом прыжками добрался он до края лавины. Лавина снесла заросли низкорослой сосны, а он успел уцепиться. С ним ничего не случилось; только поцарапало и острый обломок ветки разорвал правую ладонь. Пока он рыл снег, он этого не замечал. И ночью рука была перевязана только окровавленным платком.
– Сядь, Эрно, – сказал ему один парень. – Теперь уже все равно!
«Все равно, все равно!.. – Мне хотелось кричать. – Но ведь вы сами освободили лавину! Отрезали своими собственными лыжами, словно гигантским ножом! Вы, вы, вы сами всему виной! Вы же отлично знаете, что так на лыжах нельзя ходить. Пересекать лавину поперек нельзя, даже если лыжник один».
Я больше не мог оставаться с ними. Мне хотелось быть с мамой и отцом и ничего не слышать. Мне хотелось быть рядом с Йожкой. Я встал, чтобы уйти.
Да, а как же Йожка?
– Где был мой брат? – спросил я.
– Там наверху. Вместе с нами.
Я так и сел. Внутри у меня все похолодело, и я не мог двинуться с места.
Эрнест докурил. Теперь он лежал на матрасе, лицом вниз, прикрывая голову раненой рукой. Я видел узелок платка, мокрого от крови. Узелок белого платка с голубой каемочкой – такие есть и у нас – и большую шишку в редких, нечесаных волосах Эрнеста.
Мне хотелось коснуться его рукой и сказать, что сейчас действительно бессмысленны все слова. Мне хотелось сказать, как говорил тот пьяный турист, что судьбы не изменить и что лавина и была Яниной судьбой.
Но я так ничего и не сказал: не смог, не сумел. У меня перед глазами все время стояла их горизонтальная лыжня под Козьим хребтом, отрезавшая лавину. Начало несчастья. И окровавленный узелок и поникшая голова.
Я удержался и ничего не сказал. Ведь если б я сейчас сказал им это, мне пришлось бы сказать то же самое Йожке, он тоже был наверху с ними. Но сказать такое невозможно. Просто невозможно! Этого не вынесет ни он, ни я.
Потом Лайо рассказывал, как спасся Юло Мравец. Он отбежал от Яны, когда кричал им. И лавина задела его только краем, засыпала и, наверное, переломала ребра. По счастливой случайности его нашли через четверть часа они сами, прежде чем лыжники с противоположного склона успели сбегать к Партизанской хате, где находится Спасательная служба. Потом еще искали целых два часа. Прошло много времени, пока детектор что-то обнаружил. И, наконец, нашли… Янины лыжи. Обе.
Тогда все стало ясно.
Теперь уже никто не мог думать, что Яна заблудилась и ранена и находится где-то в другом месте.
Копали снег еще в двух местах. Уже опустилась плотная, черная тьма, обессиленные люди едва различали друг друга. После десяти часов напрасных поисков сотрудник Спасательной службы созвал усталых людей и сказал:
«Работы продолжим завтра с восьми утра. А сейчас попрошу всех пойти отдыхать. Наверх поведу вас я сам, вниз – пан Трангош».
Увидев в руках у некоторых лопаты, он добавил:
«Снаряжение оставим здесь. Соберите его в кучу».
Все стояли поникшие и не спешили уходить, хотя почти никто не ел с самого утра. Тогда руководитель, видимо, вспомнил про того типа, который с криком ушел, и сказал:
«Спасательная служба благодарит вас».
Я подумал о Смржовых и Ливе, как она вычерчивала на снегу «елочки».
Лайо повернул часы к свету и сказал:
– Скоро двенадцать.
Он встал, за ним поднялись и остальные. Только Эрнест не двигался.
– Осталось пять минут, – он смотрел на часы, – четыре…
Я глянул на Эрнеста. Все медленно уселись обратно и уже не отсчитывали минут.
Я вышел в коридор. Собаки спали, их я не мог ни в чем упрекнуть. Они целый день были с нами на лавине, лазили в тоннели, принюхивались, скулили, но против этих тонн снега были так же беспомощны, как и мы все.
В столовой открылись двери. Несколько туристов со стаканами в руках шли в кухню поздравлять нас с Новым годом. За ними, неуверенно пошатываясь, брел тот подвыпивший. Он направлялся прямо к нам в комнату. Прямо к маме. Минуту постоял около нее, хотел поздравить с Новым годом, но потом раздумал и ничего не сказал.
Я быстро подставил ему стул, чтобы он посидел с нами.
– Вот я пью, мамаша, – сказал он, усевшись, – потому что на то есть причина. Никто меня не любит. Все обманули… Понимаете, что значит «все»? Это значит… все. Не только жена. Эх, – он провел рукой по лбу, – я много выпил. Как бы вам объяснить, чтобы вы на меня не сердились… Горы меня всегда успокаивают… Они единственная непоколебимая ценность в этом мире, только они не меняются. – Он поглядел на маму и замолк.
Я видел, что Йожка его слушает.
– Сегодня вам этого еще не понять, – продолжал он. – А горам – это безразлично… Они были, и будут, и останутся всё такими же, когда и нас уже не станет, и наших детей… В этом и есть истина.
Напрасно стараешься, приятель. Моей маме этого не понять. Ни сегодня, ни потом. Она не любит горы и с самого начала живет здесь, в горах, только пересиливая себя.
– Порой они выбирают себе жертву, – пожал гость плечами. – Сегодня их жертвой стала девочка. Лучше бы они выбрали меня, старого хрыча, я уже давно прошу их об этом… Вот так…
Я заглянул в кухню, не здесь ли отец. Через открытое окно я увидел, как он входит в столовую. Шапка на его голове была вся в снегу.
Значит, пошел снег.
Туристы повернулись к отцу. Он постоял минутку, снял с головы шапку и сказал:
– Желаю дорогим гостям счастливого Нового года.
* * *
Рано утром, еще затемно, мама поднялась. Умылась, причесалась и надела темное платье.
Мы с Юлей начали убирать. Я выносил сор и увидел на крыльце Йожку – он ждал рассвета.
Подбрезовцы вставали. Один за другим они шли к умывальнику и потом, уже обутые, подходили к Йожке. Эрнест, бледный как полотно, левой рукой с трудом застегивал куртку. Правая висела на шарфе, повязанном вокруг шеи. Носовой платок на его руке был совсем черный, а пальцы распухли и потемнели. Я кинулся за Юлей, чтоб она позвала того доктора, который ночью давал маме порошки.
Отец готовил в кухне завтрак. Мама надевала на толстые чулки черные ботинки на шнуровке.
– Не надо, Тереза, – говорил ей отец, – я сам пойду. Дай мне рубашку и нарежь хлеба. Мне пора.
Если родители Яны успели ночью на поезд, то приедут первым автобусом.
Юля отправила меня в столовую вычистить печку и прибраться. Я обрадовался, что есть чем заняться. Я с большой охотой высыпал окурки из пепельниц и протер их мокрой тряпкой, стряхнул скатерти и обмел снег со ступенек. Вымел бетонную дорожку, ведущую из столовой через всю террасу. Когда рассветет, я расчищу от снега все дорожки.
Страж и Бой еле дождались дня. Они выбежали через столовую прямо на свежий снег. Я глянул на небо. Мерцали яркие звезды, словно не наступало утро, а все еще стояла глубокая ночь.
Я услышал шаги отца. Мне стало очень жалко его, и, отложив метлу, я крикнул с террасы:
– Может, и мне пойти, папа?
Честно говоря, я очень боялся, вдруг он скажет: «Пойдем, сынок, пойдем…»
Но он велел мне остаться.
– И наверх не ходи, – сказал он, повернувшись, – останься с матерью. Помоги ей. Ведь есть-то людям все равно надо.
Мне хотелось подняться в горы, к лавине. Но когда отец запретил, я вдруг понял, что на самом деле я вовсе не хочу туда. Вчера, когда я еще верил, что мы найдем Яну живой, мне страшно было оставлять ее там одну, а сегодня… сегодня мне не хотелось, чтобы туда шел даже Йожка.
Не ходи туда, Вок! Не ходи… Скрипят ступеньки, кто-то спускается вниз, и я слышу, как Яна говорит: «Доброй ночи, Йожка… У вас здесь так чудесно!»
Так чудесно!..
Не ходи наверх, брат! Если бы ты только мог не ходить…
Мы с Юлей подаем завтрак. Ребята берут лыжи и уходят. Йожка идет, окруженный подбрезовцами, и с ними вчерашний подвыпивший турист. В жизни я не видел такого хорошего и такого грустного человека.
Юля налила мне теплой воды помыть чашки. Я мою их, вытираю, убираю в буфет. Мама сидит и смотрит. Глаза у нее провалились, руки сложены на коленях.
Пришла Габуля, неумытая, в ночной рубашке, мордочка надутая; она проснулась одна в чужой комнате. Прошлепала по кухне босыми ногами и влезла к маме на руки. Уткнулась ей в платье, мама обняла ее и стала медленно покачивать.
Уже почти совсем рассвело. Деревья, белые от ночного снега, быстрее ловили утренний свет.
Взглянув на часы, я сказал маме:
– Ей пора одеваться.
Габуле одеваться не хотелось; она посмотрела на меня и фыркнула:
– Молчи ты!
Но Юля принесла Габе ее вещи, забрала в комнату и выпустила уже одетой. Я заметил, что на Габочке нет обычных лыжных штанов, а темно-синее платье и белые чулки.
Тогда и я пошел надеть белую рубашку.
И тут из дома я увидел отца с каким-то невысоким человеком в черной шляпе. Впереди шел бледный мальчик в лыжных брюках и длинном пальто. Петер! Или Павел! Янин брат… Янина мама не приехала…
Я побежал и сказал нашим в кухне. Мама встала, вышла по коридору на крыльцо, спустилась по ступенькам и пошла прямо по снегу навстречу Яниному отцу. Габа плелась за ней. Я схватил ее за руку и удержал на крыльце. Когда мама остановилась, низенький человек поднял голову, и я увидел его лицо. Но не глаза. Их скрывали золотые очки. Я видел только мамины светлые волосы и землисто-серое лицо в профиль.
– Вас только бог утешит, если он есть, – проговорила она с трудом, – а нас… простите нас… если сможете…
Янин отец стоял и глядел маме в глаза. На скулах его ходили желваки – наверное, он крепко сжал зубы. Он громко дышал, и я увидел, как у него задрожал подбородок. Кивнув головой, он снял шляпу и подал маме руку. Потом отошел от мамы и быстро прошел с мальчиком в коридор вслед за нашим отцом.
Я не хотел пускать Габу в комнату, да и сам не пошел. Но Габа вырвалась и, проскользнув через двери, подошла к Яниному брату и спросила:
– Ты Петер или Павел?
Мальчик прижался к отцу.
– Убирайся! – сказал он Габе с такой ненавистью, что я испугался. – Поняла?! – крикнул он, лицо у него скривилось, и он отвернулся.
Я схватил Габу и толкнул ее в кухню к Юле. Потом без шапки выбежал на улицу, взял лыжи и пошел в горы.
Снег слепил меня, прилипал к теплым лыжам, а я все шел и шел, не останавливаясь, с трудом переводя дыхание. Я торопился, я шел не к лавине, а через лес, забираясь все выше и выше, чтобы никого не встретить, остаться наконец одному.
Остановившись, я перевел дыхание и глянул вниз в долину.
С ближнего склона спускалась группа людей, неся на плечах лопаты. За ними на санях… Яну нашли и везли ее… завернутую в розовое одеяло! Розовое одеяло так и сверкало, отражалось на снегу, а на нем лежало что-то зеленое. За санями шли еще какие-то люди с лопатами и без лопат. Процессия двигалась медленно. Никто не спускался вниз на лыжах.
Я кинулся обратно домой, но в комнаты не пошел. Подожду на улице и войду вместе с Йожкой.
Я не дам ему войти одному. Я его не оставлю. Я не допущу…
В сарае зазвенели колокольчики. Это Юля пошла в сарай за факелами и наткнулась на наши сани. Колокольчики звенели, а я, сбросив лыжи, вбежал в сарай и, когда Юля ушла, сорвал с саней все колокольчики. Потом кинулся к леднику и забросил их в самый высокий сугроб: пусть заржавеют и больше никогда не звенят.
Процессия остановилась. Йожка медленно направился в дом. При дневном свете я увидел, что за ночь лицо его еще больше осунулось.
Остальные столпились около Яны. Ее я не видел. Видел только розовое одеяло, лыжи справа и в ногах большой еловый венок.
Йожка встретил Яниного отца в кухне.
Остановился, опустил голову и словно окаменел.
– Я… – начал он, – моя… – Но у него перехватило горло, плечи задрожали, он застонал, послышалось глухое, прерывистое рыдание.
Мы не выдержали этого. Никто из нас не смог выдержать.
Янин отец подошел к Воку. Положил ему руку на плечо, потом обхватил за шею, притянул его голову и заплакал:
– Что мы теперь будем делать, сынок?!
Потом оторвался от Йожки, надел черную шляпу, взял за руку мальчика и вышел на улицу вместе с моими родителями.
Йожка рухнул на стул, опустил голову и весь затрясся от тихих, страшных рыданий.
Я хотел подойти к нему, но Юля остановила меня. Она вышла со мной и Габой в комнату.
– Оставь его, – шепнула она, – он совсем без сил. Поплачет – станет легче…
Я выглянул в окно.
Сани двинулись, и венок задрожал. Яна уезжала. На таких санях тихо исчезала принцесса с далекого Севера.
Все молча стояли у террасы.
Только Янин отец, ее брат и мои родители шли за санями.
С ясного неба посыпался мелкий снег. Он покрыл Яну серебряными звездочками.
Я повернулся и кинулся к себе в комнату. Как давно я в ней не был! Как давно… Неужели все это было только позавчера?! Я оглядел комнату, тихую, убранную елку, на которой качались пустые бумажки, и не мог поверить, что прошло всего два дня, что за два дня может произойти столько страшных событий. Потом я медленно пересек комнату и улегся на свою постель. Я лежал, уставившись в белый потолок, и понемногу начал верить, что все страшное случилось не здесь у нас, а где-то в другом, злом мире…
* * *
В начале апреля Юле позвонили и попросили приехать в Бенюш присмотреть за больной сестрой. Утром я не пошел в школу. Отец повез Юлю, и мы с Габкой остались одни.
Я только успел закрыть дом и повесить Габе ключи на пояс, как наши псы стали принюхиваться и брехать. Я еще не успел посмотреть, в чем дело, как Габа вырвалась и, гремя ключами, кинулась вниз по дороге. На дороге из-за поворота постепенно появлялась старомодная лыжная шапка, затем выцветшая куртка, и, наконец, во всей своей красе показался дядя Луковец. Дядю Луковца я очень люблю. Знаю я его давно, но люблю только с сочельника. Ведь в ту ночь он пришел к нам в комнату. И сидел возле нашей мамы. Люблю я его за те слова, которые он тогда говорил, а главное, за то, что с той поры он захаживает к нам почти каждое воскресенье.
Сразу после Нового года наша мама заболела. Пять недель она лечилась в больнице и до сих пор поправляется в Бенюше. Уже и отец стал подумывать о том, что нам придется отсюда уехать. Ведь мы не можем жить без мамы. Только дядя Луковец постоянно твердит: подождите.
Габка кинулась к дяде Луковцу с такими горячими объятиями, что он едва удержался на ногах. А наши собаки чуть не разорвали его от радости. Вся эта группа медленно приближалась к дому. Вид у них очень смешной. Каждую минуту они останавливались, сбившись в запутанный клубок, потом опять расходились и продвигались на несколько шагов вперед.
Я хорошо помню, как тогда ночью дядя Луковец говорил маме, что никто его не любит. Может быть, раньше это и было так, но теперь все изменилось.
– Добрый день, хозяин, – подал мне руку дядя Луковец, и в голосе у него не было насмешки.
Я заметил, что стою на том самом месте у террасы, где отец обычно встречает туристов, и ответил голосом отца:
– Приветствую вас. – И, как отец, прикрикнул на Стража и Боя, чтобы не приставали к гостю.
– Ты чего это, – обиделась за собак Габа, – раскомандовался? Знай, что я остаюсь дома! Я не пойду с тобой ловить рыбу!
Я так на нее разозлился, что, не будь дяди Луковца, честное слово, она бы у меня заработала. Так мне и надо. Ведь знаю ее как облупленную и все-таки не могу сдержаться и все ей выкладываю. Вот и получаю по заслугам.
«Какую рыбу?» – хотел я ей сказать, чтобы навести тень на ясный день, но дядя Луковец сам пришел мне на помощь. Снял шляпу, вытер лоб платком и сказал:
– Надеюсь, ты дашь мне бутылку пива, хозяин, а может, я ошибаюсь?
– Конечно, дам, – поспешил я ответить и кинулся за Габой, чтобы забрать у нее ключи.
– Постой! – закричал мне вслед дядя Луковец. – Напьюсь-ка я лучше воды из ручья. Мне и пива-то не хочется. Не буду задерживаться, заберусь на гребень, а потом посижу у вас. Ладно?
Я оставил Габу в покое и вернулся к нему.
– Вы тут пока делайте свои дела, – продолжал он, – а под вечер я приду. И заночую у вас.
– Хорошо, – согласился я, – я протоплю для вас третий номер.
Он всегда останавливается в третьем номере.
– Зачем, – махнул он рукой, – уже тепло, не надо топить.
Все равно я протоплю. Ночи еще холодные.
Я смотрел ему вслед, пока он не скрылся в лесу. На вершину он все равно поднимется во что бы то ни стало. Он должен убедиться, что в горах ничего не меняется, что они всё так же стоят на своем месте и будут там стоять вечно… «В этом и есть истина», – сказал он той ночью.