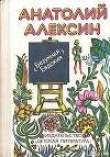Текст книги "Брат Молчаливого Волка"
Автор книги: Клара Ярункова
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
– Но ведь это же для Иветты, – ответила мама, как обычно. – Будет мазать на хлеб, бедняжка.
А дядя Ярослав со вчерашнего дня пристает к маме, чтобы она попросила моего отца взять его на работу на нашу горную турбазу. Мне бы он не помешал. Сходили бы вместе под Гаплик, поискали старые рудники. Но что дядя сможет у нас делать (я имею в виду настоящее дело, как у отца, мамы, Юли, Йожо), этого я себе не представляю. Дядя говорит, что осенью он мог бы сопровождать иностранных охотников. Говорит, что эти иностранные господа хотят не только поесть и поспать (это им обеспечат наши), но после ужина еще и побеседовать с интеллигентным человеком из местных. А для этой цели отцу трудно будет подобрать лучшего работника, чем дядя Ярослав. Это занятие, конечно, не самое плохое, но, по-моему, все-таки ерундовское, хотя дяде вполне хватило бы зарплаты 1200 крон в месяц.
Мне стало жалко маму, когда я представил себе, как она будет просить отца. Но она сама нашла выход.
– Об этом надо справиться в «Туристе», Ярослав, – сказала она дяде. – Мы ведь только сотрудники. И хотя мой муж заведующий, но вопроса о найме рабочей силы он не решает.
Дядя задумался.
– И еще… – продолжала мама. – Что Иветка будет делать в Мартине без тебя?
Про тетю Тильду она и не вспомнила. Хорошо хоть так. Но варить для нее по ночам варенье нечего! Пусть сами заботятся о варенье для своей Иветты. У моей мамы и без них работы хватает. У нее нет даже минутки свободной, чтобы, как я, посидеть на теплом мху. А если она хоть ненадолго освободится, то идет окапывать бенюшский картофель или берется мыть стекла на веранде, а в окнах семьдесят два переплета!
Ливина мама не работает на горной турбазе кухаркой. У них есть повар. Ливина мама надевает красивые техасы и отправляется в канцелярию выписывать счета. А когда осенью ей наскучат вечные туманы, она садится и едет в Песчаны навестить Эсту, которая учится в школе на официантку. И Ливу в Брезне. Но ненадолго.
Может быть, сейчас Лива играет на гармонике. И если б было еще тише, я мог бы услышать, как она выводит: «Я люблю играть на банджо, я играю соснам, играю и серым скалам, я аккорды швыряю в огонь…»
Ах, какая это все чепуха! Я не могу ее услышать. Не могу услышать, я знаю это отлично! Но как бы мне хотелось!
Я растянулся на душистом мху и разглядывал кусочки неба между стволами деревьев. Если б со мной была хотя бы тетрадка Вока со стихами. С каким удовольствием я перечитал бы их снова! Не все, а только некоторые я прочел бы с большим удовольствием. Например, «Завывает печаль в кронах, ползет, ползет черный гад».
Мне уже давно понятно, что черный гад – это тоска. Все вокруг черное, грустное…
И новые стихи я бы охотно прочитал, те, которые появились, когда Вок не смог поехать в Ружомберок. Они мне очень нравятся. Лучше, конечно, если б я сам написал стихи. Но только я не могу, потому что не умею. Но если бы я когда-нибудь научился их писать, мне вовсе не хотелось бы, чтоб в них рылась Габка или кто-нибудь другой.
Я тоже никогда больше не стану читать стихи Вока – только если он сам даст.
А это значит никогда.
* * *
– Сегодня мы будем спать в комнате предков, на полу, – сказал мне Вок. – Пятнадцатую надо освободить.
– А почему?
Йожо ничего не ответил, но я и без него прекрасно знал, почему. Потому что приедет Яночка со своими родителями, а все комнаты заняты. Могу себе представить, как мама про себя восторгается, что ее Йоженька нашел себе такую порядочную девушку. Ха! Порядочную! Захочется ей – напишет письмо; не захочется – не напишет. Да только мама имеет в виду совсем другое, хотя бы то, что Яну не пускают одну лазать по горам. Наша мама жалеет всех родителей, у которых дочери ночуют в палатках вместе с мальчишками.
Я и сам однажды пожалел одну такую (не родителей, а ее), когда совсем поздно вечером она прибежала к нам в дом с сумочкой в руках, полуодетая, и попросила отца, чтобы мы пустили ее переночевать. Я слышал, как она плакала на кухне и что-то рассказывала маме. А самое отвратительное, что утром к дому явилась целая ватага ребят и девчонок. Сначала я и сам смеялся, когда они грохнулись на колени и стали нараспев выводить: «Явись нам, о святая Орлеанская дева!» Но когда девушка вышла и даже улыбнулась, они принялись швырять в нее ее вещами так, будто это были камни. Я обозлился и побежал искать Йожо, чтоб он им дал как следует. Но только вдруг ни с того ни с сего на них заорал кто-то из своих же ребят. Он взял и уехал вместе с этой девушкой.
Я понимаю, это был просто розыгрыш, но, по-моему, если кто-то плачет, нужно прекращать всякие шутки, потому что это уже не веселье, а тоска.
Но мне все равно не ясно, почему нужно жалеть родителей. Между прочим, когда ребята сидят вечером возле костра и до самой ночи поют песни, я начинаю им завидовать, а мама уговаривает отца, чтобы он не прогонял их.
Но только Йожина Яночка – это дело другое! Маменькина дочка со слюнявчиком (у нашей Габульки еще сохранился один такой), такая в палатке ночевать не может. Тсс! Еще козявка в ушко заберется. Вот мы какие кисоньки!
Я просто умираю от любопытства, что это за явление.
– Давай пошевеливайся! Понесем матрасы с чердака, – подгонял меня Йожо. – Юлька хочет перенести нашу постель из пятнадцатой.
Он еще будет командовать. «Юлька»! Наша Юлька по уши втрескалась в своего летчика и для Йожо расшибется в лепешку, потому что воображает, будто он тоже влюблен. Очень возможно, что так оно и есть. Если судить по стихам, то по уши и до самой смерти. Я отправился в комнатку родителей. Как мы разместимся здесь втроем на полу? Я стал измерять пол шагами и помешал Иветте писать письмо «дорогой мамочке», но тут зазвонил телефон. Я поднял трубку.
– Алло, кто там? Отвечайте! – кричал на меня кто-то генеральским голосом, и я тут же узнал моего одноклассника Д эжо Врб ика из М ыта.
– Главный штаб партизанских войск генералиссимуса Дюрая Трангоша слушает! – заорал я в ответ, и мы оба захохотали.
– Как вы поживаете, генералиссимус? – продолжал Дэжо дальше по-русски, и я уже готовился ему по-русски отвечать, когда Дэжо вдруг снизил голос: – Отец идет. Вам телеграмма. Потом позови меня опять!
Телеграмма была короткая, но очень важная.
– Адрес: «Трангошу Йозефу», – диктовал почтмейстер. – Текст: «Больна не приедем». Подпись: Яра, не то Юра, не то Яна. Отправлено из Ружомберока в 11.05 Записал?.. Как поживает отец? Передавай привет.
Я ответил телеграфным языком:
– Уже записано. Отец поживает хорошо. Привет передам. Дядя, позовите мне, пожалуйста, Дэжо.
Я ничего не записал: это вполне естественно. Такую телеграмму запомнит и обыкновенный фокстерьер, а фокстерьеры, как известно, самые глупые собаки. Главное, что ее запомнил Йожо. Больна! Ну, что я вам говорил?
Подул на меня ветерок,
Не жди меня, дружок.
Ага! Стихи! А ну-ка попробую дальше:
У меня мокрый носочек,
Готовь мне, Йожо, платочек.
Нет, очень глупо! Глупо и то, что я смеюсь. Добро бы, мне было смешно, так ведь не смешно же вовсе. Да и что тут смешного? Яна заболела. И Вок будет ходить грустный. Ничего смешного в этом нет. Смешно было только, когда Дэжо разговаривал со мной по телефону по-русски: «Как поживают ваши солдаты?» По русскому языку у него двойка, но просто поболтать по-русски он умеет отлично.
Опять зазвонил телефон.
– Довольно, товарищ хулиган! – закричал я. – У меня-то по русскому четверка.
– Представь себе, – сказал Дэжо уже по-словацки, – послезавтра приедет Квачка!
Квачка – это наша учительница Квачкова. Она снимает у почтмейстера мансарду. Но нас, к сожалению, не учит.
– Она должна являться за неделю до начала занятий, представь себе!
– Представь себе, – начал я его передразнивать, – что меня одолевают сомнения, не отправиться ли мне на недельку в Братиславу, представь себе!
– А мне, представь себе, в Прагу.
– Но меня одни тут хотели взять с собой в Братиславу, прокатить на розовом «Спартаке», представь себе. Факт!
– А за мной прилетали прямо из Пражского кремля на серебряном самолете, представь себе!
– Ну и поезжай, балда!
– Только после того, как ты съездишь, тупица!
Потом мы еще некоторое время великолепно, ну просто великолепно переругивались, пока Иветта не зажала уши и не выскочила вон из комнаты.
– Воздух очистился, – сказал я нормальным голосом.
– А кто там у тебя был?
– Да двоюродная сестра.
– Которая? – ахнул Дэжо.
– Не бойся, не Зуза.
Ему в прошлом году очень нравилась моя двоюродная сестра Зуза из Бенюша. Дэжо готов бегать за каждой юбкой, потому что он девчатник. Сколько он мне нарассказывал про девчонок из Мыта! Но, по-моему, это такая же правда, как серебряный самолет и Пражский кремль.
Когда Дэжо в прошлом году увидал у нас Зузу, то полдня ходил красный как рак и позабыл сразу все языки, не только словацкий или русский! Герой! А потом в школе хвастался, что летом бегал за одной девчонкой. Это он имел в виду нашу Зузу. Х-ха-ха!
– Передай ей от меня привет, – начал он опять выхваляться.
– Кому? – спросил я.
– Ну своей сестрице.
– Передам! Ей три года. – Я специально наврал про Иветту.
– Ну и? – соображал Дэжо. – А ты разве не любишь трехлетних детей?
Выкрутился, негодник!
– Послушай, Дюро, – снизил Дэжо голос и, наверное, прикрыл рот ладошкой. – Принесешь?
– Еще не знаю.
– Как, то есть, не знаешь?
– Но у меня еще этого нет.
– А будет?
– Не знаю наверное.
– Послушай, может, тебе уже на все наплевать?
– Нет, не наплевать. Только у меня пока еще этого нет.
– Так ты кто, друг или тряпка?
– А ты тапочка!
– А ты онуча!
– А ты военный сапог!
– А ты цыганская туфля!
И мы начали опять. Мы ругались как только умели. А потом мне вдруг пришла в голову мысль: если нас кто-нибудь слушает, догадается ли он, что это беседуют лучшие друзья? Неизвестно. Ха-ха!
Когда мы перечислили всю обувь, которую знали, тапочки и онучи, Дэжо принялся за животных. Мы дошли до шакалов, и я собирался обозвать его гиеной, но тут в комнату вошла Юля. Я быстренько перешел на русский язык, чтоб она ничего не поняла. А так как я не знаю, как будет гиена по-русски, то вернулся к началу разговора:
– Не беспокойся, все будет. У нас еще семь дней времени.
– Что значит «семь времени»? – продолжал дурачиться Дэжо. Да только, наверное, вошел его отец, потому что он вдруг сказал нормально: – Значит, договорились, генералиссимус?
– Договорились, пижон. – И я положил трубку.
Юля сердилась, что я еще не принес матрасы.
– Сделай одолжение и отнеси простыни обратно, – сказал я. – Визит отменяется. Как говорится, поспешишь – людей насмешишь. А если не станешь спешить, то не будет надобности вообще таскать матрасы…

Йожо поначалу не хотел мне верить. Пошел в комнатку, заперся там и сам позвонил почтмейстеру. А потом ушел в лес. Когда он проходил мимо Марманца, где мы с Габкой сидели на лавочке и ели хлеб с маслом и луком, то нарочно засвистел. Но я смотрел на него и видел, что он поднимается в гору медленно и тяжело, совсем как заболевший олень. Когда олень захворает или его ранят охотники, он не корчится от боли и не стонет, чтоб его все звери жалели. Он уходит из стада и один бредет в лес. Там он отыскивает себе укромное местечко, чтобы никто ему не мешал и не беспокоил, ложится и ничего не ест, только тихо лежит и ждет своего последнего часа. Иногда случается, что он выздоравливает. Но только не зимой и не в дождливую погоду. И вообще это случается очень редко. Но если оленю все-таки улыбнется счастье и он почувствует, что его последний час еще не пробил, он начинает медленно объедать траву вокруг себя. А когда может уже подняться на ноги, то еще некоторое время пасется один. И лишь набравшись сил, вновь возвращается к стаду.
Я не такой герой. Когда у меня однажды зимой болел зуб, я так орал, что мама целую ночь делала мне припарки и грела в мешочке соль…
Я оставил Габке пол-луковицы. И пустился в лес вслед за Йожо. Интересно, индейский вождь Винету выследил бы Сиоукса в таком густом лесу, как у нас за домом? Огромная площадь, и никакой тебе ботаники, только сухая хвоя, на которой разъезжаются ноги. Выследил бы, если б Сиоукс, как наш Йожо, ни разу не поскользнулся и не оставил никаких следов? Пожалуй, и у Винету ничего бы не вышло.
Прошло уже полчаса, а я все еще перебегал от дерева к дереву и в который раз вспахивал носом землю. Тогда я решил вернуться домой, но только другим путем. И тут на прогалине заметил Йожо. Он лежал, подперев голову руками, и лениво обрывал черные бусинки черники.
Я собрался уйти из лесу.
– Ты не видел Боя? – обратился я к нему.
– Чего? Боя? Не-а! – помотал головой Йожо совсем как наш учитель Фукач, который сначала смеется, а потом дает взбучку. – Ну как, сегодня ты не тренируешься в беге? Или у тебя тренировка, только когда дождь идет, а?
Вот так раз! Что, у меня прозрачная голова, что ли? Или люди уже научились читать мысли? Как это Йожо разглядел, что у меня скрывается в самых потайных извилинах мозга? Не хватало еще, чтоб он в моей голове обнаружил свои собственные стихи. Правда, только этого мне не хватало!
Я посмотрел на него. Он оскалил черные зубы и на черный язык медленно положил черничину. Нет, ни шиша он не знает! Иначе он мог бы заметить, что я всегда за ним приглядываю, когда его Яночка выкидывает какой-нибудь очередной фокус.
Ну и что с того? Ведь я ничего не говорю и не спрашиваю. Только не оставляю одного. Разве запрещено ходить за братом, если ему грустно? Я думаю, что такого запрещения никто не издавал. Даже сам Вок.
– Может, хочешь? – Он ткнул пальцем в черничник.
Я улегся с другой стороны куста и тоже подпер голову рукой. Прогалина, на которой мы находились, была высоко, обрыв под ней круто падал в глубокую пропасть. Там внизу едва виднелись вершины елей. Если ель старая, то у корней она может подгнить. Особенно если деревья стоят плотно друг к другу. Нижние ветви обычно бывают уродливыми и сухими. Но вершины деревьев всегда прекрасны. На самых макушках качаются молодые багровые шишки. Они раскачиваются из стороны в сторону, и если б одна из них зазвенела, как серебряный колокольчик, то, наверное, сразу посыпался бы снег и наступило рождество.
– Знаешь, а зима будет суровая! – сказал я Воку.
– Не знаю.
– А я знаю. Будет суровая здесь, у нас, это уж обязательно.
– А в других местах?
– Про другие места не знаю. В Ружомбероке, например, может быть, будет только слякоть.
– Ну и что? – протянул Вок совсем как учитель Фукач.
– Ничего! Но здесь у нас снегу будет ого-го!
– Что ты хочешь сказать своим «ого-го»? – усмехнулся Вок. Он начал подтрунивать надо мной совсем как Дэжо Врбик.
– Этим я хочу сказать… – остановился я, – хочу сказать, да вот боюсь Молчаливого Волка…
– Смелей, смелей, укротитель микулашских мясников! – засмеялся он.
– А то, что на рождество к нам могла бы приехать Яна кататься на лыжах!
И тут же прикрыл голову руками, словно испугавшись оплеухи.
– Неплохо придумано, капитан, – сказал Вок басом.
Потом поднялся, размял затекшие ноги и совсем как выздоровевший могучий олень кинулся к дому.
Я, конечно, следом за ним.
* * *
Вот и уехали дядя Ярослав с Иветтой, разъехались все туристы, которые брали с собой детей. Дядю Ярослава утром захватил желтый автобус. Это была фабричная экскурсия (фабричный желтый автобус развозит рабочих с текстильных фабрик на экскурсии). Отец с ними договорился, и маме пришлось быстро собирать Иветту. Дядя радовался, что может ехать бесплатно, но уезжать ему не хотелось. Он тут же начал убеждать шофера, что вечером мотор тянет лучше да и на дорогах не такая давка. Шофер смеялся, что, дескать, не он распоряжается машиной, не он решает, но догадывается, почему так торопятся с отъездом женщины: ведь им надо еще выгладить своим детишкам пионерские галстуки на завтра в школу.
– Где это видано, – возмущался дядя Ярослав, складывая вещи, – уезжать с гор утром! Да еще в такой погожий денек! Понимают они природу!.. Явятся, наедятся, напьются, отоспятся – и домой. Вот и все, что им нужно!
Он ворчал и ругал весь мир и всех тупых и некультурных дураков. А наша мама поддакивала, чтоб он не подумал, будто мы пляшем от радости, что они наконец уезжают.
Мне больше всего нравилось, как дядя рвется к своей Тильдушке! Так рвется, так рвется, что готов залезть в малинник, как наш Бой, чтоб о нем позабыл и отец и все шоферы всех фабричных автобусов на свете, и вылезти оттуда только в октябре, когда начинают реветь олени и иностранные туристы заказывают после ужина вино и интеллигентного собеседника из местных. Тогда дядя Ярослав с отросшей седой бородой вылез бы и начал плести небылицы, которые придумал, сидя в малиннике. Я и сам охотно бы его послушал.
Но тут я услыхал, как взревел автобус, увидел бегущего дядю Ярослава с чемоданом в руках (Иветта уже давно сидела в автобусе) и успел лишь помахать ему рукой на прощание.
Жаль. Жаль, что мы так и не заглянули в заброшенные копи под Гапликом.
– Бедняга, – сказала мама, – не позавидуешь человеку, который болтается без дела.
– Как волка ни корми, он все в лес смотрит, – махнул отец рукой и вошел в дом.
– Кто знает, – продолжала мама, – имей он работящую жену…
– Один лентяй, а другая лежебока, – сказал отец безжалостно. – А твой Ярослав переплюнет даже самого дядюшку С олнока, – засмеялся отец.
Дядюшка Солнок – знаменитый дед из Штявницы. Прославился он тем, что за всю свою жизнь проработал только одни день секретарем у какого-то графа. Взяли его играть с графом в карты. Утром дядюшка Солнок приступил к своим обязанностям, сел играть, а вечером его уже прогнали. Почему? Да потому, что дядюшка Солнок все время выигрывал! А с графом надо было играть так, чтобы выигрывало только их сиятельство. «Ну и ищите себе другого! – крикнул на прощание дядюшка Солнок. – Я честный игрок, а не ваш прихлебала!» Сгреб свой выигрыш, взял плату за день работы и хлопнул дверью. Мы помирали со смеху всякий раз, как дядюшка Солнок рассказывал нам эту историю, а рассказывал он ее раз двадцать. Отец прошлой осенью, когда лили дожди, привез его к нам из Штявницы и целых три недели резался с ним в карты. Папе дядюшка Солнок был по душе. Он собственноручно носил ему каждый вечер кашу – дядюшке было без малого девяносто и зубов уже не осталось ни одного. А зимой дядюшка Солнок умер, и отец ездил в Штявницу на похороны.
Дядюшку Солнока отец никогда не называл лентяем. Может быть, потому, что любил его, а дядю Ярослава нет.
– Дядя Ярослав тоже станет знаменитым, если целую жизнь проживет без работы, – сказал я.
– В нынешние времена так прожить – невелик фокус, – не согласился отец, – теперь это каждый может. А ты лучше о школе думай. Вот твоя работа!
И я без школы мог бы прожить. Не знаю, всегда ли, но уж месяц-то запросто.
– Ой, что-то пусто стало у нас на кухне, – вспомнила мама дядю Ярослава, ставя на плиту суп. И, глянув через окно в столовую, отлила из большой кастрюли добрую половину.
Столовая была почти пуста. Только на террасе в шезлонгах сидели несколько человек. Отец пришел из конторы и сказал маме, сколько надо на сегодня обедов, и она отлила еще литра два. Потом нарезала мясо для ромштексов, села и спросила:
– Как ты думаешь, Юленька, могу я сходить под Шпрнагель взглянуть на свой картофель?
Юля ведь тоже из Бешоша, но картошка ее не интересует. Ее интересуют только летчики.
– Конечно, идите, – засмеялась Юля. – Можете прийти к самой раздаче. И так делать нечего.
Строит из себя работягу, а сама не больно любит работать. Засядет в своей комнате и давай считать деньги, хватит ли ей на приданое. Или вяжет салфеточки.
Мама оделась, собрала наше семейство, и все мы дружно отправились к Шпрнагелю. Я остался, сказал, что буду помогать Юле чистить картошку. Все очень удивились, но меня оставили.
Я никак не мог уйти. Это, конечно, нехорошо, потому что прогулка была затеяна в честь прощания с Воком, ведь после обеда отец отвезет его в Штявницу. И все-таки уйти я не мог, ведь Шпрнагель совсем в другой стороне, чем Партизанская хата. Эста и Лива, конечно, могут спуститься и через Млынскую долину, но что если вдруг они пойдут мимо нас? Нехорошо, если никого не окажется дома. Что они подумают? Раз в год заглядывают к нам – и то никого нет дома.
Я взял картошку, сел к окну и стал действительно помогать Юле. Мы говорили с ней о наших диких кошках, которые живут в зоопарке, потом перешли к тем, которых принесет Жофия. Вот уже несколько дней ее нет дома. Наверное, опять заговорил в ней голос предков, и она неизвестно куда исчезла.
– Лучше всего, – рассуждала Юля, – уже сейчас написать в Братиславу. Пусть за ними приедут.
– Не бойся, – я сразу догадался, о чем она думает, – он и без письма явится. Мы ведь не знаем точно, когда котята появятся на свет.
Кто знает, вернется ли Жофия вообще. Может, на этот раз дикие сородичи уговорят ее, и она останется с ними навсегда. Я бы порадовался за нее. Да только не знаю, как она переживет зиму, ведь в норах в лесу печек не бывает.
– Ты слушал сегодня радио? – Юля подняла слезящиеся от лука глаза. – Восемьдесят человек вместе с самолетом упали в море. Ни один не спасся.
– Не волнуйся, – утешал я ее, – у нас в Словакии нет моря. Зря ты ревешь, такого у нас не может случиться.
Юля засмеялась и накрошила лук в сало. Оно зашипело на сковороде, а Юля умылась, встала напротив меня и загадочно улыбнулась.
– Больно много понимать стал, – сказала она, покачав головой. – Ох, Дюро, что только из тебя будет!
– Ну как, писать в Братиславу? – спросил я с невинным видом.
– Не надо, сама напишу, – созналась она наконец.
Потом мы стали выяснять, что я думаю про ее летчика.
Я сказал, что он парень подходящий. Юля очень беспокоится, как бы его вдруг не увела какая-нибудь другая девчонка, ведь он такой красивый. Я ее успокаивал. Пусть не боится, не такой уж он красавец, а тут еще его наши котята ободрали, и он стал совсем страшный и теперь наверняка никакой девчонке не понравится.
– Интересно посмотреть, какую красотку подхватишь ты, – сказала Юля.
– Меня бабы не интересуют! – отрезал я.
– А как по-твоему, Эста из Партизанской хаты красивая?
– Не знаю, не обращал внимания.
– С ней родителям хлопот не обобраться. Еще семнадцати нет, а у нее уже кавалер. Ондрей, их официант. Потому-то ее и отправили на все лето в Татры на практику, подальше от дома. Чтоб позабыла его.
– Вот это да! А я и не знал. А почему ей надо забывать Ондрея?
– Потому что он Эсте не пара, – фыркнула Юля. – Для нее пара доктор или инженер, а не какой-то официант!
Ну и бред собачий! На что ей врач или инженер, если она сама будет работать на турбазе?
– А их младшая будет красавицей. Она и сейчас уже штучка. И с ней тоже хлопот не оберутся.
Если наша Юля начнет сплетничать, ее не остановишь.
– Знаешь что, – сказал я, бросив чистить картошку, – я сбегаю к ручью на минутку…
– Так, значит, младшая тебе не нравится? – продолжала нудить Юля, словно не слыша.
– Я буду здесь, возле дома! – крикнул я из коридора. – Если кто придет, позови.
– А кто может прийти? – высунулась Юля из кухонного окна.
– «Кто, кто»! Наши! – огрызнулся я на ходу.
Так я тебе и сказал, держи карман шире.
Ни к какому ручью я не пошел. А полез вверх, откуда сквозь редкий кустарник хорошо видна Партизанская долина.
Мне просто надо было уйти от Юли. Надоело разговаривать. Воображает, что только она одна на целом свете хорошая, а у всех остальных девчонок ветер в голове. Даже у бедняги Ливы, которая с первого сентября только еще пойдет в седьмой класс. Я вовсе не обязан слушать ее глупости! Для Юли каждая девчонка – штучка, если она не сидит, как квашня, и не вяжет эти отвратительные салфетки. Каких таких хлопот с Ливой не оберутся? Ну каких?..
Время уже близилось к обеду, когда на голом склоне под Партизанской хатой я разглядел четыре фигурки. Они были такие крохотные, что, не будь одна из них в белом, я бы и не заметил их на буром склоне. Приходилось не спускать с них глаз, потому что я только разок глянул на самолет татранской авиалинии и тут же потерял их из виду. Я весь вспотел, пока наконец разыскал их чуть ниже на склоне. Они спускались к нам! Но только страшно, страшно медленно. У меня еще было время сбегать за отцовским биноклем.
Я сейчас же возвратился назад и, запыхавшись, навел бинокль на Дюмбер. Я брал подъем саженными прыжками, руки у меня дрожали, а сердце стучало в самых висках. Но их уже нигде не было. Может быть, я ошибся?
Я опустил руки и сделал три глубоких выдоха, как Йожо после тренировки. Потом снова навел бинокль, и вдруг в стеклах расплылось белое пятно, окруженное радужной рамкой. «Вот балда!» – обругал я сам себя и стал медленно крутить шершавое колесико. Радуга стала исчезать, пятно становилось все отчетливее, и вдруг я увидал белую рубаху: она была напялена на каком-то парне. Он постепенно удалялся, и когда от него остался один лишь черный чемодан, в круге наконец появилась Лива.
Она шла опустив голову. Но я сразу узнал ее по светлым волосам. Солнце ярко освещало их, и у Ливы на голове словно сверкала корона из тех самых бриллиантов. Лива взбиралась на гору медленно и беззвучно. Она уже начала исчезать из моего круга, но я не выпустил ее. Я вел бинокль за светлыми волосами и очень хотел увидеть ее лицо! Я хотел посмотреть в ее лицо и чтоб она тоже на меня посмотрела. Но Лива все шла и шла. И тогда я тихо сказал:
– Лива!
Она подняла голову и оглянулась.
– Ливочка! – сказал я еще раз, и тогда она посмотрела прямо на меня.
Я замер и опустил бинокль. Все фигуры сразу исчезли. А невооруженным глазом я их найти не мог. Я засмеялся: как мне могла прийти в голову мысль, что она меня слышит? Но ведь она действительно оглянулась, как будто ее окликнули…
Я снова нашел Смржовых. Третьей шла Ливина мама, а четвертой – Эста. На нее я посмотрел повнимательней, но ничего интересного не увидел. И никакой Ондрей ее не провожает. Я поглядел на трубу Партизанской хаты. Может, Ондрей там стоит и машет ей на прощание. Очень жаль, но никто не махал. Я снова отыскал парня в белой рубашке с чемоданом на спине. Это был не Ондрей.
Лива шагала легко и ритмично, будто и не тащила вовсе на спине большой рюкзак. Я долго не мог разглядеть, что привязано к рюкзаку. Но когда ее мама что-то поправила у нее на спине и Лива повернулась ко мне боком, я увидал, что под рюкзаком свободно болтается темно-синяя юбка в складку, а выше, на плечиках, висит белая блузка. Наверное, чтобы не измялись в рюкзаке. На Ливе были надеты длинные черные брюки и красная тенниска.
Тогда я придумал такую игру: навел бинокль на Ливу и стал с ней разговаривать (все равно она меня не услышит).
– Привет, Лива, как поживаешь?
Мне показалось, что она дернула плечом. Как может поживать человек, если он идет в школу?
– Представь себе, я тебя здесь с утра поджидаю.
Нет-нет, не так, я поправился. Лучше вот как:
– Представь себе, я тебя вижу!
Лива продолжала молча шагать в кругу окуляра. Ее совсем не интересовало, что я смотрю на нее. Она шла, чуть согнувшись, поддерживая руками рюкзак.
– Тяжело, Ливочка? И как они могут заставлять тебя тащить такую тяжесть?!
Я подумал: может, мне пойти и помочь ей? Но как? Я не уверен, что она согласится. Насколько я ее знаю – едва ли.
– А гармоника у тебя с собой, Лива?
Она мотнула головой. Я так и не понял, да или нет. А почему бы нет? Ведь не обязательно играть во время уроков.
Она вдруг остановилась, повернула голову против солнца и подняла нос, словно любопытная серна, почуявшая опасность.
– Лива, Лива, серна пугливая…
Ее уже все обогнали, а она все стояла, словно изваяние. Потом достала что-то из кармана и высоко подняла руку. Что-то сверкнуло, заискрилось, как огромный бриллиант.
– Чем ты светишь, Ливочка?
Зеркальцем! Она поймала солнышко и бросила его в долину! Я поскорей посмотрел Ливе в глаза, чтоб понять, куда она глядит.
На нас! На наш дом. Это мне она посылает солнышко, пойманное зеркалом. Может быть, прямо в окно нашей пятнадцатой.
Я кинулся к дому.
«Постой там еще минутку, Лива! Я поймаю твое солнце, вот увидишь. И пошлю обратно большим Юлиным зеркалом! Постой там еще!»
Я вбежал в дом, но меня задержал отец, и мне пришлось тащить с ним в машину ящик с бутылками малинового сока и вареньем. Я очень спешил и небрежно поставил ящик на дно машины. Бутылки зазвенели. Этого отец не выносит. Еще по дороге он злился, что я так ужасно спешу. А я еще, как назло, раза два толкнул его ящиком.
– Куда смотришь! – сказал он строго. – Гляди сюда, это тебя кормит!
Когда отец так говорит, значит, придется все начинать заново. Отец любит, когда дело делают не спеша и основательно. Потому что, дескать, человек, который не умеет работать с душой, ничего не стоит. Мы подняли ящик снова, и я уже думал, что надо будет тащить его обратно в погреб. Я мгновенно продемонстрировал сосредоточенность и чертовски медленно поставил ящик в машину.
– Вот видишь, – успокоился отец.
А я прирос к земле, потому что знал, что, пока отец взглядом мастера не проверит работу, удирать бесполезно. Не успел бы я добежать до дому, как раздалась бы команда «кругом!». И потому я держал марку.
– Принеси одно одеяло, Дюро, – отец встряхнул ящик, – нужно переложить бутылки.
Я понял, что могу бежать. Бежать по приказу – это ценится высоко.
Ливиного зайчика в нашей комнате не было. Они уже, наверное, спустились в долину и начали первый подъем. Ну ладно, не беда. Через часок будут здесь.
Я взял одеяло. По дороге вынул бинокль из резинового сапога и, прикрыв одеялом, пронес его в отцовскую комнату.
Когда я шел через кухню, Юля лукаво пнула меня локтем. Мама уже выдавала обеды. Йожо, еще не одетый, сидел у Марманца, а Габка примостилась у него на коленях. Пальцы у Йожо печально торчали из тапочек, но сам он казался веселым. Йожо редко бывает веселым, и то, что он веселится в тот день, когда уезжает от нас, мне совсем не понравилось. Я знаю, что он ждет не дождется, когда наконец увидит свою Яну в Штявнице, но это еще не значит, что надо хохотать во всю глотку.
Мы с отцом пристроили ящик и пошли обедать. Есть совсем не хотелось; я наскоро покончил с едой и собирался умчаться к ручью. Ненавижу эти торжественные обеды! Отец важно разговаривает с Йожо, Габа к нему липнет, мама подсаживается к Йоженьке с другой стороны, а Юля вдобавок ко всему подает им черный кофе. Мне, конечно, кукиш с маслом. Мне этот кофе не больно нужен! Даже псы и те с двух сторон жмутся к Йожке. И получается дурацкая картина, как те пирамиды, которыми нас в прошлом году целых два месяца мучил Фукач. Мы должны были ехать в Брезно выступать, но поехали, как говорится, с печки на лавку, потому что на последней репетиции на нас напал смех и мы рассыпались во все стороны. Получилась куча мала, а не живая картина. Я был в самом низу, и на меня свалился Дэжо Врбик и еще трое, к счастью тоже не тяжелые. Сейчас нашему Йоженьке на колени должна была б вскочить Жофия, на плечи – курочки, а на голову – Крампуля с цыплятами. Я бы продавал билеты, а Лива с мамой и Эстой были бы зрителями.