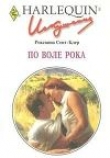Текст книги "Роковое наследство (Опасные связи)"
Автор книги: Кейси Майклз
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц)
Из чубука трубки поднялся густой дым, и парень поднес ей ее так, словно это был величайший дар на земле – да так оно и было, если не считать Мойниного зелья и вожделенного тела Люсьена. И она глубоко вдохнула дым и мускусный запах своего партнера.
У этого малого было красивое, правильно сложенное тело и к тому же приятное, не совсем тупое лицо. Нет. Лицо тут ни при чем. Ей надо сосредоточиться на его красивом теле.
Она почувствовала, как приятное знакомое волнение поднимается у нее между ног, и опустила лиф платья, так что обнажились груди. Соски напряглись, как бы призывая прикоснуться к ним. Она наклонилась и провела самым кончиком сосков по грубой ткани его домотканой белой рубахи. Это было приятно. Это было очень приятно. Однако что-то все же было неправильно. Она чувствовала странное стеснение. Да. Теперь она вспомнила. Кое-что было ужасно неправильно. Она оттолкнула протянутую ей трубку, а вместо этого отступила на шаг и, надув губки, спросила:
– Мальчик, Меллины духи нравятся тебе?
– Ваши духи, мэм? – хрипло спросил он, с усилием сглотнув, так что кадык судорожно дернулся у него на горле, а она захихикала.
Он воспользовался моментом и потянулся к ее груди, но получил по рукам: она была не какой-то там грязной девкой, которую он мог завалить у себя на конюшне. Она была леди, хозяйкой Тремэйн-Корта и самой прекрасной, самой желанной из всех женщин, ступавших по земле. Он должен был пасть на колени, рыдая от счастья, что ему довелось созерцать ее совершенство.
– Да от ваших духов запах прямо небесный, мэм, правду говорю!
– Идиот!!! – Она наградила его пощечиной. Она готова была убить его, разъяренная его дурацкой улыбкой. В ушах у нее зазвенело, из глаз брызнули слезы. – Это ужасный запах! Мелли пахнет стойлом, навозом и сточной канавой – как ты!
Она вырвала у него из рук трубку и несколько раз набрала полные легкие дыма. Вот. Теперь лучше. Опиум снял напряжение.
– Никогда не ври Мелли, ничтожная тварь. Когда ты врешь, Мелли очень, очень грустно. – Она легонько шлепнула его по щеке, придержав за подбородок. – Но не хнычь. Я позволю тебе сделать ее снова счастливой.
Она вспомнила про трубку, припала к ней губами, и ей стало так легко, словно само ее тело было теперь невесомым и плыло в воздухе, как дымок от трубки.
Она вернула ему трубку, вскочила на край кровати и, покачивая бедрами, дюйм за дюймом медленно стала поднимать подол платья, пока его взору не открылось, что под платьем у нее ничего нет. Она не сводила с него глаз, в то время как левая рука скользнула между ее бедер, и пальцы умело стали ласкать шелковистую кожу. Она улыбнулась, когда он поперхнулся: глаза у него горели.
Подняв руку, она лизнула кончиком языка блестевший от влаги пальчик, а потом повторила все сначала, глядя, как под бриджами шевелится его вставший член.
– Покажи мне рот, – приказала она, когда юноша не утерпел и подошел, протянув руки к ее талии. – Помнишь? Я велела тебе вычистить его, чтобы ни одной крошки пищи не осталось между зубов.
Ее челюсти свело, и сердце готово было лопнуть. Она говорила торопливо, неразборчиво, словно спеша сказать то, что хотела, прежде чем потеряет рассудок от похоти.
– Ах, твои зубы, дорогой… Помнишь? Слегка, чуть-чуть покусывать, нежно теребить самые укромные Меллины местечки. Твой язык лижет, ласкает, не останавливается, описывает маленькие чудесные круги… а твои губы сосут, чтобы медок лился к тебе в рот. Помнишь все, чему я тебя научила? – Ее глаза расширились, зрачки стали огромными. – Открой рот!
Он повиновался, но тут же он посмел потянуться к застежке на бриджах.
– Нет! Еще рано! – Она бешено затрясла головой, едва не свалившись, – так она рассердилась. Она хотела почувствовать себя на седьмом небе, счастливой и очень, очень сильной. Такой сильной, чтобы распоряжаться всем – своей жизнью и его жизнью, будущим. Но тут ее веки отяжелели, и она прикрыла глаза.
Как посмел этот мальчишка так нагло поторопиться? Он совсем как Люсьен! Берет, берет и никогда не дает. Как он смеет дразнить ее, играть с ней, мучить ее то своей податливостью, то неуступчивостью? Люсьен… Люсьен… Его образ стоял перед ее закрытыми глазами, и она улыбнулась сну, ставшему ее единственной реальностью. Дорогой, неблагодарный Люсьен! Она слишком долго играла по его правилам. Больше года она играла по его правилам – скорее даже по правилам Мойны. Теперь пришло время ей задавать тон – и пусть все они попляшут под ее дудку!
– На колени, ублюдок! – крикнула она, оттолкнув юношу, который превратился в Люсьена, который всегда превращался в Люсьена, после чего сама рухнула на край кровати.
Поудрбнее устроившись на тюфяке, повыше задрав юбки над белым, гладким животом, она как можно шире развела бедра, а ее пальцы погрузились в золотистые завитки на лобке и открыли ее перед его взором.
– Ну, дорогой! Настало время потешить Мелли!
ГЛАВА 10
…Человеку мудрено
Поведать о начале бытия Людского…
Джон Мильтон, «Потерянный Рай»
Первое, что бросилось в глаза Люсьену, когда он вошел в детскую, были его игрушечные солдатики – большая коллекция, которую он забросил уже давным-давно, но на самом деле никогда не забывал. Против воли улыбка раздвинула его губы. Все же какие-то приятные воспоминания у него остались. Не все оказалось разрушенным.
Он подошел поближе, чтобы лучше рассмотреть храбрых вояк войска короля Генриха Пятого, выстроившихся в линию на мягком пушистом ковре напротив французской армии. Картина боя была не столь сложной, как в битве при Азенкуре, но это можно было исправить.
Он поднял одного из солдатиков и вспомнил, как поцарапал краску на его мундире в тот день, когда доблестный воин упал на пол в разгар лихой, кавалерийской атаки. В те времена, когда детские болезни приковывали его к постели, Люсьен разыгрывал целые баталии на своем толстом одеяле, и, насколько он помнил многие из них получались очень жестокими.
То были беззаботные дни, протекшие задолго до того, как он познал настоящую войну и настоящую жизнь.
Люсьен поставил солдатика на место, внезапно обратив внимание на то, что войска не просто выстроены в шеренгу: их расположение было продуманным, каждый полк был готов вступить в бой, артиллеристы стояли возле пушек, тогда как старшие офицеры расположились за линией огня.
Однако позиция английской кавалерии показалась ему чересчур уязвимой. Люсьен счел стратегию неправильной: из-за этого оставался неприкрытым правый фланг. Он опустился на колени, не думая ни о своем костюме, ни о том, что уже давно стал взрослым, и принялся расставлять солдатиков по-своему.
Четверть часа спустя весь ковер был уже усеян войсками и пушками, а небольшие кучки кубиков, которые Люсьен добывал из ближайших коробок, должны были означать холмы и высоты, с которых артиллеристы должны были вести обстрел вражеских позиций.
Люсьен самозабвенно ползал на четвереньках – так ему гораздо удобнее было, не отвлекаясь от игры, доставать нужные вещи. В бою наступило затишье, и настало время очистить поле битвы от раненых и убитых. Французы оказались сильными противниками, но все же не настолько, чтоб устоять перед пламенной отвагой ветеранов-стаффордширцев, которые сами разили без пощады и не просили пощады себе.
Мастера-убийцы.
Точно так же, как двумя часами ранее в мавзолее Эдмунда Люсьен понимал, что поступает неверно, что занимается глупостями – Кэт назвала это собачьей чушью – в отчаянных попытках оставаться безжалостным, не обращать внимания на полные слез, умоляющие глаза старика, на его душераздирающие стоны.
Люсьен собрал солдатиков в пригоршню и медленно, почти автоматически, ссыпал их в кожаную сумку, сшитую специально для них: перед его мысленным взором неотступно маячило лицо Эдмунда, некогда красивое, правильное, а теперь обезображенное болезнью.
Но что он должен был сделать? Признать жалкое состояние Эдмунда означало признать то, что не только он, Люсьен, прожил этот год в адских муках. А он не был готов признавать чужую боль помимо своей.
Да и с какой стати, спрашивается, он должен был бы это делать? Неужели мир вокруг него извращен настолько, что предлагает ему, жертве, проникнуться сочувствием к человеку, жертвой которого он стал? Эдмунд, жаждущий его прощения? Эдмунд, обложившийся напоминаниями о Памеле – как будто это может уменьшить его вину, как будто не он свел эту женщину в могилу? Нет, это уж слишком.
И потом, ведь еще есть Мелани. Милая, прилипчивая, чувственная Мелани, с личиком ангела, телом законченной грешницы и очарованием сирены и – тут его челюсти сжались, а губы побелели – понятием о морали не большим, чем у пушечного ядра. Если в самом начале его пребывания в Тремэйн-Корте Люсьен еще мог сохранять остатки надежды на то, что Мелани вышла замуж за Эдмунда, покоряясь обстоятельствам, то стоило ей открыть рот – и последняя надежда испарилась.
По-прежнему прекрасная, самая совершенная из всех женщин, которых ему довелось видеть, еще более соблазнительная, возбуждающая… Но только ценой огромных усилий своей стальной воли он сдержался и не отшвырнул ее, брезгуя прикасаться к ней. Мелани – это словно болезнь.
И зеленый, глупый Люсьен Тремэйн три года назад был ослеплен очарованием этой невинности и беззащитности, околдован ее красотой, ее божественным податливым телом. Но два месяца его ухаживаний и юношеских восторгов канули в прошлое без следа, как и два года постоянных воспоминаний об этих восторгах на Полуострове, – они не выстояли перед воспоминаниями о той последней ночи в Тремэйн-Корте.
Однако, судя по всему, Мелани уверена, что он явился в Тремэйн-Корт, чтобы взять ее себе, чтобы вернуть себе все то, что у него отняли. Ее извращенный ум и ненасытная чувственность гипнотизировали его.
– Вот вы где, мистер Люсьен. Устроили, как всегда, беспорядок, – произнесла Мойна, неслышно войдя в комнату. Похоже, ее походка стала еще тише с того дня, когда она напугала его, застав в этой комнате пса Хироу, которому не разрешалось заходить в дом.
Усвоенные в детстве привычки забываются нелегко, и Люсьен вскочил на ноги и уже хотел было извиниться, прежде чем вспомнил, что давно перерос того мальчика, который учил в этой комнате уроки. И даже несмотря на то, что он давно был взрослый, Люсьен постарался не выказать ей свое раздражение. Она была слишком проста, чтобы намеренно пытаться разозлить его.
– Ты разыскала меня, Мойна, – неохотно произнес он, пересек комнату, склонился и поцеловал старуху в пергаментную щеку – дань вежливости, не более. А ведь именно он когда-то буквально в шею выталкивал Мойну из этой самой классной за то, что она унесла куда-то всех его игрушечных солдатиков. Мойна всегда была невысокой, а теперь, казалось, совсем усохла. – Значит, сегодня вечером меня лишат сладкого?
Он следил, как старуха проковыляла к креслу и уселась, не обращая внимания на его попытку пошутить.
– А что ж мне оставалось делать, мастер Люсьен? – заговорила она, пристально глядя на него. Когда-то эти ее взгляды пугали его до дрожи в коленях. – Поначалу-то думала, что раз вы наконец-то вернулись, то прибежите повидать меня, но вы не пришли. И я решила, что вы дуетесь, оттого что это я отправила пакет в «Лису и Корону», оттого что это я знала все-все и ни словечком не обмолвилась вам. Но еще я думала, что паренек вы что надо и со временем переживете все это.
Она снова пристально взглянула на него, а он вдруг впервые осознал, до чего же она дряхла.
– Ведь вы явились из-за последнего письма от девчонки, мастер Люсьен, верно? Как вы сбежали, так она и явилась ко мне, умоляла дать ваш лондонский адрес. Вот я и знаю про ее письма. И даже про то, которое она настрочила после того удара, что приключился на прошлой неделе и уложил Эдмунда наповал. Стыдно вам, мастер Люсьен. Это из-за Эдмунда вы сюда вернулись, а не из-за Мойны – одной-единственной души в этом доме, что вас любит.
– Любит, вот как? Так, значит, это твоя великая любовь заставила тебя молчать, когда я так нуждался в ответах? Это любовь заставила отправить тебя в «Лису и Корону» Кэт Харвей, чужого человека, просветить меня насчет моего происхождения? Вероятно, я просто непроходимо глуп, если не заметил во всем этом ни капли любви. Но, конечно, именно любовь руководила тобою. И как это я сам не догадался!
Она ткнула в его сторону пальцем, ее рука дрожала, а из и без того слезившихся глаз потекли потоки слез.
– Не смей! Не смей так говорить со мной, мой мальчик! Ты сам не знаешь, о чем говоришь! Ты был болен, ты был при смерти. И я должна была заставить тебя уйти, уйти подальше от этого ужасного места, чтобы ты смог набраться сил, вернуться и навести здесь порядок. Я чуть сердце себе не разбила. Но я не могла позволить тебе умереть, как умерла твоя мать. Ты… ты был единственным, что у меня после нее осталось. – Она уткнулась лицом в ладони, не в силах удержать рыданий. – Все, что у меня осталось от моей милой деточки.
Мойна его детства никогда не плакала, она вообще не проявляла никаких эмоций, хотя в глубине души Люсьен знал, что она его горячо любит. Он встал возле нее на колени, уязвленный стыдом. В своем гневе он забыл, как беззаветно Мойна была предана Памеле. И он ни разу не дал себе труда взглянуть на прошлое глазами Мойны. Он оказался слишком себялюбив, слишком прямолинеен.
– Мойна, я виноват. Конечно, ты права. Я просто никогда об этом не думал. Когда Кэтрин принесла тот пакет в «Лису и Корону», я просто возненавидел тебя заодно со всеми остальными. Ведь ты одна знала все, и о моем настоящем отце тоже. И ничего не сказала мне, когда я лежал в той каморке в северном крыле. Я должен был понять, что ты делаешь так, как считаешь лучше. Но мне было не очень-то приятно жить весь последний год, приучая себя к мысли, что я – незаконнорожденный Тремэйн. Да… похоже, я стал вдвойне ублюдком, если решил заодно вычеркнуть из своей жизни и тебя.
Он положил одну руку ей на колени, а другой сжал ее сухие пальцы.
– Боже, в какую кашу превратилась моя жизнь.
Мойна глубоко вздохнула, и он удивился, поняв, как она умеет владеть собой. Она уверенно сказала:
– Я все устрою по справедливости, мастер Люсьен. Смотри-ка, вы носите кольцо Кристофа Севилла?
Ее решительный тон дал Люсьену понять, что со слезами покончено и что Мойна опять та властная старуха, которая позволяла себе откровенно и прямо говорить с хозяевами. В глазах у него невольно защипало.
– Я ношу кольцо моего отца. Оно служит мне напоминанием и не дает расслабиться. Ты ведь знала его, верно? Мне кажется, что он должен был жить где-нибудь неподалеку от Парижа. Каким он был?
– Каким был этот человек? Ну, он носил бриджи, слишком громко и много болтал и чересчур много пил. Мужик есть мужик, все они из одного теста. – Мойна пожала плечами, не желая больше говорить, и Люсьен понял, что больше он ничего не услышит – по крайней мере сейчас. Когда на Мойну находил стих, она могла быть молчаливее могильной плиты. Никто не знал этого лучше Люсьена. Однако он хотел пенять, ему надо было понять все. Кем был Кристоф Севилл? Любил ли он его мать или просто попользовался ею? Как удалось убедить Эдмунда, что Люсьен его ребенок? Как все произошло?
– Расскажи, как умерла моя мама, Мойна, – наконец попросил Люсьен. – Ты рассудила правильно. До сих пор я не смог бы все это выслушать. Но теперь я готов. Я уже знаю, что она заблудилась в бурю, простудилась и умерла через несколько дней. Хозяин «Лисы и Короны» сказал мне, что он самолично возглавлял одну из поисковых партий, не подозревая о том, что я не имею ни малейшего представления о последних днях моей матери.
Глаза Мойны вновь наполнились слезами.
– Это были страшные дни. Во всем виновата я одна, и я никогда себе не прощу. Все эти три года я казню себя, казню так, как вы и представить себе не можете. За это я прямиком отправлюсь мучиться в ад, про который мне всегда напоминала ваша мама. Я испробовала все, но не спасла ее. Она больше не захотела жить, мистер Люсьен, вот и все. Он разбил напрочь ее сердечко. – И она уставилась на Люсьена горящими сухими глазами, в которых была боль: – Они оба разбили ее сердечко.
Люсьен нахмурился:
– Я знаю, Мойна, оба, Эдмунд и Кристоф. Но это все, что я знаю. Даже Хоукинс не мог ничего добавить, хотя и признался, что это ты отправила его в особняк на Портмэн-сквер, дожидаться моего приезда. Пусть Кристоф Севилл и бросил мою мать, но ведь он оставил своему назаконнорожденному отпрыску особняк в Лондоне и немалый куш денег. Наверное, на моем месте другой и не подумал прикоснуться к этим деньгам, но у нас, бастардов, обычно не бывает большого выбора, Мойна, и приходится довольствоваться тем, что есть.
Люсьен сам удивился своей страстности. Как же долго он жил, будучи отвратителен сам себе, презирая себя за свои же собственные поступки?
– Ну пожалуйста, Мойна. Мне так много нужно понять, чтобы обрести хотя бы некое подобие душевного мира.
Мойна поднялась с кресла и подошла к окну, выходившему в сад. Люсьен последовал за ней. Они стояли рядом, бездумно глядя на террасу внизу. Люсьен сгорал от нетерпения.
В это время открылась дверь мансарды в северном крыле, и из нее вышел высокий молодой крестьянин. Он осторожно оглянулся, прежде чем запереть дверь собственным ключом, подхватил прислоненную к стене лопату и поспешно скрылся. Люсьен счел, что молодой человек выглядит и действует несколько странно, но тут же выбросил его из головы. Да и какое значение мог иметь этот малый, которому посчастливилось, наверное, потискать одну из кухонных потаскушек в северной мансарде у Эдмунда?
– А, Мойна, ты тоже заметила? Весна, любовь. Даже здесь, в Тремэйн-Корте, жизнь продолжается.
Мойна лишь фыркнула, отошла от окна и снова погрузилась в кресло. Она достала вязанье и принялась за работу с невероятным для ее скрюченных пальцев проворством. Когда она заговорила вновь, то только благодаря простоте и безыскусности ее рассказа Люсьен поверил, что все это правда.
Для Памелы жизнь кончилась через шесть недель после отъезда Люсьена на Полуостров, хотя началось все еще двадцать три года назад.
Люсьен услышал, что Эдмунд каким-то образом сумел обнаружить письма Кристофа Севилла Памеле Тремэйн. И в некоторых ясно говорилось и о горячей любви, которой они воспылали друг к другу в одно давно минувшее лето, и о планах Кристофа, связанных с будущим его сына.
– Она хранила их только ради вас, мастер Люсьен, а вовсе не из любви к тому смазливому болтливому французишке. И она пыталась втолковать это Эдмунду, да он и слушать не стал. Вы ж знаете Эдмунда. Надутый. Упрямый. Все, что до него дошло, – это что она ему изменила, оскорбила его любовь и доверие, вот как он сказал. Я слышала его. Все слуги слышали. Его, поди-ка, и на луне было слышно!
– Но это совершенно не похоже на Эдмунда, Мойна. По-моему, не было ни одного случая, чтобы он повысил голос – ни на меня, ни на маму. – Люсьен вдруг вспомнил, как Эдмунд всегда стыдил его за то, что он дает волю своим чувствам. По-видимому, Эдмунд совсем потерял рассудок, если настолько вышел из себя. Бедная мама, думал Люсьен, ведь она ни разу не видела его таким, как же она, должно быть, растерялась.
Спицы в руках Мойны все так же сверкали, сматывая пряжу с клубка, лежавшего в корзинке для рукоделия.
– Моя деточка была такая молоденькая, когда ее сосватали за Эдмунда Тремэйна, ну совсем молоденькая. Ейный папаша подумал, что только так можно вернуть Кингсли в их собственный дом, а потом помер и оставил твою маму без гроша за душой. Он, конечно, хотел как лучше, да только вот твоя мама ни на столечко не знала Эдмунда Тремэйна и боялась его. Хотела даже в монастырь сбежать. Но не смогла. Не смогла ослушаться отца. И когда вдруг откуда ни возьмись явился этот французик, к моей деточке будто жизнь вернулась. Уж такая она была счастливая – и все-то они смеялись да пели, милые мои детки, ну чисто две горошинки в стручке. Ох, конечно, должна была я их остановить, мистер Люсьен, да только уж слишком счастливой была моя малышка. Ну разве смогла бы я разбить ей сердечко? Ну а потом он отправился домой, сказать отцу, что, мол, он хочет жениться. А в Проливе случись шторм, и корабль перевернуло и утопило всех. Моя деточка чуть не заболела – так убивалась, когда прознала. И не потому только, что французик ейный пошел на корм рыбам, а потому, что некому больше было увезти ее от Эдмунда.
Мойна отложила пряжу и невидящим взором посмотрела вдаль, словно воскрешая там картины прошлого.
– Бедная моя деточка выплакала все глазки в ту первую ночь, мистер Люсьен, в первую ночь с Эдмундом, – все-то никак французика своего не могла забыть, – продолжала Мойна, и от ее монотонного голоса по телу Люсьена побежали мурашки. – Эдмунд-то поверил тогда, будто она невинность свою оплакивает. Да только как пришло время ей родить, мастер Люсьен, и увидали мы ваше милое личико, так и поняли, что француз-то оставил по себе память побольше, чем то колечко, что у вас на пальце. А ваша мама не смогла об этом сказать, полюбила она Эдмунда за то, что был к ней такой добрый. Даже заплакал тогда от счастья, что у него сын родился.
Так и вышло, сказала Мойна, что с ее согласия Памела решила продолжать жить со своей ложью.
По словам служанки выходило, что потом единственной проблемой явилось чудесное возвращение Кристофа в Суссекс – примерно через шесть месяцев после того, как Памела родила. Кажется, его подобрала шлюпка, что шла через Пролив в Кале. И у него ушло немало времени на то, чтобы оправиться после болезни и, получив благословение отца, вернуться в Англию. Обретенный Памелою мир едва не рухнул, когда он обнаружил, что Памела вышла замуж за другого и, больше того, не желает бросить Эдмунда и не желает бежать с ним и с его сыном во Францию.
Все его мольбы и угрозы были напрасны. Памела уже крепко полюбила Эдмунда, а в Люсьене для ее мужа сосредоточился весь мир. Наконец Кристоф вернулся на континент, поклявшись когда-нибудь явиться, чтобы потребовать вернуть ему его сына. А был это 1788 год, и Францию уже била революционная лихорадка.
Кристоф Севилл так и не появился больше в Суссексе, и с тех пор, как пришли бумаги, касавшиеся наследства Люсьена, от него не было ни одного известия.
– Я уж говорила ей, что скорее всего сложил он свою голову во время этого ихнего Террора. Да она и слушать не желала. Просто французик ее сделал правильный выбор, клялась она мне, и больше он не станет ее беспокоить. – Мойна с улыбкой покачала головой и продолжила: – Вы ведь знаете, она любила помечтать, мама ваша. Не хотела думать, что кто-то может умереть – даже если дело касалось ее драгоценных роз. А уж вы-то были для нее самым распрекрасным цветочком, мастер Люсьен, – самой дорогой ее розой. И когда вы подросли да отправились на войну, она все глаза выплакала, боялась, что вы обязательно станете драться со своим собственным папой.
Люсьен резко отвернулся к окну, делая вид, что внимательно разглядывает сад.
– Надеюсь, что мне хватит сил дождаться окончания этой проклятой войны, чтобы отправиться во Францию и разузнать все о своем отце. Однако боюсь, ты права, Мойна. Я тоже склоняюсь к мысли, что он давно погиб.
– Что бы с ним ни случилось – от этого вашей маме не стало легче. – Мойна нахмурилась, распутывая узелок в своей пряже. – Никакие слова не смогли бы ей помочь, да она и говорила-то совсем мало, только умоляла Эдмунда верить, что она его любит. Понимаете, ей надо было просто скрыться на время куда-нибудь, чтобы дать ему вспомнить, как вы втроем счастливо жили. Да я так понимаю, что уж слишком она напугалась, чтобы что-нибудь сообразить. Она просто дождалась, покуда он выбежит от нее как безумный да запрется с бутылкой у себя в кабинете, а уж потом постаралась и сама убраться подальше из дома – как раз перед тем, как налетел тот ураган с Пролива.
Я почти что простила его в сердце, мастер Люсьен, когда он пришел, едва живой, и принес на руках мою деточку. Он весь слезами обливался и умолял меня ее спасти. Тогда он вовсе не был гордым, мастер Люсьен, ну ни капли. Он просто сидел возле ее постельки три дня да три ночи, держал ее за ручку да просил его не бросать.
Люсьен перебил, резко отвернувшись от окна:
– В это слишком трудно поверить, особенно если вспомнить, что он женился на Мелани всего через несколько недель после смерти моей мамы.
Мойна улыбнулась. Люсьен был уверен, что эта гримаса на ее лице означала улыбку, тем более странную, если учесть ее следующие слова.
– Когда моя деточка отдала Богу душу, как раз перед рассветом, Эдмунд очень быстро перестал над ней плакать. Да, я видела это, мастер Люсьен, видела, как он тряс ее, тряс и тряс, вцепился ей в плечи и проклинал ее за то, что она его оставила. Он проклинал ее как самую распоследнюю дрянь и кричал, что она нарочно бросила его, чтобы он жил один с тем, что она ему понарассказала. Кричал, как ненавидит ее за то, что она с ним сотворила. Он даже хоронить ее не пошел. И в ту же самую ночь затащил к себе в постель эту белобрысую сучку. А ведь на могилке-то и земля просесть не успела. Нет, никогда я этого не прощу, мастер Люсьен. Никогда ничего не прощу, вот и весь сказ.
Люсьен спрятал лицо в ладонях. Ведь он сам добивался правды – ну так вот, пожалуйста, ему правда. Она оказалась намного хуже всего, что он был способен себе вообразить.
– Вы, может, и возразите мне, что он уж сполна расплатился за то, что тогда наговорил да наделал, но для меня это без разницы. Он сказал, а я услышала. Я еще кое-чего могла бы рассказать, да только слишком я стара и устала. А вам надо намотать на ус, что я могу еще кое-чего сказать, мастер Люсьен. Вы вернулись в самое время, как я и ожидала, когда я решу, что пора с ним кончать. Прежде я уж заставила его вдоволь помучиться – так, как я это могу, – и он сполна осознал свою вину. Он намучился так же, как мучилась моя бедная деточка. И теперь пришел ваш черед положить этому конец.
– Положить конец, Мойна? Что же ты предлагаешь мне сделать – вызвать его на дуэль? Да ведь он с кровати встать не может. Мама моя мертва. Эдмунд взял в жены Мелани – что само по себе можно считать искуплением грехов. Чего же еще, ради всего святого, ты хочешь от меня?
– Разве вы не слышали? Еще не все. Вам надлежит навести здесь порядок. Тому самое время, чтоб вы успели развязаться с одной докукой да приготовились к новой напасти, что стоит уже у дверей. Я разгадала ее, и Эдмунд тоже. Ну да я дала ему еще недельку, мне не жалко, уж коли все равно конец ему близок. И не расспрашивайте меня, что да как, все одно я вам не скажу. Вы ведь в долгу перед вашей бедной мамой, из-за вас заварилась эта каша, вот и весь сказ. Эх, во все-то времена у мужиков самым главным было то, что болтается у них между ног.
Люсьен прислонился лбом к оконной раме, с трудом осиливая поток свалившихся на него сведений:
– Из-за меня вся каша, Мойна? Что ты хотела сказать? Ах, конечно. Понимаю. Все началось после моего рождения.
– Да неужто? Может статься. А может статься, это еще не было началом. – Мойна осторожно отложила в сторону пряжу и поднялась с кресла. – Вы нынче вечером будете кушать один, мастер Люсьен, – провозгласила она, и в ее голосе послышалось странное самодовольство. – Миссис Тремэйн не составит вам компании.
– Неужели, Мойна? Но она так хотела пообедать со мной. Может, она заболела?
Люсьен отвечал автоматически, не обращая внимания на собственные слова. Его старая нянька дала слишком мало ответов, поставив гораздо больше вопросов. Ему надо было все обдумать. И то, что сегодня вечером за обедом он не увидит Мелани, следовало воспринимать как удачу, подарок судьбы.
– Нет. Она вовсе не такая уж больная, мастер Люсьен, – язвительно отвечала служанка, хрипло рассмеяшлись. – По крайней мере, не сильнее, чем обычно. Да и к тому же она только вот сию минуту получила порцию отличного лекарства. – Тут ее голова дернулась вправо, к двери в детскую, и палец прижался к губам. – Идет Кэт Харвей, мастер Люсьен, и, ведет малютку от Эдмунда. Уж она так стережет этого малютку, как тигр, так что вы с ней поосторожнее. Всякую ночь запирает свою дверь на замок, а в кармане платья таскает кинжал. А все ж она хорошая девка. И об вас заботилась как надо.
Люсьена мало тронули предостережения Мойны по поводу возможных новых опасностей, но последние слова задели за живое. Стало быть, он все же был тогда в памяти. Кэтрин дежурила в его комнате, когда он вернулся с Полуострова. Беспомощно прижавшееся к нему тело безусловно принадлежало ей, равно как и губы, которые он поцеловал, горячие, сочные, – и полная противоположность ненасытным поцелуям Мелани.
Он улыбнулся от этого открытия. Если тогда он ничего не соображал из-за лихорадки, то теперь-то он был вполне здоров. И понимал, что надо быть или очень отважным мужчиной, или же действительно не соображать, что делает – если ему пришло в голову поцеловать Кэт Харвей против ее воли.
– А загадочная Кэтрин, судя по всему, стала довольно значительной фигурой в Тремэйн-Корте, верно, Мойна? – спросил он. – И конечно, с легкой руки Эдмунда. Как известно, мужчина проявляется в своих женщинах. Да, Мойна, это грустно, но верно. На протяжении последнего года я много думал об этом и пришел к этому выводу независимо от того, что ты сообщила мне сегодня, Мойна. Мужчина – пустышка, если у него рядом нет женщины, пустая ракушка, не более. Ничего удивительного, что он возненавидел маму за то, что она умерла. И ничего удивительного, что он поспешил жениться на Мелани. И ничего удивительного, что сейчас, изможденный и больной, он приблизил к себе Кэт Харвей. Будь у Веллингтона два полка таких, как она, мы давным-давно победили бы французов.
– А мне она очень даже нравится, мастер Люсьен, – перебила Мойна. – Она отлично ухаживает за Эдмундом и не сует свой нос туда, куда не надо. Занята своим делом и не рыдает над собственными болячками.
– Что лишний раз, моя милая Мойна, представляет мисс Харвей либо как чрезвычайно рассудительную особу, либо как особу, которой есть что скрывать. Что касается меня, я бы сказал, что верно и то и другое. – Он направился прочь из детской. – Извини, Мойна. Но теперь мне кажется, что я набрался храбрости и могу встретиться с наследником Эдмунда.
Лучшее время для Кэт было, когда она находилась в обществе Нодди. Детская бескорыстная любовь помогала ей быть прежней Кэтрин, покидать ту бесчувственную скорлупу, в которую она сама себя заключила после ее бегства из Ветел.
Вот и теперь она не в силах была отвести взгляд от его маленькой фигурки в детском стульчике: ангельские голубые глаза еще были полны слез после расставания с Эдмундом. Нодди был очень смел и не испугался сегодня, когда Эдмунд зарыдал, цепляясь за ребенка здоровой рукой и не позволяя Кэт увести его в обычное время.