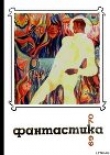Текст книги "Падающая башня"
Автор книги: Кэтрин Портер
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 5 страниц)
– А что, если ей приходит конец, потому что люди у власти ею наскучивают? – Отто подпер голову рукой, вид у него был подавленный. – Что, если они устают вечно угнетать, шпионить, понукать и грабить? Что, если они просто исчерпывают себя?
– А что, если они просто переоценивают себя или к власти приходят новые молодые силы и свергают их, – сказал Тадеуш. – Бывает и такое.
– А что, если им открывается, что они зря старались, – сказал Чарльз.
– Не зря, – сказал Ханс. – И в этом суть. Только ради власти и стоит стараться. Все остальное ерунда по сравнению с властью. Отто, ты меня удивляешь, от кого, от кого, а от тебя я этого никак не ожидал.
Отто, виноватый, расконфуженный, сразу скис.
– Я не солдат, – сказал он. – Мне бы мирно заниматься своей наукой.
Ханс сидел прямой как палка, глаза его враждебно поблескивали. Полуобернувшись к Чарльзу, он сказал:
– Мы, немцы, потерпели поражение в прошлой войне не в последнюю очередь благодаря и вашей великой державе, зато в следующей войне мы победим.
У Чарльза по спине побежали мурашки, он передернул плечами. Они все уже поднабрались, и, если не взять себя в руки, скандал неминуем. Ему не хотелось ни ссориться, ни вновь решать войной исход той давней войны.
– Все мы еще под стол пешком ходили, когда кончилась война, – сказал он.
– Зато когда начнется следующая война – мы все пойдем на фронт, – быстро парировал Ханс.
– Ханс, милый, да будет вам. Я отнюдь не жажду крови, и сейчас меньше, чем когда-либо. Я хочу лишь одного – быть пианистом.
– А я художником, – сказал Чарльз.
– А я преподавателем математики, – сказал Отто.
– Да и я не жажду крови, – сказал Ханс, – но я знаю, что нас ждет. – Его щека, стянутая лентой лейкопластыря, за вечер вздулась еще сильнее. Левая рука бережно ощупывала воспаленные, посиневшие края раны. – Послушайте, – оживленно, без вызова начал он, – я хочу напомнить вам одну небезынтересную подробность. Мы должны были выиграть эту войну, а мы проиграли ее в первые же три дня, хотя и не осознавали этого – во всяком случае, не могли этому поверить – года четыре. В чем причина? Один только раз вышла задержка с выполнением приказа, всего лишь раз: когда войска впервые перебрасывали через Бельгию, они не выступили вовремя. И из-за этой задержки на три дня мы и проиграли войну. Что ж, в следующий раз мы такой ошибки не совершим.
– Нет, – сказал Тадеуш кротко, – в следующий раз вы совершите какую-нибудь другую ошибку, допустите другую оплошность, а какую и почему, кто знает? Иначе не бывает. Победу в войне одерживают не умом, Ханс. Неужели вы этого не понимаете? В каждой армии найдется тип, который в решающий момент если не допустит задержки, так отдаст не тот приказ, а нет, так прибудет не туда. О чем говорить, ваши противники совершали промах за промахом, и все равно в тот раз они выиграли войну.
– Морские державы. Власть испокон века за морскими державами, – сказал Чарльз, – ей-ей. В конце концов, морские державы всегда одерживали победу.
– Карфаген был морской державой, но Рима не одолел, – сказал Отто.
– В следующий раз, – невозмутимо гнул свое Ханс, – им не победить. Дайте только срок. В следующий раз мы больше не совершим ошибок.
– Я могу и подождать, – сказал Тадеуш, – я не тороплюсь.
– И я могу подождать, отчего бы не подождать? – сказал Чарльз.
– А тем временем давайте-ка я схожу за пивом.
Оркестр, которому помогали гости, наяривавшие на своих скрипках, флейтах и виолончели, гремел что есть силы, и четверке приходилось говорить все громче.
– Оставим на время наш спор, – сказал Тадеуш, – за один вечер его не решить.
Актер с любовницей ушли, и теперь красавица Лютте безраздельно царила в зале. Она сидела за соседним столиком в компании юнцов, кроме нее в компании была всего одна девица, они кружка за кружкой пили пиво, без удержу смеялись, то и дело обнимались, чмокали друг друга в щеку, парни с равным пылом целовали и парней, и девушек. Лютте перехватила взгляд Чарльза и помахала ему пивной кружкой. Он помахал ей в ответ и возбужденно улыбнулся. Сногсшибательно хороша – он просто умирал от желания познакомиться с ней поближе. Но даже тут, как первые признаки смертельного недуга, его посетило страшное предчувствие грядущих бедствий, и его мысли, путавшиеся от выпитого, незнакомой обстановки, понимаемого с пятого на десятое чужого языка и атмосферы застарелых обид и злопамятства, вращались вокруг почти стершихся из его памяти историй Наполеона, Чингисхана, царя гуннов Аттилы, всех цезарей, Александра Великого, Дария, перепутавшихся в его голове фараонов и сгинувшего Вавилона. Он почувствовал себя бесконечно беспомощным, беззащитным, посмотрел на трех чужаков рядом и решил больше не пить: не след быть пьянее – он не доверял никому из них.
Отто отставил кружку, побрел по залу, один из близнецов, проходя мимо, передал ему белый аккордеон. Отто переменился на глазах. Куда подевалась тупая безысходность – его лицо засияло простодушной радостью, он подхватил мелодию, которую наигрывал оркестр, и пошел между столиками, растягивая мехи аккордеона, его коротенькие пальцы летали по клавишам. Красивым рокочущим басом он завел:
– Marschieren! – радостно подхватил зал, все как один. – Ich kann nicht mehr marschier'n [11]11
Поклажу… Едва тащу поклажу.
[Закрыть].
A Отто пел:
– Sack! – гремел хор. – Aus meinen Mantelsack [13]13
Была… дыра была.
[Закрыть].
Ханс вскочил, высоким, звонким тенорком подтянул:
– Ich hab', ich hab' defunden, was du verloren hast! [14]14
А я твою пропажу нашел – и все дела (нем.).
[Закрыть]
– Hast, – рявкнул хор, теперь уже все посетители поднялись, их смеющиеся лица были простодушными, наивными – резвящимся барашкам впору. – Was du verloren hast.
Песня завершилась взрывом хохота, и оркестр неожиданно переключился на «Продавца орехов». Лютте, враз посуровев, словно ей предстояло выполнить свой долг, вышла из-за стола и в одиночку пустилась отплясывать нечто, имеющее отдаленное сходство с румбой, но Чарльзу ее танец показался помесью блекботтома [15]15
Американский танец конца двадцатых годов.
[Закрыть] и хучи-кучи [16]16
Танец в псевдовосточном духе, исполнявшийся преимущественно ярмарочными танцовщицами.
[Закрыть] – он их навидался в ярмарочных балаганах, куда просачивался с компанией мальчишек в пору своего невинного техасского детства. Он отплясывал румбу под звуки «Продавца орехов» от самого своего родного городишки и через весь Атлантический океан вплоть до Бремена, и тут его осенило: вот где я сумею показать класс! Он забрал маракасы у снулого оркестранта, довольно вяло ими постукивавшего, и стал отплясывать румбу на свой манер, энергично потряхивая и пощелкивая маракасами.
В зале захлопали в такт, и Лютте, оборвав свой сольный номер, присоединилась к нему. Он тут же вернул маракасы оркестранту и крепко взял Лютте за талию, теплую, волнующуюся под тонким шелком. Она держалась деревянно, отворачивала от него лицо, улыбалась, старательно подражая киношным femmes fatales [17]17
Здесь: роковым женщинам, вамп (франц.).
[Закрыть], и довольно неуклюже, но весьма зазывно била его бедром. Он покрепче обхватил ее, притиснул поближе, но она словно одеревенела, двинула его бедром и на этот раз угодила ему в живот.
– Побоку технику, положись на мать-природу, – сказал Чарльз без тени улыбки.
– Что вы сказали? – спросила она по-английски, чего он никак не ожидал. – Не поняла.
– Ну что ж, – сказал Чарльз и чмокнул ее в щеку, – я тебе отвечу тоже по-английски.
Она не поцеловала его в ответ, но обмякла и перестала выпендриваться.
– Я такая же красивая, как та актриса, которая была здесь сегодня? – задумчиво спросила Лютте.
– По меньшей мере, – сказал Чарльз.
– Я пройду в Америке? – спросила она, повисая на нем.
– Кончай бить бедром, – сказал Чарльз. – Да, ты пройдешь на ура!
– Ну а как я танцую – на уровне? – спросила Лютте.
– Да, детка, на уровне. Ты там задашь шороху!
– Что это значит?
– Все хорошее, – сказал Чарльз. – Иди ко мне, ангел мой.
– У тебя есть знакомые в Голливуде? – спросила Лютте; ее ничто не могло отвлечь от цели.
– У меня нет, но у тебя могут быть, – сказал Чарльз. – Туда сейчас понаехала чуть не вся Германия и Европа, ты обязательно встретишь там друзей. Во всяком случае, тебе не грозит долго пребывать в одиночестве.
Лютте приложила рот, спелый персик, к его уху и, обдавая теплым дыханием, зашептала:
– Возьми меня с собой в Америку.
– Поехали! – сказал Чарльз, обхватил ее еще крепче и побежал к двери. Она упиралась.
– Да нет, серьезно, я правда хочу в Америку.
– И я хочу, – бесшабашно сказал Чарльз. – И не только я, а все хотят.
– Это неправда, – строго оборвала его Лютте и чуть не остановилась на полном ходу.
Тут их разбил Ханс. Чарльз вернулся на место с таким ощущением, словно его надули. Лютте как подменили. Она прильнула к Хансу, и они медленно заскользили по залу, она то и дело бережно, ласково целовала его в правую щеку мягкими нежными губами, глаза ее были полуприкрыты. Изуродованное лицо Ханса выражало раскормленную гордость, неколебимое самодовольство – точнее сказать, чванство. Чарльз вдруг почувствовал острый приступ ненависти к Хансу. Но он чуть не сразу прошел.
– Тьфу, – сказал он вслух, хотя ни к кому не обращался. – Ну и что из этого?
– Совершенно с вами согласен, – сказал Тадеуш. – Согласен, тьфу, ну и что из этого?
– А не выпить ли нам коньяку? – сказал Чарльз.
Притихший было Отто вскинулся, улыбнулся.
– Чудесный вечер! – сказал он, – Мы все тут друзья, верно я говорю?
– Совершенно верно, – сказал Тадеуш. – Мы все ваши друзья, Отто. – Движения его стали менее резкими, более плавными, глаза растерянно смотрели из-под складчатых век, с губ не сходила напряженная улыбочка… – Ох, и надерусь я сейчас, и совесть меня замучит, – сказал он не без удовольствия. И повел, хоть они и слушали его вполслуха, рассказ о своем детстве в Кракове: – В старом доме, где моя семья жила с двенадцатого века… На Пасху мы ели одну свинину, чтобы выказать евреям свое презрение; разговляясь после Великого поста, мы, естественно, бессовестно объедались… Отстояв праздничную службу, я утром накидывался на еду и ел, пока не раздувался, точно шар, и у меня не начинались колики. Тогда я укладывался в постель, плакал в три ручья, а когда меня спрашивали, в чем дело, говорил: мне стыдно, меня мучит совесть. К моим страданиям относились уважительно, меня утешали, но порой я, казалось, замечал, как… нет, не мать, скорее сестра проницательная была, поганка, и няня то сверкнут глазами, то скорчат гримаску. Однажды няня, напоив меня успокоительной микстурой, растерла мне с унизительной притворной жалостью живот и сказала: «Теперь тебя совесть больше не мучит?»
Я – в рев, сказал матери, что няня пихнула меня в живот. А потом изрыгнул всю пасхальную свинину, так что евреи на сей раз были отмщены. Няня сказала: такой маленький, а уже такой подлый, потом они с мамой ушли поговорить в соседнюю комнату, вышли оттуда смеясь, и я понял, что меня раскусили. С тех пор я никогда больше не заикался при них о муках совести. Но как-то раз – уже взрослым или почти взрослым – я, пьяный в стельку, явился домой в четыре утра и пополз вверх по лестнице – вот дураки люди, думалось мне, и зачем ходить, на четвереньках же гораздо удобнее. Красная ковровая дорожка давала ощущение надежности, раскованности, помнится, я считал себя благодетелем человечества – ни более ни менее: еще бы, я возрождал исконный способ передвижения, стоит мне доказать его достоинства и преимущества, и он произведет коренной переворот в обществе. Но тут первым препятствием на моем пути встала моя мать. Она молча высилась на верхней площадке лестницы с зажженной свечой в руке – поджидала меня. Я помахал ей передней лапой, она не удостоила меня ответом. А едва моя голова выросла над последней ступенькой, она заехала ногой мне в челюсть – да как! – я просто чудом уцелел.
Она никогда не упоминала об этом происшествии, впрочем, расскажи она мне о нем, я бы ни за что ей не поверил, если б на следующий день у меня не распух язык. Так меня воспитывали в этом древнем городе, но теперь я вспоминаю этот город – нечто среднее между кладбищем и утерянным раем – и гул колоколов над ним с нежностью.
Отто сказал:
– А не выпить ли нам еще пивка? – и с горечью рассказал им кое-что о своем детстве.
Однажды, когда он грыз орехи, мать ни с того ни с сего поколотила его. Обливаясь слезами, он спросил ее, в чем он провинился, а она сказала: не задавай вопросов. Что хорошо для Мартина Лютера, то хорошо и для тебя. Позже он прочел в детской книжке, что мать Мартина Лютера отколотила его до крови, когда он щелкал орехи, – она, оказывается, не переносила этого звука. До той поры я думал о Лютере как о великом, суровом, жестоком человеке, чья душа радовалась, когда лилась кровь, но после этой книжки я проникся к нему жалостью. И он когда-то был несчастным, забитым малышом вроде меня, и его колотили ни за что ни про что. И все же он стал великим человеком. – Лицо у Отто было приниженное, извиняющееся. – Дичь, сущее ребячество, конечно, но мне это очень помогло в жизни, – сказал он.
Клубы дыма, свет, голоса, музыка – все смешалось и, слившись воедино, поплыло вокруг. Крупная молодка, помогавшая близнецам, вышла из-за стойки в зал, принялась сдвигать столы и стулья к стене. Крепкие ягодицы так и ходили под обтягивающей юбкой, большие груди вздымались и опадали, когда она поднимала и опускала руки; широко расставив массивные ноги, она налегла на стол. Мужчины, сидевшие поблизости, смотрели на нее во все глаза, но не двигались с места и не пытались ей помочь. И тут в Отто снова произошла разительная перемена. Он прямо пожирал глазами молодку, только что не пускал слюни. В своем возбуждении он, казалось, ничего не видел вокруг, нос его дергался, глаза округлились, в них горела расчетливая свирепость кота. Молодка наклонилась вперед, оголив подколенные ямки, выпрямилась, и на ее спине и плечах заходили мускулы. Она перехватила взгляд Отто и медленно залилась краской. У нее вспыхнули шея, щеки, лоб, лицо ее окаменело, омрачилось, словно она пыталась справиться с приступом боли или ярости. Однако уголки ее мягкого бесформенного рта раздвинула улыбка, глаза ее были опущены – после того первого, беглого взгляда она больше их не поднимала. Вдруг она схватила стул, напоследок рывком отшвырнула его к стене и убежала – двигалась она нескладно, вразнобой. Отто обратил на Чарльза взгляд, полный пыла, не до конца растраченного на молодку.
– Есть за что подержаться, – сказал он. – Люблю крупных, ядреных баб.
Чарльз кивнул, чтобы не вступать в прения, и снова стал смотреть на Лютте – она все еще танцевала с Хансом, осыпая его поцелуями.
Деревянная кукушка, не больше колибри, выскочила из дверцы над циферблатом, предупреждающе закуковала. И тут же все повскакали с мест – сосед обнял соседа, раздались крики:
– С Новым годом, с новым счастьем, здоровья тебе, удачи, Господь спаси тебя и помилуй!
Бокалы, кружки плясали в воздухе, на полуоборотах окропляя пеной вздетые кверху лица. Сам собой образовался круг, переплетя руки, все запели кто во что горазд, однако голоса быстро слились в мощный хор – прекрасные голоса выводили игривые, неведомые Чарльзу мелодии. И он, звено этой цепи, открывал рот и пел не в лад и без слов. Неподдельная радость, жаркая, беспечная, подхватила его: да, он не дал маху, это именно то, что ему нужно, здесь и люди замечательные, и все, буквально все здесь ему нравится. Круг разорвался, соединился, завертелся и, разомкнувшись там и сям, распался.
Криво улыбаясь одной стороной лица, к нему подошел Ханс, и с ним – Лютте. Они с двух сторон обняли Чарльза за плечи и пожелали ему счастливого Нового года. Он раскачивался, обняв одной рукой Ханса, другой Лютте, – ревность его сразу улетучилась. Лютте поцеловала его в губы, и он невинно, как целуют ребенка, поцеловал ее в ответ. Тут они заметили, что Тадеуш склонился над Отто – тот улегся на столик, положив голову на руки.
– Он мертвецки пьян, он дезертировал, – сказал Тадеуш. – Теперь, куда бы мы ни пошли, нам придется волочить его за собой.
– Но мы ведь больше никуда не пойдем, надеюсь, нет? – взмолился Чарльз.
Отто и впрямь был мертвецки пьян. Они подхватили его под руки, судорожно цепляясь друг за друга, вывалились на тротуар, под снисходительным взглядом рослого полицейского залезли в такси, тут же перепутались ногами и, лишь чудом не вывалившись, разом высунулись из окон. Лютте, никого не выделяя, желала всем: «Спокойной ночи, счастливого Нового года», лицо ее сияло, но вид у нее при этом был вполне трезвый.
На лестнице Отто рухнул окончательно и бесповоротно. Троица медленно потащила его наверх, передыхая на каждой ступеньке. Временами все сооружение начинало раскачиваться, они шатались, расползались, наступали на Отто, он стонал, взвывал, но не обижался. И они, поднатужившись, снова сцеплялись руками и начинали все сначала, покатываясь от хохота, кивая друг другу так, словно им открылась неизъяснимая, но неимоверно смешная истина.
– А что, если попробовать ползком? – крикнул Тадеушу Чарльз. – Может, так будет вернее?
Ханс с ходу отверг это предложение.
– Ползком – никогда! – взял он командование на себя. – Все идем как положено, исключение делается разве что для Отто.
Они схватились покрепче за руки, напряглись – рывок, и вот они уже у знакомой двери.
Дверь в Розину комнату была приотворена, из нее в коридор падала полоска света. Они поглядели на дверь и от испуга чуть не протрезвели – ведь она, того и гляди, распахнется, и оттуда с бранью выскочит Роза. Ничего подобного. Тогда они переменили тактику, пошли на приступ и, выбив на двери барабанную дробь, лихо закричали: «С Новым годом, с новым счастьем, Розочка!»
За дверью послышался легкий шорох, она приотворилась пошире, в щель высунулась отлично уложенная Розина головка. Хотя глаза у нее покраснели, слипались, она весело и лукаво улыбалась им. Ее постояльцы явно перепили, сразу смекнула она, но ничего дурного, слава богу, с ними не случилось. У Ханса щека расцветилась еще сильнее, но он хохотал вовсю. Чарльз и Тадеуш, те вели себя тише – тщились показать, какие они трезвые и положительные, но глаза у них закрывались, а губы растягивали дурацкие ухмылки. Все трое старательно поддерживали герра Буссена – его мотало туда-сюда, колени у него подламывались, лицо во сне хранило наивно-блаженное выражение.
– С Новым годом, с новым счастьем, полуночники, – сказала Роза: она гордилась, что ее домочадцы не подкачали, отпраздновали Новый год как положено. – Мы с друзьями тоже встретили Новый год шампанским, варили новогодний пунш. Так что и я чуточку навеселе, – похвасталась она. – А теперь отправляйтесь-ка спать: наступил Новый год. И начать его надо хорошо. Спокойной ночи.
Чарльз сидел на кровати – раздевался, стягивал одежду как попало, бросал ее где придется. Когда он влезал в пижаму, перед глазами у него все поплыло – ему виделось то одно, то другое, и все незнакомое, все чужое. Под конец он заметил, что Падающая башня снова здесь и стоит в полной безопасности на угловой полочке за стеклом. Выписывая вензеля, он пересек комнату, подошел к башне. Да, она тут, сомнений нет, но следов починки не скрыть – ей уже не быть прежней. Впрочем, для Розы, бедной старухи, и так сойдет, решил он, все лучше, чем ничего. Башня была символом чего-то, чем она некогда обладала или считала, что обладает. И пусть она чиненая-перечиненная, пусть ей вообще-то грош цена, Розе она была дорога, и он и сейчас стыдился, что поломал ее, ну что он за подонок. Башня стояла крохотная, дерзкая в своей хрупкости, словно бросала ему вызов: а ну-ка, попробуй подступись; он прекрасно знал, что стоит свести пальцы – и колонки рухнут, дунуть – и аркады обвалятся. Она вечно кренится, клонится, кажется, того и гляди упадет, но все не падает, нахальная безделица, по сути своей явный промах, докучный каприз – вот что она такое, ведь как ни говори, а башне не положено падать, курьез, вроде тех, чудом не падающих с крыши амуров, и все же для Чарльза она тоже некий символ. Вот только чего? Он провел пятерней по волосам, протер глаза, почесал в затылке, зевнул так, что чуть не вывернул челюсть. Что из его прошлого напомнила ему эта хрупкая безделица? Если б ему удалось собраться с мыслями, он бы отыскал ответ, но для этого еще не настало время. Хотя что-то до крайности спешно назревало, но в нем ли, вокруг ли него, он затруднялся определить. Что-то недолговечное, но грозное и смутное не то нависало над головой, не то злобно копошилось у него за спиной. И если он сейчас же не выяснит, отчего его здесь так снедает тревога, он, наверное, никогда этого не поймет. Он стоял, опьянение давило его, как горе, как тяжкое бремя, думать ясно он не мог, зато с незнаемой доселе силой ощущал потустороннее одиночество духа и леденящее предчувствие смерти. Он обхватил руками грудь, выдохнул весь воздух, и его с ног до головы покрыла холодная испарина. Он вернулся к кровати, повалился на нее, свернулся клубком и повел с собой неприятный разговор.
– Для полноты картины остается только закатить по пьянке истерику, – сказал он.
Но ему не было жаль себя, и ни истерика по пьянке, ни пьянка без истерики уже никогда и ничем не помогут ему в этой жизни.