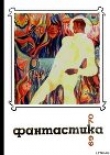Текст книги "Падающая башня"
Автор книги: Кэтрин Портер
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
Чарльз сказал:
– У меня есть немного коньяку, может быть, вам стоит выпить?
– Видит бог, да! – сказал юнец, и у него помимо воли вырвался вздох.
Он беспокойно слонялся по комнате, держа растопыренную пятерню у лица, словно опасался, что у него оторвется голова, и тогда он будет начеку и успеет подхватить ее. Из-за светло-серой пижамы создавалось впечатление, что он вот-вот рассеется от желтоватого света ночника.
Чарльз – как был в толстом шерстяном халате и войлочных шлепанцах – вернулся с двумя стаканами и бутылкой коньяку. Пока Чарльз наливал ему, юнец так пожирал глазами коньяк, что, казалось, того и гляди выхватит стакан у Чарльза из рук, но он дождался, когда Чарльз протянул ему стакан, поднес краем к носу, понюхал, они чокнулись и выпили.
– Ух ты! – сказал юнец, он пил осторожно, наклонив голову вправо. Улыбнулся Чарльзу правым углом рта и благодарно просиял правым глазом. – Сразу легче стало! – И без всякого перехода добавил: – Ханс фон Горинг, к вашим услугам.
Чарльз назвал себя, юнец кивнул, и, пока Чарльз снова наполнял стаканы, они помолчали.
– Как вам нравится здесь, в Берлине? – вежливо осведомился Ханс, согревая коньяк ладонями.
– Пока нравится, – сказал Чарльз, – но я ведь еще толком не обосновался.
Чарльз следил за лицом Ханса: он боялся, что язык будет помехой их разговору. Но Ханс, похоже, вполне понимал его.
– Я обошел чуть не весь город, в каких только музеях и кафе не побывал, пока что, разумеется, только в самых известных. Великий город. И тем не менее берлинцы не гордятся им, хотя не исключено, что они просто скромничают.
– Знают, что Берлину далеко до других городов, – без обиняков выложил Ханс, – Я никак не могу понять, почему вы-то сюда приехали? Почему именно сюда – ничего лучше, что ли, не нашли? Вы же могли поехать куда угодно, верно я говорю?
– Пожалуй, – сказал Чарльз. – Да, да, разумеется, мог.
– Меня отец отправил сюда лечиться к своему старому другу, но через десять дней я вернусь в Хайдельберг. Поляк, он пианист, а у пианистов считается, что учиться можно только у старика Шварцкопфа, вот они и едут сюда. Что же касается герра Буссена – его комната дальше по коридору, – начнем с того, что он Platt deutsch [5]5
Нижненемецкое наречие. Здесь имеется в виду житель северных районов Германии, где говорят на этом наречии. Литературным языком считается верхненемецкий.
[Закрыть] и вдобавок еще и живет в Далмации, так что для него и Берлин хорош. Он считает, что получает здесь образование, и, наверное, так оно и есть. Но вы-то! Взять и по своей воле приехать в Берлин! – Он криво улыбнулся одним уголком рта и гадливо передернулся. – Значит, вы собираетесь пожить здесь?
– Еще три месяца, – сказал Чарльз без особого энтузиазма. – Сам не понимаю, почему я сюда приехал, если не считать того, что у меня был близкий друг – немец. Он ездил сюда с семьей, но это было давным-давно, так вот, он часто повторял: «Поезжай в Берлин». Мне всегда казалось, что здесь стоит побывать, ну а если ты мало что повидал, Берлин производит впечатление. Конечно, Нью-Йорк тоже неплох. Я пробыл там всего неделю, но мне он понравился, по-моему, я бы смог в нем жить.
– Да, конечно, Нью-Йорк, – без всякого интереса повторил Ханс, – но послушайте, а чем плохи Вена, Прага, Мюнхен, Будапешт, Ницца, Рим, Флоренция и, наконец, Париж, Париж, Париж! – Неожиданно Ханс чуть ли не развеселился. И, подражая немецкому актеру, подражающему французу, поцеловал кончики пальцев и, легонько перебирая ими, указал на запад.
– В Париж я поеду позже, – сказал Чарльз. – А вам случалось бывать в Париже?
– Нет, но я непременно туда поеду, – сказал Ханс. – У меня все распланировано. – И, видимо, взбудораженный такой перспективой, вскочил, запахнул поплотнее халат, бережно потрогал щеку и снова опустился на кровать.
– Я хочу пожить там год, походить в какую-нибудь студию, заняться живописью. А вдруг вы нагрянете в Париж, покуда я там буду?
– Нет, мне еще год учиться в Хайдельберге, – сказал Ханс, – а после Хайдельберга придется провести хотя бы несколько месяцев у моего деда, он очень старый и дает мне деньги. Ну а потом я могу уехать и буду волен делать что хочу, по крайней мере года два.
– Как странно, что у вас все распределено наперед, – сказал Чарльз. – Я вот понятия не имею, где окажусь через два года. Не исключено, что мне что-нибудь помешает и я так и не попаду в Париж.
– Если не планировать все заранее, – рассудительно сказал Ханс, – это может завести бог знает куда. Не говоря уж о том, что моя семья обо всем договорилась. Я даже знаю, на какой девушке женюсь и какое у нее приданое. Отличная девушка, – без особого восторга сказал он. – Зато уж Париж мой, уж там-то я погуляю на славу, там я буду сам себе хозяин.
– А я рад, что приехал сюда, – на полном серьезе продолжал Чарльз. – Все американцы, знаете ли, хотят когда-нибудь побывать в Европе. Им кажется, в ней есть нечто особенное. – Развалился на стуле, закинул ногу за ногу: с Хансом он чувствовал себя вольготно.
– В Европе и верно есть, но в Берлине – нет. Вы только теряете здесь время попусту. Поезжайте в Париж, если можете. – Ханс сбросил шлепанцы, юркнул в постель, взбил подушки и с предельной осторожностью опустил на них голову.
– Надеюсь, вам лучше, – сказал Чарльз. – Может быть, теперь вы заснете.
Ханс насупился, замкнулся в себе.
– А я вовсе не болен, – заявил он, – до вашего прихода я спал. Все идет своим чередом, такое случается сплошь и рядом.
– Что же, спокойной ночи, – сказал Чарльз, поднимаясь.
– Нет-нет, не уходите. – Ханс попытался было сесть, но передумал. – Я вам что скажу – постучите-ка в дверь Тадеушу, пусть он тоже встанет. Слишком много он спит. Его дверь рядом с моей. Не в службу, а в дружбу. Он будет рад.
Чарльз постучал – в ответ ни звука, но чуть погодя дверь, также без звука, отворилась. В темном дверном проеме возник худой высокий юноша, с вытянутой вперед, как у птицы, продолговатой головкой. В лиловом халате тонкого шелка, пожолклые руки с длинными сомкнутыми пальцами сложены одна поверх другой на груди. Вид у него был совсем не сонный, а небольшие, темные, удивительно живые глаза добродушно улыбались.
– Что еще стряслось? – спросил он с английским акцентом, наслаивающимся на польский. – Наш окаянный дуэлянт опять не оставляет нам покоя?
– Не вполне так, – сказал Чарльз: он и рад был услышать английскую речь, и поразился самой речи, – но и утверждать, что он затих, тоже нельзя. Мы пили коньяк. Я Чарльз Аптон.
– Тадеуш Мей, – представился поляк и выскользнул в коридор, бесшумно притворив за собой дверь. Тихим голосом, почти шепотом, он непринужденно продолжил: – Я поляк, хотя моя фамилия и может ввести в заблуждение. Бабка неосмотрительно вышла замуж за австрийца. Остальные члены семьи – вот счастливчики! – носят фамилии типа Замойский.
Едва они вошли к Хансу, как Тадеуш тут же перешел на немецкий:
– Да, да, прелесть что за шрам будет. – Он склонился над Хансом, с видом знатока разглядывая рану. – Все идет как нельзя лучше.
– Останется навек, – сказал Ханс.
На его лице проступило совершенно ошарашившее Чарльза выражение. Лицо его менялось медленно, но основательно, как меняется освещение, хотя ни веки, ни один его мускул при этом не шелохнулись. Выражение это прорвалось изнутри, из тайного укрытия, служившего Хансу подлинным обиталищем; в нем мешались чванство и радость, непередаваемая суетность и самодовольство. Сам Ханс не двигался, двигателем, вытолкнувшим это выражение на поверхность, была его сокровенная натура. Чарльз подумал: «Его надо писать только так, иначе не передать сущности». Тадеуш вел разговор негромко, любезно, переходя с французского на немецкий. У Чарльза просто в голове не укладывалось, как можно так свободно говорить на разных языках. Он напряженно прислушивался, но Тадеуш, скупо жестикулируя рукой со стаканом, похоже, вел довольно бессодержательный разговор, хотя Ханс тоже слушал его внимательно.
Чарльз счел, что не обязан принимать участие в беседе, и попытался вообразить Ханса в Париже с этим его шрамом. Вообразить его в Америке, в захолустном городишке, вроде, скажем, Сан-Антонио, с этим его шрамом. Предположим, в Париже разберутся, что к чему, ну а как его воспримут в глуши Техаса, в Сан-Антонио? Подумают, что он ввязался в поножовщину, скорее всего с мексиканцем, или попал в автомобильную катастрофу. Подумают: экая жалость, такой видный парень и так изуродовался – из деликатности постараются не упоминать о шраме, будут отводить от него глаза. Да и в Париже, как представлялось Чарльзу, у тех, кто поймет, что это за шрам, он вызовет явное неодобрение. Ханс для них будет всего-навсего одним из тех немцев, которые норовят разбередить полученный на дуэли шрам, чтобы кривой, иссиня-багровый рубец остался навек. Тут до него дошло, что лишь в этой стране Ханс может чваниться и своим шрамом, и тем, как он его заработал. Только здесь его поймут, только здесь его шрам не сочтут несчастьем или позором. Прислушиваясь к неумолчной болтовне Тадеуша, Чарльз следил за Хансом, и мысль его ходила по кругу, безуспешно стараясь вырваться из него. Такой здесь обычай, только и всего. Так и надо к этому относиться, больше ничего не остается. Но у Чарльза в целом мире не было, нет и не будет друга, который, повстречай он Ханса, не спросил бы потом Чарльза с глазу на глаз: «Где этот парень заполучил такой шрам?» Если не считать Куно. Но Куно ни о чем подобном ему не рассказывал. Куно рассказывал, что на улице перед офицерами положено посторониться, иначе тебя столкнут с дороги, во время прогулок они с матерью всегда сходили на мостовую и пропускали офицеров. Куно это нисколько не возмущало: рослые офицеры в шинелях и шлемах скорее импонировали ему, а мать, та негодовала. Он слышал этот рассказ давным-давно, а вот помнил же; ни с чем подобным он в жизни не сталкивался, но рассказ отложился у него в памяти как неоспоримая истина, и неведомый ему отрезок жизни Куно, протекавший вдали, был для него более подлинным, чем жизнь, прожитая ими совместно.
У боксеров изуродованные уши, но это получается помимо их воли. В их случае это профессиональный риск. У официантов плоскостопие. У стеклодувов щеки свисают мешками оттого, что они целыми днями дуют что есть силы. У скрипачей часто вскакивают нарывы под подбородком, оттого что они упирают туда скрипку. У солдат сплошь и рядом разворачивает взрывом лица, и хирургам приходится сшивать их по кусочкам. Работа уродует людей по-всякому: и в результате несчастного случая, и мало-помалу – так что ты и сам замечаешь, на что похож, только когда уже ничего не поделаешь. Чуть не во всем мире издавна дрались на дуэлях, к дуэлям относились с почтением, но дуэли должна предшествовать ссора. Он видел дуэльные пистолеты своего прадеда в подбитом бархатом футляре – предмет семейной гордости. Но что это за человек, который хладнокровно позволяет ни за что ни про что раскроить себе физиономию? И вдобавок всю жизнь чванится этой раной, хотя ни для кого не секрет, как он ее заработал. Мало того, он и от тебя еще ждет восторгов. Чарльзу Ханс понравился с первого взгляда, но было в Хансе что-то, что останется для него тайной, проживи они оба хоть до тысячи лет; тебе это дано или не дано, и Чарльз отринул и саму рану, и причины, ее породившие, и все, благодаря чему такое вообще возможно, просто потому, что все это выходило за пределы его понимания.
Тем не менее Ханс ему нравился, и он дорого дал бы, чтобы шрама не было. Но шрам был, и, когда Чарльз глядел на него, его и брала оторопь, и он не верил своим глазам разом, все равно как если бы встретил посреди бела дня на Курфюрстендамме рыцаря в латах или, пуще того, скелет, кружащийся в Пляске смерти.
– Вы говорите по-французски? – отнесся наконец Тадеуш к Чарльзу.
– Еле-еле, – сказал Чарльз, но перейти на французский заробел.
– Счастливчик, – сказал Тадеуш. – Ваш родной язык каждый старается выучить. Ваш и французский. А мне приходится учить все, чтоб им, языки подряд, потому что никто, кроме поляков, не говорит по-польски.
Он был хрупкого сложения, зеленый с лица молодой человек, глаза его на свету казались темно-карими. Что-то заставляло предположить в нем раздражительный нрав; разговаривая, он крутил словно пожухлый хохолок на макушке, губы его еле заметно кривила тонкая улыбочка.
– Я могу говорить и на Plattdeutsch, но герр Буссен притворяется, что не понимает меня.
– Это тот, которого сегодня отчитывала наша хозяйка? – спросил Чарльз и тут же понял, что совершил бестактность.
– Сегодня? – переспросил Тадеуш. – Она отчитывает его не только сегодня, а каждый день, не за одно, так за другое. Он ужасный дурак. Других таких дураков, как северяне, днем с огнем не найти. Пусть себе Роза срывает злость на нем. Меньше будет цепляться к нам. Она сущая фурия, эта тетка.
– Чего вы хотите? – сказал Ханс брюзгливо и надулся. – Это же pension [6]6
Пансион (франц.).
[Закрыть].
– Кстати говоря, числящийся в рекомендательном списке, – добродушно сказал Тадеуш, зажав сигарету между указательным и средним пальцами, огоньком к ладони. – И я ничего не хочу.
– Все бы ладно, если бы она оставила в покое мои бумаги, – сказал Чарльз.
– Вы тот американский богач, который оплачивает все, что мы недоплачиваем, – улыбнулся Тадеуш. – Зато вам и кружевные занавески, и лучшая перина. Но если вы проштрафитесь, помните – за ваши грехи взыщут с герра Буссена.
Чарльз покачал головой: это до того похоже на правду, подумал он, что даже не смешно, во всяком случае ему. Разлил коньяк по стаканам, и они снова закурили. Гости расположились поудобнее, а Ханс перевернулся на бок. Они пребывали в самом добром и мирном расположении духа, между ними, похоже, завязывались приятельские отношения. В дверь трижды резко, отрывисто постучали, вслед за тем послышался Розин голос. Она мягко пожурила их, как водится, напомнила, что уже четвертый час ночи, что они в доме не одни, тут есть люди, которые, в отличие от них, хотят спать. Они переглянулись с заговорщическими улыбками.
– Роза, душечка. – Ханс вложил в голос всю силу убеждения. – Мне стало совсем плохо, и они пришли составить мне компанию.
– Вам никакая компания не нужна, – отрезала Роза, – прежде всего вам нужен сон.
Тадеуш неслышно поднялся, резко отворил дверь, и Роза, привидением в халате и сетке для волос, кудахча, кинулась прочь, Тадеуш увещевающе крикнул ей вслед:
– Мы сейчас же разойдемся, – обернулся к ним, и его близорукие глазки издевательски блеснули. – Я знал, как обратить ее в бегство, – сказал он. – Она ужасно тщеславная – можно подумать, ей двадцать лет. Впечатление такое, словно мы в какой-то окаянной тюрьме. – Он снова взял стакан. – Впрочем, Берлин и есть тюрьма. Должен вам сказать, – обратился он к Чарльзу, – я жду не дождусь, когда смогу вернуться в Лондон. Вот куда вам надо поехать во что бы то ни стало. Поверьте моему опыту – я перебывал почти во всех великих городах, разве что в вашем легендарном Нью-Йорке не был, но на фотографиях, сделанных с самолета, он довольно-таки отталкивающий, – цивилизованный человек должен жить только в Лондоне.
Ханс осторожно покачал головой и повторил:
– Нет-нет, в Париже.
– Ладно. – Тадеуш перешел на английский: – О'кей. Этому выражению я научился у одного вашего соотечественника, типичного американца на все сто процентов, как он себя аттестовал. Ковбой из Аризоны, шляпа с ведро величиной. Из трясунов, к тому же вегетарианец, поутру никогда не сядет завтракать, пока не хлопнет стопку виски. Крутил роман с заклинательницей змей, она по совместительству еще танцевала нагишом. Когда я с ним познакомился, он держал маленькое boîte [7]7
Кабаре (франц.).
[Закрыть] на Левом берегу; развесил там по стенам бычьи рога, лассо. Как-то раз он повздорил со своей заклинательницей, накинул ей на шею лассо и ну таскать по полу. Она от него тут же сбежала, но перед этим подложила ему в постель ядовитую змею. И ничего – обошлось. Как он сам сказал: о'кей, мне все нипочем.
– Объясните, о чем вы говорите? Не забывайте, я не понимаю по-английски, – сказал Ханс.
Тадеуш перешел на немецкий:
– Я рассказывал, как научился говорить о'кей.
– Вот оно что, о'кей – это я понимаю. Но больше ни одного английского слова не знаю, – кивнул Ханс.
Чтобы доказать, что они как-никак мужчины и не позволят собой помыкать, они тянули время и, прежде чем разойтись, долго желали друг другу спокойной ночи.
Выйдя поутру из ванной, Чарльз столкнулся в коридоре с герром Буссеном. На герре Буссене был куцый бумазейный халат, на руке висело довольно замызганное вафельное полотенце. На пухлом круглом лице расстройство мешалось с недоумением – он напоминал ребенка, которого так затуркали домашние, что он ни от кого не ждет ничего хорошего. Сегодня Чарльза разбудили крики Розы – она за что-то отчитывала герра Буссена. Чуть погодя она принесла Чарльзу кофе, булочки, масло, отлично причесанная, тщательно одетая – и это в такую рань, но в глазах ее не угасло раздражение. Она отдернула занавески, щелкнула выключателем – зимний свет грязноватой водицей залил комнату. И тут же унеслась прочь, забарабанила в дверь ванной, строго, властно крикнула:
– Вы уже пятнадцать минут занимаете ванную, герр Буссен, ваше время истекло.
Вернулась, одним рывком сдернула с кровати белье – и легкий ветерок взъерошил Чарльзу волосы. Встала около Чарльза, вздохнула.
– Как я ни стараюсь, а нет ни порядка, ни покоя, все идет кувырком – разве к такой жизни я привыкла? И в довершение всего еще и ванная. Ее всю заляпали кремом для бритья, пастой, везде лужи, лужи на линолеуме, зеркала и те забрызгали, всюду грязь, нет, вы мне скажите, герр Аптон, почему молодые люди никогда не моют за собой ванну? Но мало этого, так еще и герр Буссен. Что ни утро, у него в постели полно сырных и хлебных крошек, в комоде среди белья сплошь и рядом открытые банки с сардинами, он прячет в шкаф скорлупу от орехов, которые вечно щелкает. Мне все говорят, что он станет профессором, но от этого мне не легче. И каждый, буквально каждый месяц он задерживает плату за квартиру. На что, интересно, он думает, я буду жить, если мне не платят в срок?
Чарльз весь залился краской, вскочил.
– Подождите пару минут, я уйду и не буду вам мешать, – сказал он.
– Вы мне не мешаете. Занимайтесь своими делами, а я займусь своими. Нет-нет, вы меня не так поняли. – Она оживленно улыбнулась ему: видно, поборола накатившее на нее уныние. – Для вашего сведения, перед войной у меня было пять человек прислуги, не считая садовника и шофера, платья я выписывала из Парижа, мебель из Англии; у меня было три бриллиантовых колье, герр Аптон, да-да, три, так чего же удивительного, если я порой задаюсь вопросом: что со мной станется? Я стелю постели, как горничная, мою замызганные полы…
Чарльз, чувствуя, что его загнали в угол, схватил пальто, шляпу, буркнул что-то по-немецки – спроси его, он и сам не смог бы объяснить что – и опрометью кинулся из квартиры в ужасе: это же полное забвение приличий так откровенничать, и вдобавок Роза еще знает – вот стыд-то! – что он разводит грязь в ванной.
Он заложил фотоаппарат, рассчитывая получить за него сущие гроши, но щуплый субъект в ссудной кассе, оторвавшись от гроссбуха, с видом знатока осмотрел щегольскую камеру и без слов выложил за нее сто марок. Чарльз почувствовал, что он несметно богат, приободрился и поспешил домой в надежде немного поработать. Уже подходя к дому, он увидел герра Буссена – прижимая к груди кулек из оберточной бумаги, по всей вероятности хлеб с ливерной колбасой, в одном пиджаке, хотя стоял зверский холод, тот открывал парадную дверь. Чарльз догнал его на лестнице: герр Буссен, понурившись, медленно поднимался вверх. Со спины его можно было принять за старика, но вот он обернулся к Чарльзу, и лицо у него оказалось даже слишком юным для его возраста – в нем проглядывало непрожитое до конца, затянувшееся детство. С покрасневшего носа свисала капля, глаза слезились, на сжимавших пакет руках без перчаток потрескалась кожа.
– Доброе утро, – сказал герр Буссен, и его неказистое лицо на миг осветилось улыбкой, словно он ожидал какой-то приятной нечаянности.
Чарльз замедлил шаг, они представились друг другу и дальше поднимались молча. Дверь им открыла Роза.
– Вот как! – Она подозрительно переводила глаза с одного на другого. – Значит, вы уже познакомились?
– Да, – сказали они хором и, сильные своей сплоченностью, прошли мимо, не удостоив ее больше ни единым словом.
Роза, бормоча что-то под нос, удалилась к себе.
– Вас она тоже норовит обругать всякий раз, когда с вами разговаривает? – спросил герр Буссен, смиренно, без тени возмущения.
– Пока нет, – сказал Чарльз: он уже начал тяготиться своей неприкосновенностью. Пора переходить на их сторону, решил он, я не желаю и не позволю, чтобы Роза сделала меня своим любимчиком.
Герр Буссен меж тем продолжал:
– Она всякий день напускается на меня – поносит как минимум полчаса, а кончит – давай поносить герра Мея, но совсем по-другому: у него острый язык, и он отвечает ей тем же, но по-хитрому, так что ей и невдомек. Она облизывает фон Горинга, потому что он дрался на mensur [8]8
Дуэли (нем.).
[Закрыть], ну да ей это быстро надоест, а вам она не грубит, потому что вы иностранец и платите за квартиру больше нас. Но все впереди. Она и до вас доберется.
– Пусть только попробует, – беззаботно сказал Чарльз, – я мигом съеду.
– И вы готовы заплатить за три месяца? Ведь иначе вам придется иметь дело с полицией! – Герр Буссен был потрясен. – Господи, да у вас, должно быть, денег куры не клюют!
Чарльз помотал головой, хотя и понимал, что отпираться не имеет смысла: все равно ему не поверят. Зависть, до того глубокая, что даже смахивала на ненависть, проступила на лице герра Буссена, он замолчал и принялся разглядывать Чарльза так, словно перед ним было некое невиданное, но довольно мерзкое существо другой породы.
– Нет, я серьезно, – сказал он, – я бы посоветовал вам не нарушать наших прелюбопытных обычаев и ничем, решительно ничем, даже самой малой малостью не навлекать на себя недовольство полиции. Я говорю это вам, потому что вы плохо знаете нашу страну: здесь не любят иностранцев.
– Спасибо, – сухо бросил Чарльз: он был оскорблен до глубины души.
Этот невеселый разговор сначала нагнал на него тоску, потом привел в бешенство. В приступе неясной ему самому, но бодрящей ярости он сел за стол и принялся рисовать – торопливо, как бог на душу положит. Время от времени он отводил локти назад, вдыхал полной грудью воздух. Ему казалось, что стены надвигаются на него, представлялось, что он слышит, как дышат жильцы в соседних комнатах, на него попахивало йодом от перевязки Ханса, тухлыми сардинами изо рта герра Буссена, его мутило от томных дамских истерик Розы. Он нарисовал владельцев своей бывшей гостиницы: ее – хворой лисой, его – помесью борова с тигром. Нарисовал он и простоватую физиономию герра Буссена и с каждым наброском все больше теплел к нему. Чем-то он располагал к себе. С особым злорадством нарисовал Розу, сначала неряшливой кухаркой, потом морщинистой старой шлюхой и наконец нагишом. Вглядевшись в рисунки, он счел, что выместил, пусть и не до конца, свое раздражение, и изорвал их в клочки. Тут же пожалел об этом, а в то же время – где бы он их прятал от нее? Затем, уже не спеша, принялся рисовать Ханса, нелепо чванящегося своей раной, такого, каким он запал ему в память, и до того увлекся, что утихомирился, устыдился своего гнева и стал даже недоумевать, что это на него накатило. Ведь все они славные люди, все попали в беду, набились, как сельди в бочку, в эту дыру, где нечем дышать, негде повернуться, не на что жить, нехватки буквально во всем, некуда податься, нечего делать, и только и остается, что есть друг друга поедом. Я в любую минуту могу уехать домой, сказал он себе, но сначала надо выяснить, зачем я вообще приехал сюда.
Тадеуш снова заиграл, и он отложил карандаш. Откинулся поудобнее и наслаждался музыкой. Да, этот парень умел играть. Чарльз слышал по радио многих знаменитых музыкантов, и Тадеуш, на его взгляд, ничуть не уступал им. Тадеуш знал свое дело. Он нарисовал Тадеуша за пианино – птичья головка, резкие морщины в углах рта, пальцы точно птичьи когти. «Вот черт, а что, если я карикатурист?» – подумал он, но эта мысль его ничуть не огорчила. Он снова взялся за работу и забыл о музыке.
До него не сразу дошли возня в коридоре и Розины пронзительные стенания, полностью очнулся он, только когда она с воплем неподдельного ужаса забарабанила в дверь:
– Господи, о господи, герр Аптон, помогите герру Буссену… – Чарльз отворил дверь. Тадеуш и Ханс уже толклись около двери герра Буссена. По Розиному лицу катились слезы, волосы ее растрепались. – Герр Буссен отравился.
Чарльза оледенил смертный ужас. Он выскочил в коридор и вместе со всеми ввалился в комнату герра Буссена. Герр Буссен стоял на коленях у кровати, вцепившись в ночной горшок: его рвало, выворачивало, говорить он мог, только когда ему удавалось перевести дух между судорогами. И все же он через силу поднял руку, отчаянно замахал на них и пробулькотел:
– Уходите, уходите…
– Уведите его в ванную, – кричала Роза, – вызовите врача, принесите воды и ковер, ради бога, не попортьте.
Пока Чарльз, ухватив герра Буссена под мышки, поднимал его, подоспел Тадеуш с мокрыми полотенцами, а Ханс, прикрыв щеку рукой, побежал к телефону.
– Какого черта, ничего не надо, – вопил герр Буссен. – Не надо, не надо никакого врача.
Герр Буссен, чуть не выскользнув из рук Чарльза, рухнул, перегнувшись пополам, на изножье кровати, прижимая живот руками, – его корежило от боли, лицо приняло пугающий лиловато-зеленый оттенок, по бровям, по носу ручьями тек пот.
– Ну зачем, зачем вы это сделали? – заливаясь слезами, выкрикивала Роза. – Ну как вы могли отравиться здесь, где все желают вам добра?
Герр Буссен, собрав последние силы, запротестовал.
– Говорю вам, я вовсе не желал отравиться, – возопил он, зычный баритон его ничуть не ослабел. – Я же говорил вам, я съел что-то не то и отравился, сам того не желая.
Он снова согнулся над горшком – приступы рвоты возобновились.
– Уведите его в ванную, – кричала Роза, ломая руки. – Мне все известно, – напустилась она на герра Буссена в новом приступе гнева. – Эта ваша колбаса. Эти ваши сардины. Этот ваш печеночный паштет. Я вас предостерегала, так нет же, вы меня не послушали. Нет, вы же у нас умнее всех. Сколько раз я вам говорила…
– Оставьте меня в покое, – в отчаянии вопил герр Буссен. – Отпустите меня.
Чарльз и Тадеуш сообща приступились к нему.
– Пошли, – сказал Тадеуш на Platt deutsch самым будничным тоном, – пошли, мы вам поможем.
Они обхватили его за талию – он мешком повис у них на руках – и, стараясь ни обо что не ушибить, поволокли по коридору.
– О господи, – стонал герр Буссен в непритворном отчаянии, – оставьте меня в покое!
Но они, не считаясь с его протестами, точно он уже умер, протащили его в ванную, закрыли дверь, задвинули защелку. Чарльз чуть не сразу выскочил из ванной, опрометью, забыв надеть шляпу, кинулся в аптеку, через несколько минут вернулся оттуда с огромным пакетом, запер ванную, и, отмахнувшись от Розиных вопросов, они с Тадеушем взялись за герра Буссена всерьез.
Роза напустилась на Ханса, лицо ее совсем распухло от слез, не переставая плакать, она велела ему отправляться в постель.
– Зря вы беспокоитесь, – сказал Ханс. – Мне стало легче, и я пойду в поликлинику.
– Вы совсем расхвораетесь, – рыдала Роза.
– Нет, напротив, мне станет лучше, – холодно бросил он ей уже с порога.
Герр Буссен – его обиходили, обласкали, промыли и с ледяным пузырем на голове устроили в постели – застыл в оскорбленном неблагодарном молчании, а трое новообретенных друзей наперебой ухаживали за ним. Он, похоже, не очень-то нами доволен, думал Чарльз, а ведь мы потрудились на славу. Герр Буссен – и с какой стати они его так называют: ему ведь года двадцать четыре, не больше, – подавленный, сконфуженный, лежал с закрытыми глазами или отвернувшись к стене, а когда Тадеуш принес горячий суп из ресторана, он замотал головой и, похоже, едва не заплакал. Роза, увидев суп, тоже обиделась.
– Вы должны были попросить меня приготовить еду, – сказала она Тадеушу. – Я не желаю, чтобы его снова отравили.
Она унесла суп и чуть погодя, разогрев, подала на красиво убранном подносе. Вид у нее был угнетенный, герр Буссен пал духом и ел без аппетита.
Чарльз заметил, что стол герра Буссена завален густо исписанными бумагами, узнал математические формулы, но разобрать их не мог. Роза суетилась, пыталась навести на столе порядок. Когда они вышли из комнаты, она сказала Чарльзу:
– Вы наверняка не знаете, что герр Буссен считается в университете блестящим математиком. Он подает большие надежды. – В ее голосе звучала гордость собственницы. – Я порой отчитываю его, но надо же кому-то привить ему приличные навыки. Он ест ну просто бог знает что, чуть ли не отбросы. А теперь ему стыдно, потому что вы застали его в таком жалком виде. Вы не представляете себе, как ужасна бедность, – сказала она, и не только из глаз, а, кажется, изо всех пор у нее потекли слезы и, смешавшись с потом, залили ей лицо: – Что нам делать? Что с нами станется?
В коридор вышел Тадеуш, взял ее за руку.
– Да будет вам, Роза, – сказал он, легонько тряханув ее. – Ну в самом деле, что такого случилось? Герр Буссен съел сардинку и доставил нам массу хлопот. Подите прилягте, а мы приглядим за ним и постараемся не шуметь.
– У меня нервы расходились. – Роза благодарно улыбнулась ему.
Они наведались к герру Буссену. Он лежал неподвижно, прикрыв лицо рукой: похоже, снотворное начало действовать.
– Пойдем ко мне, – сказал Чарльзу Тадеуш. – У меня тоже припасен коньяк.
В комнату вошел Ханс – рана его, заклеенная свежим лейкопластырем, из-под которого выбивалась свежая же корпия, выглядела гораздо лучше. От коньяка он отказался.
– Как по-вашему, за ним не нужно приглядывать? По-вашему, как? – спросил он Чарльза.
– Да нет, по-моему, не нужно, – не сразу ответил Тадеуш. – А по-вашему? – обратился он к Чарльзу.
– Мне кажется, он нас не обманывает, – сказал Чарльз.
– Вот и отлично. Выпейте и за мое здоровье, – сказал Ханс, прикрывая за собой дверь.
Узкую комнату Тадеуша загромождало пианино и небольшая немая клавиатура; Чарльз осмотрел ее, неловко перебирая клавиши рукой.
– Я упражняюсь на ней по семи часов в день, – сказал Тадеуш и, вытянув перед собой руки, повертел ими, – и ваше счастье, что на ней. Но наш окаянный убийца себя, чтоб ему, заснул, и сегодня мне больше не играть. А раз так, почему бы не надраться. – И он ткнул в наполовину опорожненную бутылку коньяку. – Вообще-то я не пью. Но если бы мне пришлось пожить здесь подольше, я бы запил.