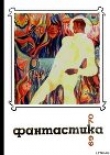Текст книги "Падающая башня"
Автор книги: Кэтрин Портер
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
– На меня здешняя обстановка тоже действует угнетающе, сам не знаю почему. По сравнению с настоящими бедняками, а мне их случалось видеть и здесь, и дома, даже герр Буссен чуть ли не богач. А по сравнению хотя бы с самостоятельными людьми я, наверное, чуть ли не нищий. Но я никогда не считал себя бедняком и не боялся бедности. Мне всегда казалось: если мне по-настоящему, позарез захочется разбогатеть, я сумею разбогатеть. Но здесь… не знаю, как и объяснить… здесь все живут так скученно, так озабоченно и ни о чем, кроме денег, не думают.
– Не забывайте, что они проиграли войну, – сказал Тадеуш. Он пробежал пальцами по немой клавиатуре, и ее клавиши размеренно, деревянно защелкали. – А это, если хотите знать, дурно отражается на характере нации. Но я им не сочувствую, ничуть. А что касается скученности, им далеко до поляков. Эти пузатые уроды… – Он закинул ногу за ногу и принялся терзать хохолок на макушке. – Побывали бы они в нашей шкуре, тогда поняли бы, что такое настоящий голод.
– Здесь далеко не все уроды, – сказал Чарльз, – вот уж нет.
– О'кей. – Тадеуш не стал спорить, прикрыл глаза.
А Чарльз думал: что я должен на это сказать? Выступить с пламенной защитой поляков? Или обругать немцев? Но на самом деле он думал вовсе не об этом, а о своем пальто на теплой подкладке – прикидывал, достаточно ли оно приличное, чтобы предложить его герру Буссену, и как к этому подступиться. Уместно ли просто постучать ему в дверь и сказать: «Мне это пальто не нужно» или (нет, нет, так нельзя) : «Если вы оставили пальто дома, почему бы вам пока не поносить мое?» Неужели никак нельзя сделать это по-человечески? Он рассказал о своих затруднениях Тадеушу и попросил его совета.
– Да что вы! – сказал Тадеуш. – Ни в коем случае. Он человек гордый, он придет в ярость. И потом, – Тадеуш покачал ногой, – не забывайте, что нельзя отнимать ничьих страданий, ведь чаще всего человек обрекает себя на них, преследуя какие-то свои цели, – откуда нам знать? Мы нередко жалеем людей совершенно не за то. А они, да будет вам известно, не нуждаются в нашей жалости и не хотят ее. Бедняга Буссен, теперь уже с полным правом говорим мы, и наше будущее представляется нам куда более завидным и надежным. В жизни есть вещи похуже холода и голода. Вам это никогда не приходило в голову? Знаете ли вы Буссена, его чувства, его замыслы? Так вот вам мой совет: пока не узнаете, не вмешивайтесь в его жизнь.
– Если бы мы сегодня не вмешались, он уже отдал бы богу душу, – сказал Чарльз.
– И все равно, не исключено, что мы совершили ошибку, – не смутился Тадеуш. – А впрочем, поживем – увидим. Разумеется, если б можно было дать ему деньги или еду так, чтобы он не знал, почему мы это делаем, тогда другое дело. Но это невозможно. Если после всего того, что сегодня случилось, вы возьмете и предложите ему свое пальто, на что вы можете рассчитывать? Он разве что не швырнет его вам в лицо. Человек, наверное, был бы не прочь принять милостыню, если б не опасался заслужить презрение благодетеля. Одолжения можно принимать только от близких друзей и оказывать их можно тоже только им же. Иначе из этого не выйдет ничего хорошего. – Тадеуш вскочил, забегал по комнате, накренясь вперед и буравя Чарльза взглядом.
– Не посетуйте, дружище, но я должен сказать, что у вас, американцев, весьма причудливые понятия. С какой стати такая щедрость? Какая вам в этом корысть, на что вы рассчитываете?
– Я не преследую никакой корысти и рассчитываю лишиться пальто. Но пальто мне не нужно, – сказал он. – И что касается меня, я ставлю тут точку.
– Вы кипите благородным негодованием, – сказал Тадеуш. Он остановился около Чарльза, улыбнулся. – Не сердитесь на меня, слышите, я говорю совсем как американец, правда? Вы сможете гордиться тем, что вам ничего не стоит отдать пальто, а тут есть своя корысть. Герр Буссен не будет мерзнуть, позволит чужому человеку облагодетельствовать себя, и не исключено, что благодаря этому ничего в жизни не достигнет. Постарайтесь понять. Я разбираюсь в этих делах лучше вас. Если мне случится приехать в Америку, я прислушаюсь к вашим советам относительно ваших соотечественников.
– Не думаю, чтобы американцы так уж отличались от других людей, – сказал Чарльз.
– Поверьте мне, – сказал Тадеуш, – вы для нас все равно что инопланетяне. Не предлагайте пальто герру Буссену. Он вас возненавидит.
– Как хотите, а я не могу в это поверить, – сказал Чарльз.
– Если вы выступаете в роли благодетеля, – сказал Тадеуш, – будьте готовы к тому, что вас возненавидят. С вашего позволения, я расскажу вам одну историю. Моему знакомому, очень богатому человеку, захотелось помочь молодым музыкантам, и он назначил им стипендии, и немалые. Но первым делом он отправился к своему поверенному и поставил условие: дар должен исходить от неизвестного, имя дарителя нельзя открыть ни при каких обстоятельствах. Поверенный сказал, что это вполне можно устроить, почему бы нет, только такая таинственность связана с лишними хлопотами, а зачем они его клиенту? И этот мудрец так ответил ему: «Я человек суеверный и не хочу, чтобы они знали, кого им проклинать».
– Господи, спаси и помилуй, – непритворно ужаснулся Чарльз.
– Вот именно, что спаси и помилуй, – вежливо согласился Тадеуш.
И Чарльз, оставив пальто в шкафу, понес герру Буссену молоко и апельсины. У его постели уже сидел Ханс – он уговаривал герра Буссена доесть суп.
Больной согласился и съел несколько ложек супа с таким видом, словно глотает горькую микстуру. А Тадеуш говорил верно, подумал Чарльз, герру Буссену еда не идет впрок; ему было ясно, что герр Буссен чувствует, как мало-помалу нарастает долг, отдать который он никогда не сможет. Чарльзу – он стоял в изножье кровати – вдруг представилась прелюбопытная картина: герр Буссен, объект их благодеяний, оленем мчится по заснеженным просторам, а за ним в бешеной погоне несутся Ханс, Тадеуш и Роза – хотят, пусть даже взяв за горло, сбить с ног, с тем, чтобы принудить принять от них помощь, утешение. В ушах Чарльза звучал басовитый угрюмый лай отцовых красно-пегих гончих.
Роза принесла кофе на подносе, одну его сторону занимала ничем не примечательная металлическая шкатулка черного лака. Роза не стала наливать кофе, а сложила руки на столе и, понизив голос, сказала:
– Я думаю, сегодняшний день был нелегким для всех. Но я была резка с герром Буссеном, и поэтому у меня особенно тяжко на душе. Я извинилась перед ним, и он ответил… он ответил мне по-доброму. Но я знаю, что вы, иностранец, родом из богатой страны…
– Спору нет, страна богатая, – сказал Чарльз, – но богачей в ней не так много.
– …не в состояний понять. – Роза отмела его возражения, даже не потрудившись к ним прислушаться. – Я хочу кое-что вам показать, вдруг вы хоть отчасти уясните себе, что с нами произошло. К нам отовсюду съезжаются иноземцы, им некуда девать деньги…
– Я же говорил вам, ко мне это не относится, я не богат, – отнекивался Чарльз, хоть и понимал, что это бесполезно.
В ее устремленном на него взгляде читалось едва ли не презрение: ну зачем лгать, ей-то лучше известно. Он из тех американских богачей, которые притворяются бедняками, хуже нет таких.
– Им некуда девать деньги, – повысив голос, продолжала она гневно, – и они смотрят на нас свысока, потому что мы озабочены тем, как нам жить дальше. Вы презираете нас, потому что мы разорены, а почему, позвольте вас спросить, мы разорились? Да потому, что ваша страна в войну отреклась от нас, вы должны были прийти нам на помощь, а не пришли. – Она понизила голос, говорила горько, спокойно.
Чарльз, не горячась, рассудительно сказал:
– На пароходе немцы всю дорогу твердили мне то же самое. По правде говоря, я всю мою жизнь слышу разговоры о войне, но саму войну помню весьма смутно. И, признаться, мало о ней думаю. Если бы я о ней больше думал, я, может статься, никогда бы не приехал сюда.
– Вы можете себе позволить не думать о войне, – сказала Роза, – но мы здесь ни о чем больше не можем думать.
Она открыла черную шкатулку. Шкатулка была доверху заполнена купюрами, плотными пачками купюр, туго стянутыми резинками, – столько денег Чарльзу никогда не доводилось видеть, разве что мельком под боком у кассира, сидящего за зарешеченным окошечком большого банка. Роза вынула одну пачку из шкатулки.
– Вот эти ничего не стоят, – сказала она с напускной бесшабашностью, – они всего-навсего по сто тысяч марок каждая… Погодите, – она вынула другую пачку, пропустила края купюр между пальцами, – а вот эти по полмиллиона марок каждая, посмотрите на них, – голос ее дрогнул. – Вот эти по миллиону марок каждая, – продолжала она и, не поднимая глаз, роняла пачку за пачкой на столик. Ужас мешался на ее лице с благоговением, казалось, к ней на миг возвратилась вера в былое могущество этих бумаг. – Вам случалось видеть банкноту в пять миллионов марок? Здесь их ровно сто штук, такого вы больше никогда не увидите. – И, не справившись с охватившим ее горем, неожиданно расплакалась, вцепившись в так зло обманувшие ее пачки обеими руками. – А сегодня на все эти деньги не купить и буханки хлеба, попробуйте, попробуйте – и убедитесь сами!
Голос ее взлетел, забыв о приличиях, она плакала, даже не прикрыв лицо, руки ее повисли, никчемные пачки упали на пол.
Чарльз озирался по сторонам, будто ожидал, что произойдет чудо и к нему придут на помощь, вызволят. Он попятился, желая лишь одного – сбежать от нее, а сам тем временем как можно более прочувственно бубнил:
– Это ужасно, я понимаю, но чем я могу тут помочь?
Нехитрый вопрос неожиданно возымел действие. Розины слезы чуть не сразу высохли, голос опустился на тон ниже, и она яростно накинулась на него.
– Ничем, – с жаром выкрикнула она, – решительно ничем, вы ничего не понимаете и даже представить себе не можете…
Чарльз поднял деньги с ковра, и Роза принялась укладывать тугие белесые пачки в шкатулку, сначала расположила их так, потом иначе, то и дело отрываясь, чтобы промокнуть кончик носа изящным платочком.
– Ничего тут не скажешь, ничего не поделаешь, – повторила она, метнув на него взгляд, полный такой укоризны, словно он подвел ее, и такой сердитый и разобиженный, словно она была ему близкой родственницей, а не родственницей, так близким другом или… но кем, спрашивается, была ему Роза? Незнакомой пожилой дамой, у которой он снял комнату и с которой рассчитывал обменяться на ходу нарой фраз не чаще раза в неделю, а она возьми да и навались на него со всеми бедами, рыдает у него на груди да еще перекладывает на него вину за все беды мира, доводит его до белого каления, а как от нее избавиться, он не знает.
Роза закрыла шкатулку, оперлась о стол.
– Если ты беден, – сказала она, – тебя пугают бедные и невезучие. Меня пугал герр Буссен, да что там, я чуть ли не ненавидела его. У меня не выходило из головы: «Господи, этот человек накликает на нас беду, он всех нас потянет за собой на дно». – Голос ее понизился чуть ли не до шепота. – Но сегодня мне открылось, что герр Буссен все превозможет, он сильный, он ничего не боится. И я черпаю в этом поддержку, потому что всего боюсь.
Она налила кофе, взяла черную лакированную шкатулку и вышла из комнаты.
Квартира готовилась ко сну – этой ночью всем хотелось отоспаться. Как хорошо, подумал Чарльз, что можно отделиться от сегодняшних событий долгим безмолвным темным промежутком. А что, если бедняга Буссен окочурится? Но герр Буссен все еще дышал, вернее, храпел, протяжно, зычно, словно никак не мог надышаться, и он почувствовал к нему живейшую благодарность.
Утром, когда Чарльз просунул голову в дверь поглядеть на герра Буссена, у него уже сидели двое посетителей: костлявые парни с на редкость серьезными физиономиями и совершенно одинаковыми рыжеватыми чубчиками – один на кровати, другой на чахлом стульчике. Они разом повернулись и устремили на незнакомца две пары совершенно неотличимых бездонной синевы глаз, и герр Буссен, вполне оправившийся и повеселевший, представил их Чарльзу. Близнецы, сказал он, его школьные друзья, сейчас они на пороге осуществления своей заветной мечты. В канун Нового года они откроют кабаре в уютном полуподвальчике с отличным пивом, холодными закусками, хорошенькими девочками – певичками, танцорками. Особого шика-блеска не будет, но недурное заведение, и герр Буссен надеется, что Чарльз не откажется пойти с ним отпраздновать его открытие. Превосходная мысль, сказал Чарльз и подумал, что Ханс и Тадеуш наверняка согласятся присоединиться к ним. Близнецы не сводили с него глаз, напрочь лишенных даже признаков какого-либо выражения.
Герр Буссен вскочил, он словно возродился к жизни.
– Вот здорово, пойдем все вместе.
Близнецы поднялись, и оказалось, что они ростом чуть ли не под потолок; один сказал:
– Берем мы, кстати говоря, недорого.
И улыбнулся широко и ободряюще, видно радуясь возможности преподнести Чарльзу такую приятную новость, Чарльз улыбнулся ему в ответ.
– Я собираюсь выйти, вам что-нибудь принести? – спросил он герра Буссена.
– Нет-нет, – решительно отказался герр Буссен, помотал головой, и глаза его недовольно сверкнули. – Благодарю вас, мне ничего не нужно. Я сейчас встану.
Наверху короткой, в несколько ступенек, лестницы, ведущей в кабаре, стояла тарелка с объедками для бездомных кошек и собак. Черный кот, перепуганно озираясь назад, торопливо заглатывал объедки. В дверь высунулась голова одного из близнецов, он радостно пригласил четверых приятелей пройти, заметил кота, бросил ему положенное: «Ешь на здоровье». Распахнул дверь, за ней открылся небольшой, свежепокрашенный, ярко освещенный зал, заставленный столами, накрытыми красными в крупную клетку скатертями, скромная стойка и длинный стол с холодными закусками в дальнем углу. Все это охватывалось одним взглядом. Обстановка была вполне домашняя – пестрые бумажные цепи, гирлянды нарезанной бахромой серебряной фольги, вокруг зеркала над стойкой, на полках ряды глиняных кружек, часы с кукушкой.
Чарльз совсем иначе представлял себе берлинское кабаре: он был наслышан об изысках берлинской ночной жизни и чувствовал себя обманутым в своих ожиданиях. Он не скрыл разочарования от Тадеуша.
– Ну что вы, – сказал Тадеуш, – это заведение совсем другого рода. Здесь будет благопристойное замшело-бюргерское немецкое заведение – сплошь сантименты и пиво. Сюда можно без опаски привести невинного ребенка, будь у вас невинный ребенок.
Он, похоже, был рад, что пришел сюда, Ханс и герр Буссен тоже; они расхаживали по залу и наперебой нахваливали близнецов – это ж надо все так удачно устроить. Они пребывали в состоянии радостного возбуждения: никто из них до сих пор не был знаком с владельцем кабаре, и тут им в кои-то веки выпал случай увидеть скрытую от других жизнь такого заведения, а это, что ни говори, а приятно. В кабаре они сразу же стали звать герра Буссена по имени. Начало положил Тадеуш.
– Отто, дружище, у вас огонька не найдется? – попросил он, и Отто, который не курил, зашарил по карманам, хоть и знал, что у него нет спичек.
Они явились первыми. Близнецы хлопотали – как всегда в последнюю минуту возникло множество дел, – хлопая дверьми, вбегали, выбегали на кухню. Отто провел гостей к столу, и они, в меру, но без излишества, положили себе закуски: вблизи было заметно, что здесь господствовал дух бережливости – кружки колбасы и кусочки сыра, казалось, были пересчитаны, а ломтики хлеба не исключено, что и взвешены. Малый в белой куртке принес им высокие кружки с пивом, они подняли их, помахали близнецам и долгими глотками осушили до дна.
– В Мюнхене, – сказал Тадеуш, – я часто пил с консерваторскими студентами, сплошь немцами. Мы пили без передышки, и кто первый выскакивал из-за стола – платил за всех. Платить всегда приходилось мне. Такая тоска, в сущности.
– Нудный обычай в лучшем случае, – бросил Ханс, – ну а иностранцы, разумеется, только такое и замечают, а потом выдают за типичный немецкий обычай.
Он был если не раздражен, так раздосадован, отводил от Тадеуша глаза, но тот не принял оскорбление на свой счет.
– Ведь я уже согласился с вами, что это страшная тоска, – сказал он, – и, в конце концов, речь шла только об одном образчике мюнхенских нравов.
Глядя на них, Чарльз не без удивления отметил, что на самом деле эти двое недолюбливают друг друга. И чуть не сразу расположение сменилось безразличием, не лишенным неприязни, а к ним присоединилась еще и неловкость, которая овладевает, когда случится затесаться не в свою компанию; он от души жалел, что увязался с ними.
Один из близнецов нагнулся к ним, чтобы с присущей ему неприкрытой целеустремленностью привлечь их внимание к вновь прибывшей паре. Глуповато-красивый молодой человек с тщательно уложенными густыми кудрями над богоподобным – о чем он не забывал – лбом снимал со смуглой блондинки меховой палантин.
– Знаменитый киноактер, – возбужденно прошептал близнец, – а дама – его любовница и партнерша. – Он неуклюже метнулся к знаменитостям, усадил их и тут же вернулся. – А вот и Лютте, она манекенщица, из первой десятки берлинских красавиц. – Голое его вибрировал от волнения. – Она попозже будет танцевать румбу.
Они обернулись, да и кто б не обернулся, и их глазам предстала стройная красавица: ее головка серебристо-желтым пионом возвышалась над едва прикрывавшим точеную фигуру платьем. Она улыбнулась им, но хотя они встали и поклонились, обманув их ожидания, к ним не подошла. Опершись о стойку, она разговаривала с малым в белой куртке. Зал быстро заполнялся народом, около стола с закусками началась толкучка; близнецы, разгоряченные успехом, сияя, сновали туда-сюда с подносами, заставленными глиняными кружками. Небольшой оркестрик перебрался поближе к стойке.
Чуть не каждый посетитель, заметил Чарльз, принес с собой музыкальный инструмент: кто скрипку, кто флейту, кто белый аккордеон, кто кларнет, а один ввалился, шатаясь под тяжестью виолончели в футляре под зеленым матерчатым чехлом. Молодая женщина, бедрастая, с толстыми ногами и гладким узлом волос, спускавшимся на ненапудренную шею, вошла без спутника, с рассеянной улыбкой огляделась по сторонам, но никто не улыбнулся ей в ответ, и она встала за стойку и там принялась сноровисто уставлять поднос пивными кружками.
– Поглядите на нее, – сказал Ханс, посматривая на Лютте с видом собственника, – вот он, истинно германский тип красоты, признайте, что нигде не видели ничего лучше.
– Да будет вам, – миролюбиво сказал Тадеуш, – в этом городе не сыщется и пяти таких, как она. Вы посмотрите на ее ноги, руки, ну что в них типичного? Не исключено, что у нее есть примесь французской, а то и польской крови, – сказал он. – Правда, грудь у нее чуть плосковата.
– Я вижу, мне никак вам не втолковать, – сказал Ханс, уже несколько взъерепенившись, – что, говоря о германцах, я имею в виду не крестьян и не этих разжиревших берлинцев.
– Наверное, всегда надо иметь в виду крестьян, когда рассуждаешь о расах, – сказал Тадеуш. – Аристократические и королевские роды всегда смешанных кровей, в сущности, абсолютные дворняги, люди без национальности. Даже буржуа женятся на ком попало, а крестьяне никогда не покидают своего края и поколение за поколением женятся на ровне, и вот так, не мудрствуя лукаво, и закладывается раса, как мне представляется.
– В вашем рассуждении есть серьезный изъян: какую страну ни возьми, крестьяне походят друг на друга, – сказал Ханс.
– Лишь на первый взгляд, – сказал Отто. – Если присмотреться, у них совсем разное строение черепа. – Он посерьезнел, подался к ним. – Неважно, как и почему так получилось, – сказал он, – но истинный, великий, исконный германский тип – стройные, высокие, светловолосые, как боги, красавцы. – Его лоб перерезала глубокая морщина, переходящая на переносице в мясистую складку. Запухшие глазки увлажнились от наплыва чувств, жирная складка, наползавшая на воротник, побагровела от восторга. – Далеко не все мы походим на свиней, – смиренно сказал он, протягивая к ним короткопалые руки, – хоть я и знаю, что иностранные карикатуристы именно так преподносят нас миру. Этот тип восходит к венедам, но, в конце концов, что такое венеды – всего лишь одно племя, и, строго говоря, они не принадлежали к исконному, истинному, великому германскому…
– …типу, – на грани грубости закончил Тадеуш. – Давайте договоримся, что немцы все как один неслыханные красавцы, с немыслимо изысканными манерами. Посмотрите, как они щелкают каблуками, как кланяются, перегнувшись чуть ли не пополам, как утонченно ведут беседу. А до чего любезен двухметровый полицейский, когда он с улыбкой на губах собирается раскроить вам череп. Говорю об этом не понаслышке. Спору нет, Ханс, у вас великая культура, а вот цивилизации нет. Из всех рас на земле вы цивилизуетесь в последнюю очередь, ну да что за важность?
– Поляки же напротив, – сказал Ханс преувеличенно вежливо, он улыбался, но глаза его холодно поблескивали, – поляки же, ничего не скажешь, красавцы, если вам по вкусу скуластый, низколобый, татарский тип, и, хотя их вклад в мировую культуру равен нулю, они, если подходить к ним со средневековыми мерками, наверное, могут считаться цивилизованными.
– Спасибо, – сказал Тадеуш и повернулся к Хансу, словно демонстрируя свое отнюдь не скуластое лицо и высокий узкий лоб. – Одна из моих бабок была татарка, и посмотрите, что во мне типичного?
– Не забывайте, что ваш дед был австриец, – сказал Отто, – и я не считаю вас поляком. Для меня вы австриец.
– Бог ты мой, вот уж нет, – решительно сказал Тадеуш и улыбнулся, не разжимая губ. – Нет-нет, лучше я буду татарином. Но, как бы там ни было, я поляк.
Чарльзу не доводилось видеть никаких других поляков, кроме кряжистых, головастых мужчин, которые укладывали шпалы у них на юге, и ему бы в голову не пришло, что это поляки, если б кто-то не просветил его, правда, сам просветитель называл их полячишками. Он не мог разобраться в Тадеуше, но людей типа Ханса и Отто ему доводилось встречать и раньше; таких парней, как Отто, в Техасе было полным-полно, а Ханс напоминал ему Куно. Спор, на его взгляд, зашел в тупик, он вызвал в его памяти школьные стычки между немецкими, мексиканскими и кентуккийскими мальчишками; ирландские мальчишки дрались с кем попало, и Чарльз – а он был наполовину ирландец – вспомнил, что ему приходилось сплошь и рядом участвовать в потасовках, когда они, забыв о первопричине ссоры, тузили друг друга просто из любви к дракам.
– На пароходе, – сказал он, – все немцы говорили мне, что я не типичный американец. Откуда им знать? Я очень даже типичный.
– Вовсе нет, – сказал Тадеуш, на этот раз с неподдельной веселостью. – Мы вас хорошо знаем. Все американцы если не ковбои, так богатеи, и богатеи надираются в бедных странах, обклеивают чемоданы банкнотами в тысячу франков или раскуривают ими сигареты…
– Господи! – только и сказал Чарльз. – Кто распускает эти бредни?
Даже американские туристы пересказывали их с ужасом, правда, отдававшим самодовольством, словно тем самым рассчитывали доказать, что уж они-то на таких туристов не похожи.
– И знаете, в чем причина? – любезно осведомился Тадеуш. – Все американцы, которых мы знаем, просто непристойно богаты. А мы, европейцы, ничего так не жаждем, не алкаем, не вожделеем, как богатства. Не верь мы, что ваша страна богаче всех, мы бы гораздо лучше относились лично к вам.
– Мы напились вдребадан, – сказал Чарльз. – И плевать нам на все.
– Европейцы ненавидят друг друга по самым разным поводам и без повода и вот уже две тысячи лет только и делают, что стараются стереть друг друга с лица земли, так с какой же стати вы, американцы, рассчитываете на нашу любовь? – спросил Тадеуш.
– Мы не рассчитываем, – сказал Чарльз. – Кто это вам сказал? Мы-то, естественно, любим всех без разбора. Мы сентиментальны. Совсем как немцы. Вы хотите, чтобы вас любили ради вас самих, вы живете с сознанием своей правоты, и вам невдомек, почему другие от вас не в таком восторге, как вы сами от себя. Посмотрите, вы же отличные ребята, а вот штука – никому не нравитесь. Экая жалость.
Отто устремил на Чарльза серьезный взгляд из-под нависших бровей, помотал головой и сказал:
– Я думаю, вы, американцы, на самом деле никого не любите. Вы равнодушны, поэтому вам легко быть веселыми и беспечными, и оттого каждый американец кажется рубахой-парнем. На самом же деле вы бессердечные и равнодушные. Невзгоды минуют вас. Невзгоды вас минуют, потому что вы Не умеете их переносить. Но если они вас и не минуют, вам кажется, что они предназначались не вам, а кому-то другому, как пакет, оплошно доставленный не по тому адресу. И это мое глубокое убеждение.
Чарльза его слова задели за живое.
– Я не могу мыслить категориями целых стран, – сказал он, – потому что не знаю ни одной страны, даже своей собственной. Я знаю лишь отдельных людей здесь и там, одних люблю, других нет, но я всегда считал это сугубо личным делом…
Тадеуш сказал:
– Что-то вы чересчур скромничаете, дружище. Заставить себя почитать, а это большое искусство, можно, только возводя свои личные симпатии и антипатии на уровень этических и эстетических принципов и раздувая до вселенских масштабов мельчайшую обиду личного характера. Скажем, вам наступили на ногу – вы не успокоитесь до тех пор, пока не поставите под ружье целую армию и не отомстите обидчику… Но мы-то, на что мы тратим вечер? Эдак я, чего доброго, еще помру со скуки…
– А как насчет наших друзей-французов? – огорошил его вопросом Ханс. – Неужели и у них есть недостатки? Их кухня, вино, моды, манеры. – Он поднес ко рту кружку, выпил пиво уже без прежнего удовольствия и добавил: – Мартышки – вот кто они такие.
– Манеры у них хуже некуда, – сказал Тадеуш. – За пять франков наличными они изрубят тебя в лапшу, причем тупым ножом. Себялюбцы, дальше собственного носа ничего не видят, но до чего же я их люблю. Правда, англичан я все-таки люблю больше. Вот, к примеру, англичане…
– К примеру, итальянцы, – сказал Чарльз, – от первого до последнего…
– После Данте у них не появилось ничего достойного упоминания, – сказал Тадеуш. – От их тяжеловесного Возрождения меня тошнит.
– Решено, – сказал Чарльз, – возьмем, к примеру, пигмеев, исландцев, охотников за головами с острова Борнео…
– Люблю их всех, всех до одного! – воскликнул Тадеуш. – А пуще всего люблю ирландцев. Люблю за то, что они такие же отчаянные патриоты, как поляки.
– Меня воспитывали ирландским патриотом, – сказал Чарльз. – Девичья фамилия моей матери О'Хара, и я должен был носить ее с гордостью – нелегкая задача в школе, где только и слышишь: ирландцы-поганцы, горлопаны, нищеброды, – а вокруг тебя одни пресвитерианцы, кто из Шотландии, кто из Англии.
– Какая дичь, – сказал Тадеуш и заговорил доброжелательно и спокойно, но и не без ехидства метя в Ханса, о величии древних кельтов, превозносил их древнюю культуру, оказавшую влияние на всю Европу. – Да-да, даже немцам она много дала, – сказал он.
Ханс и Отто покачали головами, но и они, похоже, больше не сердились, не супились, не отводили друг от друга глаз. Чарльз был обрадован и польщен: величию Ирландии отдают дань – до сих пор он слышал хвалы ей лишь в узком семейном кругу.
– Мой отец, – обратился он к Тадеушу, – часто говорил мне: «Что сказать тебе об ирландцах, мой мальчик? Период их расцвета быстро миновал, но не забывай, что они создали великую культуру, и, когда англичане еще малевались синей краской, французы уже обменивались С ними учеными».
Тадеуш перевел его слова Хансу и Отто, Ханс разразился смехом, скорчился от боли и схватился за щеку.
– Осторожно! – сказал Тадеуш и, не забыв изобразить клинический интерес, посмотрел на рану: он знал, что Хансу это очень нравится.
Ни в одном учебнике истории, продолжал Чарльз, он не нашел подтверждения этому – надо сказать, что в них жизнь ирландцев до тех пор, пока на них не напали англичане, освещается довольно туманно. А тогда, со всей определенностью сообщали учебники, ирландцы были просто дикарями, невылазно торчавшими в своих болотах. Ему было жаль отца, который черпал утешение в легенде о былом величии Ирландии, хотя все, что он читал на эту тему, никак легенду не подтверждало. Но отец предпочитал думать, что ему попадались не те книги.
– До чего же ирландцы похожи на поляков, – сказал Тадеуш, – они тоже живут былой славой, поэзией, Келлской книгой [9]9
Древняя (8—9 вв.), богато иллюстрированная рукопись Четвероевангелия, найденная в Келлском аббатстве (графство Мит, Ирландия).
[Закрыть] в изукрашенном драгоценными каменьями переплете, великими чашами и коронами древней Ирландии, памятью о победах и поражениях, по масштабам равным разве что битвам богов, надеждой вновь покрыть себя славой, а пока суд да дело, – добавил он, – дерутся крайне часто и весьма неудачно.
Ханс подался вперед и поучительно, точно профессор, читающий лекцию студентам, начал:
– Судьба Ирландии (да и Польши тоже, не забывайте об этом, Тадеуш) может служить примером того, что ждет страну, когда она утрачивает единство и не может дать отпор врагу… ирландцы наконец-то опомнились, теперь они рьяные националисты, а единства среди них нет как нет. На что они рассчитывают? В свое время они могли сплотиться и напасть на врага, а они ждали-ждали и дождались, что он сам напал на них.
Тадеуш напомнил:
– Этот рецепт, Ханс, помогает отнюдь не всегда.
Но Ханс пропустил его колкость мимо ушей. Чарльз, который был не силен в истории, увяз в зыбучих песках общедоступных сведений и не нашел ответа, но его возмутила сама постановка вопроса.
– Не понимаю, с какой стати нападать, если на тебя не напали?
Ханса, юного оракула, его вопрос не застал врасплох:
– Да потому что, стоит тебе отвернуться или временно сложить оружие, на тебя набросятся, и ты будешь наказан прежде всего за свою беспечность, за то, что не потрудился выведать планы врага. Ты побежден, твое дело проиграно, если только ты не соберешься с силами и снова не пойдешь войной на врага.
– Дело кельтов вовсе не проиграно, – сказал Тадеуш. – Их великое множество, они раскиданы по всему свету и поныне; в какой области они ни подвизались бы, они пользуются большим влиянием.
– Влиянием? – переспросил Ханс. – Да что такое влияние – уклончивый, чисто женский, дрянной метод. Нация ли, раса ли – ничто без власти. Надо уметь подчинить себе другие народы, повелевать им, что делать, а главное, чего не делать, надо уметь проводить в жизнь любой свой приказ, как бы ему не противились, и если ты отдаешь распоряжение, пусть даже невыполнимое, тебе должны беспрекословно повиноваться. Это и есть власть, а что есть более важного и ценного в мире, чем власть?
– И тем не менее власть не вечна, я не вижу, в чем ее превосходство, – сказал Тадеуш. – Дальновидная хитрость и умная стратегия нередко куда действеннее. А власти в итоге приходит конец.