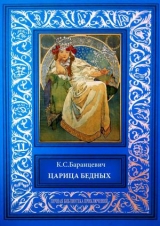
Текст книги "Царица бедных. Рассказы"
Автор книги: Казимир Баранцевич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
– Ну вот и отлично! – говорила Оля, еще слабая, бледная, только что начинавшая ходить по комнате: – у тебя будет Саша, а у меня Соня, – мы разделимся! Я очень рада, что так вышло! По крайней мере ты не будешь совать свой нос куда не следует!
Предполагалось, значить, что исключительно я один должен буду заняться воспитанием Саши, но мне было не до него! Нянька, молоко, колясочка, одеяльца, рубашечки, подушечки, а главное доктор, доктор, почти не покидавший нашу квартиру, производили такое чувствительное опустошение в моем бюджете, что мне нужно было из кожи лезть, чтобы суметь, что называется концы с концами свести.
Через год явился еще ребенок, а через два года еще, и я через каких-нибудь пять лет оказался отцом довольно многочисленного семейства. Олю, мою милую, веселую Олю, с ямками на полных щеках и с ясными, брызжущими весельем глазами, трудно было узнать: она состарилась лет на десять, у ней явились какие-то женские болезни, требовавшие постоянного хождения к специалистам, постоянного лечения и в недалеком будущем грозившие опасною для жизни операцией. Я зарылся в целой груде «дел» в синих обложках, и так как получаемых денег было мало, то я вечно искал и у всех спрашивал посторонних занятий. Посторонний заработок иногда являлся, иногда нет. Когда он был, все в доме, не исключая прислуги и самых маленьких членов семьи – ликовали, – покупалось полотно в большом количестве, шилось всем белье, покупались сапоги, пальто, шляпы, детвора снабжалась игрушками; когда заработка не было, рос долг за квартиру, портному, мяснику, все в доме вешали нос, взаимный отношения становились очень скверными. Я поневоле стал приходить к убеждению, – может быть, и не справедливому, но казавшемуся мне верным, – что прошлое, то недолгое, милое прошлое, которым нам так кратковременно пришлось насладиться с Олей, – умчалось безвозвратно, что мы стали друг другу чужды, что я постольку терпим в семье, поскольку обеспечиваю её потребности, и что меня с большим успехом мог бы заменить фруктовщик Незапоев, так как он богат, а я беден.
И когда горечь жизни уж очень накипала во мне, я не в состоянии был с нею сладить, и в недобрую минуту бросал жене упрек, что им, то есть ей и детям, нужны только деньги и деньги, и что им, кажется, решительно все равно, откуда бы деньги ни шли, хотя бы от купца Незапоева, лишь бы их было много, – жена, тоже в раздражении, с нескрываемым озлоблением восклицала:
– Поздно, голубчик! Очень ему нужна такая кляча, как я, да еще с кучей ребятишек. Было раньше думать!
То есть, конечно, думать о том, чтобы не было столько детей!..
Конечно, и я и Оля отлично знали, что все, что мы друг другу наговорим, все это одни слова, сказанный в минуту обоюдного раздражения, что все это только одни отдаленные, оскорбительные друг для друга предположения, что «от слов ничего не станется», мало ли что муж с женою могут один другому наговорить, но одна возможность такого разговора через десять лет супружеской жизни приводила меня в ужас.
– До чего мы дошли, до чего мы дошли! – с тоскою повторял я себе, хватаясь за голову.
Боже моя, да ведь и я сильно изменился за этот промежуток времени! Я научился ладить с людьми, чего прежде во мне не было, ладить с начальством, даже заискивать, подслуживаться, результатами чего явилось повышение меня по службе. Куда девалась моя нетерпимость к людям, которых я считал дурными! Я с одинаковою крепостью жал руку и хорошему человеку и заведомому подлецу, основываясь главным образом на том житейско-философском соображении, что оба они когда-нибудь могут оказаться для меня полезными.
Я, как Мольер, мог сказать, что беру свое добро, где его нахожу, угашая себя тем, что в 45 лет смешно быть идеалистом и из-за принципов рисковать благополучием семьи. Никаких подлостей я не делал, – как не делают их миллионы подобных мне, и умирают, сохраняя название честных людей только потому, что у них не было ни случая ни возможности сделаться бесчестными, – но у меня это происходило больше от неуменья, апатии и меньше всего от сознания того, что это преступно, – ведь жал же я руки пошлецам и видел, как эти подлецы отлично сходят за порядочных людей.
IV
В таком положении застал меня второй период моей семейной жизни. Люди завидовали кажущемуся благополучию и счастью этой моей жизни. Я слыл примерным семьянином, Оля примерной женой, дети – тоже примерными. Глядя на наш достаток, многие думали, что у меня есть сбережения, тогда как у меня не было ни гроша, и я путем страшных, нечеловеческих усилий только научился жить так, чтобы люди не замечали прорех, чтобы можно было сводить концы с концами.
Но чего это стоило всем нам! Оля, вечно обозленная, больная, ходила как тень, дети, несмотря на свой цветущий возраст, были серьезны и сосредоточенны не но летам. Ведь они все понимали!
Однажды, торопясь на службу, я почувствовал, что задыхаюсь, что мне не хватает воздуха. Я попробовал вздохнуть нарочно сильнее, – сделалось легкое сердцебиение. На службе все прошло, но на другой день удушье повторилось и стало повторяться каждый раз при сильных движениях. Я не обращал на это внимания. Но вот как-то сын Павел принес из гимназии дурные четвертные отметки, я начал его бранить, разволновался, и мне опять не хватило воздуха. Задохнувшись, я должен был сесть и просидеть несколько минут с открытым ртом, чувствуя жуткий страх и страстное, боязливое желание, чтобы припадок скорее миновал. Я тогда же это состояние так и назвал про себя «припадком» и был прав, как оказалось впоследствии.
Сын, должно быть, сообщил обо мне матери, потому что она пришла из другой комнаты.
– Что с тобой? – спросила она, сдвигая брови.
Увы, за последние годы мы иначе не разговаривали, как сдвинув брови, «подобравшись», вооружившись друг против друга.
– Ничего! – ответил я, начиная сердиться и давая внутренне себе обещание ни за что не открывать правды.
– Что же он (то есть сын) прибежал и наболтал глупостей!
– Конечно, глупости! – отвечал я.
– Если чувствуешь себя нездоровым, сходи к доктору, – равнодушным тоном сказала она, смотря в сторону.
Я ничего не отвечал, но тут же решил, что нарочно не пойду к доктору. Этим я как бы хотел мстить семье за невнимание ко мне.
Однако припадок повторился с новой силой и так напугал меня, что я отправился к одному из специалистов.
– Давно у вас эти припадки? – спросил специалист: – гм! Недавно? Однако они имеют довольно угрожающий характер… Грудная жаба выражена довольно сильно и характерно! Надеюсь, впрочем, что при соответствующем лечении и том режиме, какой я вам предпишу, нам удастся в значительной степени ослабить ход болезни.
Я позволил себе робко и самым деликатным образом осведомиться о причине болезни.
– Причины? – переспросил специалист: – гм! Причины могут быть разные. Неправильный образ жизни, спиртные напитки, – вы пьете, конечно, хотя и немного, вероятно, – дурное питание, сидячий образ жизни, подавленное, угнетенное состояние духа…
Он приподнял глаза к потолку, как бы стараясь придумать еще какую-нибудь причину, но для меня достаточно было названных; я встал, и, прощаясь, спросил:
– Могут угрожать жизни эти припадки?
– Несомненно! – с какою-то веселостью в тоне отвечал специалист: – сильные волнения, какого бы характера они ни были, для вас губительны. Поэтому, старайтесь…
– Я знаю! – прервал я: – благодарю вас!
Я ушел от этого специалиста в несколько подавленном, грустном настроении духа. Мне не себя было жаль, то есть жаль, что я вот умру, а другие будут жить; нет, мне жаль было чего-то смутно-хорошего, что, как атмосфера, окружало меня и чего я до сих пор, как атмосферу, не замечал и только теперь смутно почувствовал. Но я еще повторяю, не знал, что это было.
Через день-два, я отправился к другому специалисту. Этот нашёл у меня астму, тоже довольно сильно выраженную, затем слабую деятельность сердца, дурной желудок, дурную печень и предписал мне тот же режим, как и первый. Я сходил еще к одному специалисту и… начал лечиться, сперва потихоньку от жены, потом открыто, когда уже нельзя было скрывать все эти рецепты, склянки и проч. Теперь для меня было ясно, что сколько бы я ни глотал микстур и пилюль, какой бы строгий режим ни соблюдал, – выздороветь я не могу, а могу только «поддерживаться». Замечательно, что ничему этому, то есть болезни моей, угрожавшей жизни, Оля не верила, приписывая все мнительности. Ни она ни дети не могли представить, чтобы я мог когда-нибудь серьезно захворать: так они меня всегда привыкли видеть здоровым и выносливым.
Но думать так я начал потом, вначале меня и удивило, и огорчило кажущееся равнодушие моих домашних. Мне казалось даже, что меня ни жена, ни дети не любят и смотрят на меня просто, как на человека, который дает им средства к существованию. Я рассуждал так: если вся наша с Олей совместная жизнь прошла исключительно в глухой борьбе за существование, то, о чем ином могли мы с ней думать, кроме этой борьбы! Правда, вначале было что-то хорошее, возникала молодая любовь, чем-то хорошим, поэтическим веяло в нашей жизни, но это было недолго… «Миг один, и нет волшебной сказки!», как сказано в одном каком-то стихотворении. Очень скоро кончилась и наша волшебная сказка, и началась суровая повесть о труде и лишениях. Когда человеку почти нечего есть, и он только и делает, что промышляет да промышляет, тут уж не до нежных чувств, не до поэзии. В таких-то «впечатлениях» выросли и наши дети. С самых ранних лет они только и слышали, что бесчисленные отрывки и варианты из бесконечной повести о труде и лишениях. Труд укрепляет, бодрить, освежает человека тогда, когда, во-первых, он любимый, а во-вторых, когда он равномерен; неумеренный, да еще не любимый труд – это орудие наказания, палка, плеть, на которую смотришь с содроганием. И большинство, страшная масса людей, влачит свое безрадостное существование в этом труде.
Я думал, что доброе, чувствительное сердце моей жены очерствело от этого труда, огрубело от лишений; я думал, что дети уже родились с огрубелыми сердцами, как дети нищеты и несчастья, и порою мне становилось до того страшно, что я нарочно уходил в гости, даже просто на улицу, чтобы не оставаться наедине с самим собою. И какая-то непреодолимая, злобная сила влекла меня, помимо моей воли, открывать новые и новые черты огрубелости сердца в моей жене и моих детях.
«Смотри, – с злорадством говорил я самому себе: – как весела, как довольна сегодня Оля! Это потому, что ты купил ей шубку! Смотри, как услужлив, как непривычно нежен Павел! Это за новый мундир, что ты заказал ему к празднику; а Соня? Отчего она прибрала твой письменный стол и вышила бисерную заложку для книг, это за то, что ты дал ей денег на платье. Как они все милы, услужливы и даже нежны сегодня, и как они все это забудут завтра и будут по-прежнему дерзки, непочтительны, а в лучшем случае будут молчать по целым суткам!»
К несчастью мои предположения всегда оправдывались, и я пришел к тяжелому убеждению, что доброе расположение ко мне моей жены и детей нужно… покупать. Да, их нужно было покупать, но для этого необходимы были деньги… А так как деньги мне могла дать только служба, то я принялся служить в полном смысле слова основательно и через каких-нибудь два года сделался первым службистом у нас в департаменте. При этом я делал все возможное, чтобы быть замеченным, чтобы моя служба не пропадала даром. Я помнил свой прежняя рассуждения о «винтике» и знал, что в качестве такового я почти бесполезен, но я всеми силами старался, чтобы на «винтик» было обращено должное внимание, чтобы его. отметили и поощрили.
Старания мои не пропали даром: я был отмечен, отличен перед другими, поощрён. В два года я прошел две стадии чиновничьих повышений и очутился «у пристани», так как дальше начальника отделения с окладом в пять тысяч в год я пойти не мог.
Мое назначение, а главное известие о том, что я буду получать пять тысяч в год, всей семьей было встречено чуть ли не с восторгом. Мои акции сразу поднялись. Даже Оля, я заметил, начала смотреть на меня с оттенком уважения. Всем было весело, все ожили, строили планы о переселении на новую квартиру, о том, как украсить эту новую квартиру и проч., и проч., одному мне было не весело: я все более и более убеждался в необходимости покупки их доброго ко мне расположения. Но ужаснее всего в этом проклятом убеждении было то, что я не чувствовал себя в праве возмущаться таким порядком вещей. Боже мой, во что превратилось мое семейное счастье! То прекрасное, о чем я мечтал, как о каком-то блаженстве, сделалось источником моих душевных тревог и терзаний, и виною всему был я, один только я! Ведь это я своей борьбой с лишениями, своими ежечасными заботами, охами да вздохами положил начало очерствению сердец моих близких. Дети с самого рождения только и слышали грустную песню о недохватках да недостатках; что же мудреного, что они рано приучились ценить всякое благосостояние, приучились уважать рубль и служить ему.
Не возмущаться следовало поведением семьи, а скорбеть, глубоко скорбеть и глубоко жалеть этих несчастных, у которых не было даже того немногого, что было у меня в моей юности – чувства воли, поэзии, чувства независимости от рубля!..
V
И я скорбел и жалел их! Более всего мне было жаль самого маленького, Сережу, у которого покуда бессознательно, но уже появлялись признаки понимания, что значит деньги, и даже любовь к ним. Он уже выпрашивал то у меня, то у матери копеечки не с тем, чтобы купить гостинца, а прямо с целью спрятать, сберечь… Зараза пустила глубокие корни и сделалась, очевидно, наследственной.
Как мог, я старался отучить ребенка от этого; я придумал даже целую педагогическую систему, но вся моя «педагогия» разлеталась в прах перед той страстью к накоплению, которая царила в доме. Кроме Оли, копили буквально все. У всех были какие-то деньги, мелкие, конечно, ничтожные, которыми то один, то другой из моих детей бренчали в кармане, ссужали брата или сестру иди сурово взыскивали долг. Хорошие практики готовились из них в будущем!
И тем не менее я их любил, незаметно для самого себя, но глубоко, беспредельно любил!
Это обнаружилось незадолго перед катастрофой. Однажды вечером я вернулся раньше, чем меня ждали. Они уже отпили чай и сидели в гостиной. Оля что-то шила, Соня читала ей, но слушали все, даже Серёжа, положив локти на стол, голову на руки и внимательно хмуря брови. Вечер был холодный, я озяб, мне нездоровилось, но уже в передней на меня повеяло таким теплом, такой милой уютностью милого, своего гнезда, что я как-то растаял, размяк, умилился. Я вошел бодро и весело, и это всем тотчас же бросилось в глаза, потому что, я заметил, все как-то ожили, повеселели. Я сказал несколько шутливых слов Оле, взяв Сережу на руки, проедал с ним так называвшуюся у нас «гимнастику», что он очень любил, и чтобы не смущать их всех долее неправильностью своего поведения – ушел в кабинет, но не запер за собою двери.
Сидя за столом и машинально роясь в бумагах, я наблюдал в полуоткрытую дверь и видел, как оживление, вызванное мною у них, все росло, все увеличивалось, как они все вдруг дружно и мило заговорили, и как это им всем нравилось и как это было хорошо.
Но лучше всех было мне! Точно какая ледяная кора постепенно спадала с моего сердца; оно оживало, смягчалось, становилось чувствительнее и добрее. То, что в тяжелой, жизненной борьбе было загнано, – как ненужное, мешавшее, – куда-то в дальний уголок и забыто, – вдруг воскресло и настойчиво, властно заговорило во мне. Какого же счастья я искал, когда оно было тут, у меня под боком, когда я его наблюдал через дверь моего кабинета? Видеть их, взращенных мною всех вместе, веселыми, здоровыми, смеющимися– да что же может быть лучше и выше этого?
Мой дом, моя семья – это корабль, выдержавший не одну страшную бурю, миновавший не одну подводную скалу и благополучно, тихо подходящий к пристани. Были темные, осенние ночи, лил дождь, ветер ревел в оснастке корабля и гнул мачты, страшные волны носили его, беспомощного, на своих хребтах, угрожая каждую минуту разломить его пополам, – молчаливый, сумрачный кормчий застыл у руля, вперив во тьму суровые, внимательные очи, и никто, ни один человек на корабле не смел возвысить своего голоса, не смел заявить о своем существовании, потому что и оно и все было во власти этого одинокого кормчего. И все молчало и молча боролось с непогодью.
Но вот миновали бури, утихли волны, солнышко выглянуло из-за разорванных облаков с голубого неба, пригрело, осушило борцов, и вот как они все повеселели, с каким тихим, важным вниманием слушает Оля рассказ, потому что у ней есть теперь желание послушать, и Соня с увлечением читает его, и Павел не зубрить своих классиков! А вот они оставили чтение, разговаривают, смеются, перебивают друг друга; Соня горячится и со своим характерным жестом, – рукою, прижатою к груди, – убеждает в чем-то мать…
Да, это счастье! Видеть их всех, вот так, вместе, в таком редком единодушии, в таком любовном единении – это большое счастье! А видеть своих детей взрослыми, возмужавшими, делающими в жизни свое дело, может быть, довершающими то, что начато было тобою, видеть в них отражение твоих взглядов, твоих желаний, твои характерные черты, слышать повторение твоих характерных слов и жестов – разве это не высшая степень счастья? И вдруг ты можешь ничего этого не увидеть!
Я содрогнулся, сказавши сам себе эти слова… Мне казалось, что их сказал кто-то другой, так они были беспощадно жестоки. Ничего не увидеть! Да кто же может мне этого не позволить.
Смерть! Да, конечно, она! Это страшное ничто, что крадется как «тать в нощи», что незаметно подходит и стоит сзади нас с поднятою секирой, когда мы легкомысленны, беспечны, веселы, когда мы не знаем ничего, что будет сейчас вот, через минуту… Скольких людей поражала она за торжественным обедом, веселой пирушкой, в дороге, в вагоне, на извозчике, за начатым трудом, не давая дописать строки…
Вот и к тебе, – думал я, она также подойдет потихоньку сзади и обхватит тебя своими цепкими, тяжелыми руками и надавить твою грудь и исторгнет из неё твой последний вздох. И сделает она это тогда, когда ты будешь себя считать счастливее, чем когда-либо в жизни, непременно тогда, чтобы тебе тяжелее было расставаться с этим миром.
И мне тут же пришло в голову наблюдение, вынесенное мною из опыта, жизни. Сколько я ни знал людей, моих знакомых и так просто, известных мне, умерших на моей памяти – смерть всегда являлась к ним в период их наивысшего благополучия. Человек всю жизнь добивался порядочного места, добился, жить бы да жить, – глядишь – умер; другой треть служебную лямку в надежде получить пенсию и отдохнуть – не дослуживает каких-нибудь дней, – умирает; третьему не везло всю жизнь и бедствовал он, и голодал, и холодал, почему-то судьба неожиданно поворачивается к нему лицом, ему начинает везти, всякие удачи, как из рога изобилия, так и сыплются на него, и вдруг почему-то смерть!
Так вот оно где, мое счастье! И каждый час, каждую минуту я могу его лишиться!
Эта мысль наводила на меня леденящий душу ужас. Я не мог пошевелиться, не мог сказать слова, я как бы прирос к своему креслу, сидел недвижим и все смотрел в пространство полуоткрытой двери.
И вдруг сердце мое сильно забилось, потом замерло, как бы перестало биться, потом опять, еще сильнее, затем словно какая невидимая, сильная рука схватила меня за горло и начала душить… В страхе я цеплялся за край стола, за бумаги, бывшие на нем, уронил подсвечник, за ним на пол посыпались бумаги… Я ничего не видел, не сознавал, кроме ужасного страха смерти, с которой, как мне казалось, я теперь боролся.
Соня первая прибежала на шум и приложила мне к носу склянку с лекарством. Через несколько секунд мне стало легче, а затем я совершенно оправился. Мой припадок, видимо, напугал жену и детей, – они смотрели на меня широко раскрытыми, недоумевающими глазами, в особенности Сережа. А у меня было одно сознание, что случись со мною еще один такой припадок, и я могу навсегда лишиться моих ближних, ставших мне теперь такими дорогими; и ужаснее всего было в этом сознании то, что припадки эти нельзя было ни предусмотреть, ни предотвратить: они неизбежно должны были случаться со мною, и каждый из них мог быть для меня смертельным. В этом состояла моя болезнь. Только безусловное спокойствие могло если не совершенно уничтожить припадки, то хоть ослабить их, смягчить; но на такое спокойствие, если бы даже оно и было мне предоставлено, я уже не был способен. Вся жизнь моя прошла в волнениях, в заботах, в борьбе с иссушающими мелочами, также она, конечно, и должна была окончиться. Неудачи, несчастья, разные мелкие житейские беды не могли меня убить, но они надломили мое здоровье, и теперь даже радость, даже приятное волнение могли стоить жизни.
Теперь каждый вечер я ложился спать с мыслью, что не проснусь на утро. Какой-то непонятный ложный стыд не позволял мне перед отходом ко сну прощаться со всеми моими, но этих всех я мысленно соединил в лице самого маленького, – Сережи, и каждый раз приходил к его кроватке прощаться. Иногда он не спал, протягивал мне ручонку, я целовал его в лоб и уходил. Иногда я заставал его уже спящим. Тогда я останавливался перед его кроваткой, долго смотрел на него и думал: «увижу ли я тебя завтра, милый, дорогой сын мой? Ты проснешься в обычное время, захочешь меня видеть, но я не проснусь, я буду лежать недвижимый, холодный, безучастный, и ничто, ничто не разбудит меня от вечного сна!»
Случалось, ночью, томимый бессонницей и предчувствием припадка, я тихонько, на цыпочках приходил в комнаты Павла и Сони и также, в таких же тяжелых размышлениях останавливался перед их кроватями.
«Я не увижу, не увижу вас! – твердил я мысленно: – вы будете расти, мужать, идти по намеченной вами дороге, а меня не будет, и некому будет ни помочь вам, ни направить вас иногда! И рубль заест вас бедных».
О своем ужасном состоянии я говорил лечившему меня доктору. Он делал сосредоточенное лицо, покачивал головой и, признавая мое настроение одним из явлений болезненного состояния, говорил, что нужно надеяться на укрепляющие лекарства.
VI
Я ехал на извозчике. Я ужасно торопился домой. С утра я ощущал странное беспокойство, которое к полудню выразилось в том, что мне, как можно скорее, захотелось быть дома. Я оставил на службе неподписанные бумаги, в неясных, спутанных выражениях пытался что-то объяснить столоначальнику, Ивану Семеновичу, но, конечно, ничего не объяснил, и, как мальчишка, вырвавшийся из школы, бежал из департамента.
Мне казалось, что извозчик едет очень медленно, и я понукал его. Проезжая мимо часового магазина, я взглянул на выставленный в окно циферблат больших часов: было четверть двенадцатого. На минуту у меня явилось сознание, что то, что я делаю теперь – странно, даже глупо.
Зачем я еду домой? Дети – все в гимназии. Оля или хлопочет на кухне, готовя им завтрак, или сидит с какой-нибудь забежавшей «на минутку» знакомой и беседует о делах житейских. Сережа на прогулке с нянькой… Что мне, зачем я еду домой? Там все в порядке, все благополучно. Я не мог ответить на вопрос. Было что-то странное, властное, исходящее не из меня, повелевавшее мне ехать и даже торопиться, и я бормотал про себя:
«Это так… нужно быть дома… непременно нужно быть дома… дома лучше»…
Дома, дома, дома!.. Все помыслы, все желания, все мои нравственные и физические силы были сосредоточены на одном, и были моменты, когда я начинал думать, что схожу с ума.
И вот, в один из таких моментов, когда я терял нить соображения и не понимал, что делается со мною, я не увидел, нет, я почувствовал, что на таком же извозчике, как мой, меня догоняет он. Да, он меня догонял! По торцу мостовой слышался ровно и тяжко отбиваемый такт лошадиных подков; этот звук то приближался, когда замедливался ход моей лошади, то отдалялся, когда лошадь прибавляла рыси, но близко ли, далеко ли, а я его слышал.
Я весь трепетал, я боялся оглянуться, но я отлично знал, каков у него вид. Он был огромный, тяжелый, весь черный, весь мрачный. Ах, какой он был мрачный!
Торопился я, а не он. Ему не нужно было ни торопиться, ни настигать. Ему все равно суждено было меня настигнуть, суждено было меня схватить, – я это знал отлично, и мне захотелось только, чтобы это произошло не на улице, а дома.
Там, дома, я мог в последний раз взглянуть на стены моей квартиры, моей комнаты, на дорогие мне лица, ну если и не на все, то хоть на одно, на лицо моей дорогой, верной подруги Оли и, глядя на это лицо – проститься и с тем заодно, кого тут не было. Там были мои книги, мой стол, вещи, к которым привыкло мое зрение и на которых отдыхало оно, и если бы катастрофа застигла меня там, то я чувствовал бы себя удовлетворенным тем, что кончил на своем посту, в обстановке, созданной мною, в свитом мною и так заботливо, с такою душевной тревогой, оберегаемом мною гнезде.
– Извозчик! – крикнул я, – поезжай же скорей, ради Бога!
Звук моего голоса, должно быть, удивил парня. Он обернулся, большими глазами взглянул на меня и как-то испуганно-торопливо задергал вожжами.
Но было поздно. Он поравнялся со мною, – наши пролетки некоторое время ехали рядом, колесо в колесо, – нагнулся, затем что-то тяжелое, темное навалилось на меня, схватило за горло, и в две секунды было все кончено: припадок задушил меня.
Мое тело откинулось на спинку пролетки. Кто-то из прохожих заметил неестественное положение седока, крикнул извозчику. Тот остановил лошадь. Собралась публика, подошёл городовой.
Безжизненная материя, за минуту перед тем олицетворявшая человека с его думами, с его страхом, с его надеждами на будущее, со всей кипучей работой духа, мозга и нервов, – представляла теперь одну тяжелую обузу для всех, – даже для близких.
А этой материи было решительно все равно как бы с нею ни поступили. Покуда она была жива, называлась человеком, носила мое имя, она страдала от забот, от мелочей жизни, вся износилась, истрепалась, живого места не оставалось в ней, но она боялась смерти, – этого естественного перехода к другой форме существования – и от страха смерти – перестала жить.
Да я смело мог бы сказать всем, лечившим меня врачам, моей жене, детям, всем, всем, что я умер оттого, что боялся умереть…
Теперь я знаю, как напрасен был мой, страх. Но разве это не общая участь людей познавать истинную природу факта после того, как он уже совершился?








