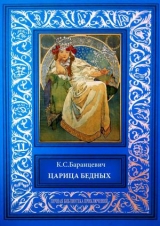
Текст книги "Царица бедных. Рассказы"
Автор книги: Казимир Баранцевич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
Следы
Медленно тянулась похоронная процессия, осыпавшаяся частым снегом. Снег пластами лежал на верхушке траурного балдахина, залепил помещенных по углам четырех ангелов, и косматые, черные бороды факельщиков сделал седыми. Стоявшие по пути запорошенные снегом городовые равнодушно делали процессии под козырек и плотнее надвигали на лица каучуковые капюшоны.
Провожатых было немного. Сряду за колесницей шла дочь покойной рядом со старушкой-родственницей; немного позади – несколько человек родных, и между ними он, чужой им человек.
Да, он был всем им чужой в том числе и покойнице, – за исключением её дочери. Ей он не был чужой, ей он был близок, но это было тайной для всех, и никто, никто об этом не знал и не должен был знать!.. Около него шла женщина, которая была его женой, но которую он не считал теперь ни женою своею, ни близким человеком, потому что он её не любил, а любил ту, другую…
И он никому не мог этого открыть, никому не мог сказать ни одного слова. Условные приличия общества связали его и ее, и оба были беспомощны; оба были тут, друг подле друга, и не могли перекинуться словом. Следовало быть осторожными… Люди уже догадывались и следили за ними.
Целую неделю они не виделись, и ему казалось, что прошло ужасно много времени, что она, может быть, стала его забывать.
Но нет, он тотчас отбросил эту мысль: не могло, не могло этого быть… Он смотрел, через головы других, на её милую для него головку в черной шляпке с длинным крепом и думал, что вот, сейчас, если бы это нужно было, он отдал бы свою жизнь за эту головку, за милую улыбку её, за одно ласковое слово.
А рука нелюбимой женщины тяжело и неловко опиралась на его руку. Ужасной казалась ему эта картина! Медленно движущаяся колесница, гроб, венки, люди в черном равнодушные к чужому горю, злые на дурную погоду, и этот снег, снег! О, если бы можно было подойти к ней, одним движением выделить ее из кучки этих людей и увезти, умчать туда, где нет ни горя, ни слез, ни мрака, ни снега, а всё живет, цветет, всё счастливо и смеется! Туда, где лунные ночи благоухают померанцем, теплое море лениво плещет волною, и темные кипарисы на страже стоят у влюбленных!
Качаясь, тихо двигалась колесница, и медленно шли за нею люди. Он смотрел на креп её шляпки и вспоминал, сколько тоскливых, безрадостных дней и бессонных ночей провел он, не видя её. Но вот судьба столкнула их так близко, так близко друг к другу, так много ему нужно сказать ей, так крепко пожать её руку, взглянуть в её чудные очи, – и ничего нельзя!
За ними следят – и те, кому нужно как будто, и те, кому это вовсе не нужно, а только потому, что они злы. Все люди злы, злы без причины! И это ужасно!.. Даже этот неизвестный ему господин в цилиндре, которого он никогда не видел у них и который пришел по газетной публикации, вспомнив, что когда-то был с ними знаком, – и тот смотрит на него, как бы говоря: «посмотрим, каковы-то будут твои поступки!»
А эти безличные старушки, такие добрые, так сильно сочувствующие чужому горю, беспрестанно проливающие слезы, – разве они не смотрят на него злыми глазами из-под своих черных капоров, делающих их похожими на ворон?
А жена? О, та предчувствует сильнее всех! Как она крепко оперлась на его руку и кольцом сцепила обе свои руки как близко придвинула свое плечо к его плечу! Как будто боится, что он сейчас вот уйдет от неё. Он слышит её тяжелое, прерывистое дыхание… Нет, это не то, не то! Та дышит легко и свободно, прикосновение её руки, её походка, – всё, всё полно для него глубокого значения, полно смысла, счастья, жизни!..
Вот её след на снегу, её маленький, узенький след! радуясь, что он увидел его сохранившимся, не затоптанным чужими ногами, он вступил в него, и ему показалось, что между ним и ею вдруг возникла таинственная цепь сообщения, что всё то, что в данную минуту наполняло её существо, должно передаться ему, и что первое, что она должна была узнать, это – то, что он ступает в её следы.
«И если она обернется, – сказал он себе, – то это будет означать, что она знает!»
Ему вспомнилось старинное поверье, что, ступая в следы человека, можно узнать его мысли и чувства.
Она обернулась, она увидела его.
– Я здесь, я здесь! – хотел он ей крикнуть, но кричала только его душа, – я здесь, подле тебя, следую за каждым твоим шагом, я стараюсь попасть в твой след, потому что и это для меня уже счастье! Да, это для меня счастье! Я вижу, я ощущаю тебя, я… почти разговариваю с тобою! Что говорить мне твой след? Ведь это тот самый след, который отпечатлелся в то осеннее утро, в парке, на дорожке когда я тебя ждал. Ты помнишь это утро, конечно; о, конечно, ты помнишь его! Ты помнишь мои безумные речи, мои слезы, мольбы… и то, что ты отвечала мне? Ведь там, в этой аллее под хмурым покровом осеннего неба, под капли дождя, между нами был заключен союз – на жизнь и на смерть! Ты не забыла его? Да, конечно! Вот сейчас ты отвечаешь мне! Скучно этой маленькой ножке идти по снегу, далеко, до устали идти? Но она знает, что настанет пора, и любящая рука охватит эту ножку, согреет ее, приголубить… Настанет, настанет пора!.. Не крадучись от людей будем следовать мы один за другим, а смело, свободно, никого не боясь, не остерегаясь, рука об руку пойдем по новой дороге к свободе и счастью!..
Качаясь, тихо подвигалась колесница… Снег всё шел и шел. И люди шли. И по мере того, как подвигался вперед человек с героическими мыслями, эти мысли его изменялись, и то, что казалось ему раньше высоким, тускнело и принимало такой скучный, обыденный вид!..
И на мокром снегу одни следы залеживались другими; их пересекали полосы от колес извозчичьих дрожек; они таяли, превращались в грязь и уничтожались.
Цветок
Пришла весна. Снег растаял на могиле ребенка, солнцем пригрело ее, и на пригреве показалась молодая травка, зеленая красивая. А между нею, неизвестно как и когда, вырос цветочек, совсем скромный полевой цветочек с желтенькими лепестками. Прямо и стойко, не боясь ветра, стоял он на своем стройном, тонком стебельке и, в полном сознании счастья бытия, смотрел вокруг. Тут было много цветов – и таких, как он, и лучше, красивее. Но великий мир для всех одинаково был широко раскрыт. Для всех всходило солнце и осушало ночную росу, для всех был благодатный дождь, и тихая, теплая ночь сходила на землю.
С восторженным удивлением смотрел цветок вокруг, смотрел и припоминал что-то смутное и тяжелое, что было с ним когда-то… Ведь он вырос из сердца ребенка, что зарыт в этой могиле!.. Да, да, он его сердце!..
Как он страдал и бился в прежней своей оболочке! Какой это был ужас! Ребенок бегал, резвился, потом заболел; его свезли в больницу. Он страдал, видя вокруг чужие лица, он день и ночь плакал, просился домой, потом в страшном жару, потеряв сознание, он бредил, метался в своей кроватке, просовывая ручонки между шнурами решетки, он звал маму, и когда всё было кончено, когда чуть-чуть билось сердце, он всё продолжал звать маму… И там, где он лежал, были каменные белые стены, высокие потолки, чуждые лица, – там всё было так чуждо и страшно…
Да, это было когда-то! Кажется, что это было давно, очень давно!.. Теперь он не помнить, не знает мамы; в той новой оболочке, в которую он заключен, ему чуждо и непонятно прошлое. Да, что-то как будто было; но, может быть, это был сон, тяжелый сон – не более?
И, может быть, вся наша жизнь со всею обыденной пошлостью, со всеми стремлениями, удачами и неудачами, есть один тяжелый сон? И любовь, и вражда, и даже самое счастье наше земное, – всё это, может быть, один сон?
Лен
Ночь уходила, уводя с собою свои темные призраки. Рассвет догонял ее, как бы желая хоть раз взглянуть в её загадочное, вечно закрытое лицо и не догнал: ночь ушла в глубину дремучего, векового леса и спряталась под корни поверженного бурей дерева.
И когда ушла ночь все встрепенулось, все ожило к новой жизни. Навстречу поднимавшимся с моря лучам солнца вспорхнули из своих гнезд птицы и, взмывая к тихому, безоблачному небу, запели утренние молитвы. И темная, сумрачная ель стала на свою суровую молитву и, трепеща зубчатыми листьями, в вечном паническом страхе, молилась молодая осинка, молился скромный лесной ландыш, распространяя вокруг целомудренное благоухание.
Все, все молилось в природе, даже большие, серые камни, молчаливо сидевшие по сторонам изрезанной колеями трудовой дороги. А солнце, в своем дивном, золотом уборе, поднималось все выше и выше, горячей ласкою осушая бриллиантовые капли росы, – эти слезы греховной земли, – и когда, наконец, поднялось на локоть от сверкавшей, подобно серебру, гладкой поверхности моря, то брызнуло искрами света на широкую полосу льна.
Волшебный был этот лен! Головки его были кудрявые, белокурые головки детей; – его голубые цветочки – их веселые, наивные глазки, его стебли – их слабые, тонкие тельца. Сплошною стеною стоял этот чудный, живой лен и десятки миллионов маленьких детских уст в один тихий голос, шептали утреннюю молитву Творцу.
Узкая дорожка со взгорья вилась между льном. Тихий ветерок пронесся по этой дорожке и шепнул что– то льну, отчего все головки затрепетали и склонились.
– Идет, идет! пробежал шопот по всей полосе.
– Идет! сказала красивая, голубая бабочка и, трепеща крылышками, полетела навстречу.
– Идет! прожужжал пролетавший мимо жук.
Лежавшая на тропинке, недвижно, гадюка подняла голову, помотала ею по сторонам и уползла в канаву, под куст.
Идет, идет! зачирикали птицы и все голоса природы слились в один торжественный, славословящий хор…
Он показался на взгорье, как тень, как легкий, светлый призрак. В бедном, волочившемся краем по земле, хитоне, босой, с открытою головою, Он тихо, задумчиво, спускался с пригорка. Светлые глаза Его смотрели на далекое море и лучи солнца клали яркие облики на Его исхудалое лицо…
Вот Он остановился среди льна и кроткая улыбка озарила Его лик. Детские головки, в умилении и страхе, трепетно склонились перед Ним.
Настала глубокая тишина. Вся природа замерла в ожидании. Даже ветер притаил дыхание.
Он поднял руку и благословил по обе стороны все это большое поле льна. И когда Он благословил, детские головки поднялись и неземною радостью повеяло отовсюду.
«Живите, растите и учитесь заветам Моим! Все вы братья одной земли, любите друг друга, как Я вас всех возлюбил!» И он пошел дальше, на скитанья, страданья, на крестную смерть!..
Месса покойников
Церковные часы швейцарской деревушки Фицнау, расположенной на берегу озера Четырёх кантонов, начали бить полночь. Эти удары были размеренны, хриплы и наводили тоску на всех обитателей не одной этой деревушки, но и двух соседних. Впрочем слышали двенадцать ночных ударов только те, кто страдал бессонницей, а таких, можем быть, на весь горный округ было два, три человека, – остальные все крепко спали. Не спали сторожа, но эти люди уже привыкли к звукам издававшимся старыми, заржавевшими часами, и считали только количество ударов, чтобы дойти до края деревни и ударить, в свою очередь, несколько раз в чугунную доску.
Так поступил и сторож Фицнау, – старый Фридолин. У него было обыкновение отсчитывать на доске такое же количество ударов, сколько сделали часы. Ударив в последний двенадцатый раз палкой по доске, Фридолин натянул край шарфа на свой объемистый лоб, облокотился на плетень и вспомнил, что сегодня день поминовения всех умерших.
Он перекрестился и пробормотал, одно за другим, имена своих отца, матери, двух братьев, сестры, жены и четверых, умерших младенчестве, детей.
И задремал, повернувшись спиною к церкви и не видя того, что происходило в ней.
При последнем ударе часов, вся церковь осветилась каким-то слабым фосфорическим светом, а из окружавшего церковь небольшого кладбища к раскрытым настежь церковным дверям потянулись ряды болотных огоньков, освещавших фигуры медленно направлявшихся в церковь покойников. Впереди, предводительствуемые давным-давно умершим школьным учителем Киприаном Шрупп, в чинном порядке, по два в ряд, шли дети в тех белых одеждах, в которых они были похоронены. За ними подвигались их матери и отцы, без различия положений, богатые и бедные вместе, а шествие замыкал горбун Ионас, у которого, кроме того, одна нога была короче другой, и он, при жизни, никогда не мог поспевать за другими.
И когда они вошли в церковь, тяжелая дубовая дверь, без шума, сама собою затворилась за ними. Церковь была переполнена покойниками. Они сидели на скамьях с раскрытыми старыми молитвенниками, на которых углы страниц изветшали так, что уже нельзя было различить буквы, они молились перед решеткой алтаря и в главном, и в боковых проходах и даже у двери, где стояла каменная урна с освященной водой и куда, при входе, каждый опускал высохшую кисть правой руки и крестным знамением осенял свой череп, грудную доску и ключицы.
Из сакристии вышел покойник – священник с мальчиком, в белой кружевной накидке и, поднявшись на верхнюю ступеньку алтаря, тихо, но так, что всем... <В оригинале отсутствует часть текста. – Прим. авт. fb2>
Там, далеко пред алтарем, в синеватой: дымке ладана, чуть вырисовывался сгорбленный силуэт старичка – священника и в тишине перерывов, когда не играл орган, слышался металлический звон цепочки от кадила. Обернувшись лицом к своей пастве, священник поднял над головой чашу, мальчик прислужник зазвонил, и все находившиеся в церкви опустились на колени. Церковь казалось пустою, освещённую фосфорическим светом странных огоньков, бросавших свое бледное отражение на коллекции висевших по стенам амулетов в виде рук, ног, сердца и даже маленьких человеческих изображений.
Священник удалился. Звуки органа затихли и пение прекратилось.
Месса кончилась. В том же порядке, как вошли, покойники начали выходить из церкви; дети с их учителем впереди, – взрослые сзади, а позади всех хромоногий горбун Ионас. Процессия вышла в ограду кладбища и вся до последнего человека, которым был Ионас, – исчезла в густой пелене тумана.
И в церкви все вдруг погасло и там воцарился мрак.
Поцелуй
Он смотрел, притаившись за последнего солдата и видел, как стража взяла и повела Учителя. Его запекшиеся от лихорадки и страха губы еще ощущали прикосновение уст того, и в ушах раздавались пророческие слова: «Целованием ли предаешь меня?»
Он стал смотреть в след удалявшейся, освещенной красным пламенем факелов, вооруженной толпе, и когда последний человек исчез за поворотом и смолк невнятный гул голосов, – тяжелый вздох вырвался из его груди.
Осторожно, крадучись, пошел он сзади; ему страшно было оставаться одному и в тоже время он боялся всякого человеческого лица, боялся глаз, которые без слов могли ему сказать:
– Ты предатель!
Нечаянным движением он коснулся пояса и там зазвенели деньги. Он вспомнил о них и лихорадочный озноб потряс его тело… О, как тяжелы были эти деньги, как они тянули его, неумолимо тянули вниз, к земле!
Он шел спотыкаясь на камнях, шатаясь, не зная куда и И, зачем он идет, изнемогая от усталости, томимый жаждой. И он боялся присесть, боялся остаться один на один с своими ужасными мыслями…
А те, поворот за поворотом, все уходили дальше и дальше, и по долетавшему до него шуму голосов, он догадывался как постепенно должна была увеличиваться толпа сопровождавших Учителя…
Узкой тропинкой, возвышавшейся над темной пропастью, он дошел до городской стены, прислонился к ней спиною и откинул горячую голову к холодному камню. Минутное облегчение! Придерживаясь обеими руками за камни, он закрыл веки.
Было-ли то в действительности, или то был ужасный сон? Развеятся темные призраки ночи, настанет утро, благодатное, долгожданное утро… А зачем пояс так тяжел и тянет его к низу, туда, в пропасть? В нем деньги, в нем те, проклятые деньги! Да, то было, то было!
С подавленным стоном он раскрыл глаза и воззрился в темную бездну. Облака бежали по небу, из-за них выступала ярким диском луна и лучами своими скользила по туманным волнам пропасти.
Он долго, пристально, смотрел в хаотическую игру этих волн, и вдруг губы его раскрылись как бы готовясь испустить крик ужаса и широко раскрытые глаза в паническом страхе остановились на одной точке.
Там в глубине пропасти, в белой, клубящейся мути тумана он видит ясно… да, да, он видит Его кроткий лик, и рядом свое лицо все приближающееся, приближающееся и запечатлевающее, наконец, поцелуй предателя! А дальше, там на горизонте, куда скрывающаяся луна на минуту бросила косой и бледный луч, там холм и на холме черные силуэты трех крестов!
Пораженный безысходным отчаянием, в смертельной тоске, он обеими руками схватился за грудь своей богатой одежды и порывисто начал рвать ее на куски…
Два духа
(Новелла)
I
В одну из темных ночей, две звезды – светлая и красная, с высоты безвоздушного пространства, упали на землю. Немногие из обитателей земли видели эти упавшие звезды, – большинство спало, некоторые заняты были своими житейскими делами и развлечениями, а мнения тех немногих, которые заметили упавшие звезды, были совершенно противоположны друг другу. Одни, сидевшие в высоких башнях и наблюдавшие небо при посредстве разных труб и инструментов, были убеждены, что видели два метеора, другие, не имевшие даже понятия о том, как, посредством чего, и зачем наблюдают небо и что такое метеоры, считали падение двух звезд, и в особенности красной – знамением.
И те и другие ошибались. Две, слетевшие на землю звезды были два духа: светлая – добрый и красная – злой.
С далеких времен, когда земля вы шла из состояния хаоса, остыла, на ней появились растения, животные и люди, эти два духа, в стремительном полете, словно стараясь опередить друг друга, спускались на нее и, коснувшись поверхности, принимали человеческий облик. Иногда добрый дух опережал злого и там, где он проходил, деятельно рассеивая добрые чувства и начинания – люди становились лучше, справедливее, честнее. Но чаще опережал злой дух, отличавшийся лукавым проворством и отвагою и, коснувшись земли, посевал смуту, вражду и преступления. Даже там, где он видел, что добрый дух прошел раньше его, он дерзостно решался портить, и соблазнами и хитрыми прельщениями совращал и губил людей. Тогда возвращался добрый дух и снова принимался за свою трудную работу.
Эта страшная борьба началась с тех пор, как появился на земле первый человек и кончится тогда, когда с лица её исчезнет последний. В вечной, неустанной борьбе этих двух элементов войны затевались и массовые избиения людей, проливались реки крови, опустошались целые страны, голод и повальные болезни довершали остальное, и человечество гибло десятками, сотнями тысяч.
II
По узкой, горной тропинке пробирался одинокий путник. Он был молод и строен. Кудри темных волос волною ниспадали на его плечи. Большие, лучистые глаза смотрели задумчиво-грустно. На нем была простая, крестьянская одежда из грубой ткани и котомка за плечами: босые ноги не боялись ни терний, ни острых камней, в изобилии покрывавших горные тропинки. И там, где он проходил, всё оживлялось всё радовалось жизни: солнце светило ярче, ручьи звучали звонче, истомленные дневным зноем цветы поднимали поникшие венчики и благоухали, птицы соединяли свои голоса в торжественный хор.
Путник дошел до скрещения двух тропинок и присел на поросший мхом камень. По другой тропинке, подобно серой змее спускавшейся с кручи, ехал, приближаясь к скрещению, всадник в чалме и богатой, расшитой золотом, куртке. Громко звенели серебряные подковы его великолепного, черного коня, ритмически согласуясь с звоном монет, ожерельем украшавших лебединую шею красивого животного. Дорогие каменья, вправленные в сбрую коня и седло, и висевшая сбоку в серебряных ножнах кривая сабля ярко горели на солнце. Скрестив на груди мускулистые руки, мрачно потупясь, сидел всадник. На бронзовом от загара лице, из-под густых, как бы сросшихся бровей, сверкали злые глаза.
При виде фигуры сидевшей на камне, черный конь фыркнул, повел ушами и остановился. Всадник взглянул на юношу, и легкий трепет пробежал по его телу.
III
– Ты здесь? – спросил он, не поднимая на юношу глаз, – ты опять явился мешать мне?..
– Да! спокойно отвечал юноша, – я тебе мешать буду всегда и во всем!
– Знаю! прошептал всадник, – но здесь твои усилия будут напрасны! Посмотри вниз, на эти долины, усеянные деревнями и городками; в них живет народ, который ты хочешь охранить. Эти долины – отличная ловушка! Посмотри дальше, – ты ведь можешь видеть так далеко, как никто, – как только вижу я, – что видишь?
– Я вижу другой народ, другого племени, других верований и обычаев.
– И этот народ многочисленнее, сильнее. Он уже владычествует над твоим маленьким народцем, что ему стоить стереть его с лица земли?
– Ты забываешь, что есть другие народы, которые не позволят этого сделать!
Всадник расхохотался и так громко, что эхо ближайших темных и сырых ущелий долго передавали друг другу его демонский хохот.
– Другие народы? Какое им дело до твоего маленького народца! Или ты думаешь, я не позаботился о том, чтобы достаточно затмить их сознание, заставить забыть, что и этот народец исповедует такую же веру, как они? Или ты, может быть, думаешь, что эгоизм не достаточно сильное чувство? Я им бросил хорошую приманку, и покуда они все глядят на нее, придумывая, с которой бы стороны захватить первому, – я залью эти цветущие долины кровью!
– А я напомню людям о том, что они люди, и этого не будет. Темные брови всадника сдвинулись гуще, и искры злобы засверкали в его глазах.
– Не мешай мне! вымолвил он глухо, – довольствуйся тем, что ты отвоевал от меня… Есть страны, где племенная вражда затихла навсегда… и вражда верований тоже! Есть страны, куда не заглядывали давно ни голод, ни повальные болезни. Есть страны, где культура, наука, поднялись так высоко, что начинают даже бороться с смертью. Настанет время, и эти страны будут охвачены одним учением добра, справедливости, братства! Оставь мне этот дикий уголок! Кто о нем знает, кому он нужен?
– О нем знает Тот, Кто послал меня! отвечал юноша, – и если бы в этих долинах остался только один человек, я и к нему пришел бы!
Всадник сердито дернул поводья и гордый конь вскинул свою лебединую шею.
– Даже тут ты не хочешь оставить меня одного! – воскликнул всадник.
– Всюду, где ты, – буду и я! – вымолвил юноша.
– Опять борьба?
– И теперь, и всегда во веки веков! – сказал юноша.
Всадник затянул поводья. Черный конь взвился на дыбы.
Кровавая пена обагрила удила. Острый шпоры всадника вонзились в бока коня, искры посыпались из-под серебряных подков и, через минуту, мрачный всадник вихрем мчался к долинам.
IV
Широкое, красное зарево огня поднималось к темному небу. Горное эхо повторяло ружейные выстрелы и жалобные крики истязуемых, моливших о пощаде, людей. Черные силуэты людей бегали из дома в дом по опустошенному селению, вытаскивали женщин, детей, и их надрывавшие душу вопли скоро прекращались под ударами сверкавших сабель.
Десятка два оставшихся в живых мужчин, женщин и детей были согнаны кучкой на площадь села. Сюда же были притащены: солома, доски, домашняя утварь, словом всё, что могло гореть, – и облито керосином. Готовилось сожжение мучеников.
Сюда же пришел и стал посредине юноша с волнистыми, падавшими до плеч волосами. Никто не знал, откуда пришел юноша, кто он, но когда явился, верхом на черном коне, начальник шайки с целью полюбоваться, как будут гореть живые люди, он содрогнулся, увидя юношу, и повернул коня так, чтобы не видеть его лучистых глаз.
– Зажигайте! крикнул начальник шайки, – зажигайте скорее! Лейте больше керосину, бросайте солому! Чтобы ни один не ушел! Чтобы все, все сгорели! Скорее, скорее!
Юноша ободрял осужденных на страшные муки. Он тихо и проникновенно говорил каждому, указывая на небо, клал руки на плечи мужчин и гладил головы детей.
И в ту минуту, когда костер, в который были заключены люди, вспыхнул, раздался страшный удар грома. Молния пронизала кучку злодеев; ослепленные, закрывая глаза руками, они бросились к своим лошадям.
Приникнув к гриве коня, начальник мчался в горы. Вихрь вздымал его плащ, дождь смывал с его богатого оружия темные пятна запекшейся крови…
И этот дождь залил костры…
V
Вся долина была во власти орды варваров. Подобно горным потокам, вооруженные люди стремительно спускались с высот, жгли селения, убивали мирных, безоружных жителей, уводили в горы их жен и скот и грабили имущество. Народ стонал под невыносимым игом мучителей и не мог ничего предпринять в свою защиту: малейшее сопротивление какой-нибудь горсти безоружных пастухов вызывало новые убийства и истязания целого населения деревни. Тюрьмы были переполнены узниками, томившимися в ожидании казни и подвергавшимися страшным пыткам. Страна гибла под ударами своих мучителей…
В это время по городам и селениям ходил человек, принадлежавший к одной свободной нации на западе. Он не избегал никаких опасностей потому, что не боялся их.
Стоило ему только назваться, и рука, поднятая для нанесения смертельного удара – опускалась. Если бы он по ошибке был заключен в тюрьму, стоило представителю той нации, к которой он принадлежал, произнести одно слово, и его бы немедленно выпустили на свободу.
Это был молодой человек, одетый в европейский костюм, карманы которого были наполнены записными книжками. Его лицо, опушенное русой бородкой, смотрело открыто и приветливо; в его светлых, больших глазах светился огонь любви к ближнему.
Он ходил из города в город, из селения в селение и записывал, со слов потерпевших и свидетелей, полные леденящего душу ужаса рассказы об убийствах и насилиях. По ночам он писал длинные письма и отправлял их на родину. Там эти письма печатались в газетах; оповещали весь мир о неслыханных злодеяниях варваров и призывали христиан к оказанию сочувствия и помощи братьям во Христе.
Однажды этот человек зашел в дом некогда зажиточного, а теперь ограбленного и совершенно разоренного поселянина. В доме было много мужчин и женщин, уцелевших от избиения, но не имевших крова и явившихся просить приюта на ночь. Хозяин всех принял, предложил каждому, что имел.
Он сделал это так безучастно, как бы сам был гостем в своем доме. Слезы всё время бороздили исхудавшие щеки этого человека.
– Не плачьте! сказал ему человек в европейском платье, – сегодня у вас увели скот и сожгли хлеб – но всё это вернется.
– Вы думаете, я плачу об этом? возразил хозяин, – о, если бы это было так, вы вправе были бы меня презирать, как презирают нас многие за то, что мы стараемся обеспечить наши семьи. Но у меня отняли то, чего мне никто не вернет… даже сам Бог! Взгляните сюда!
Он провел его в другую комнату. Там было темно, но в одном углу виднелся какой-то предмет под белым покрывалом. Хозяин зажег тоненькую свечку и, сдернув покрывало, сказал:
– Вот что отняли у меня! Смотрите!
На досках, крытых ковром, лежал мертвый, пятилетний мальчик; страшная, с запекшейся, черной кровью, рана зияла на его горлышке.
– Они зарезали его за то, что я не хотел отдать им своей старшей дочери. Ребенок с плачем вцепился в платье своей сестры, когда ее тащили, и один из разбойников перерезал ему горло!
Человек в европейском платье содрогнулся и поник.
– ’’Это мой единственный сын! сказал хозяин – если бы он хворал, и умер, ах как тяжело было бы мне отдать его Господу! Но ребенок был здоров и весел. За полчаса перед убийством, он резвился, играл. Он играл на солнце, бегал по дорожкам нашего маленького сада, наклонял венчики цветов и вдыхал их аромат, он звал меня беспрестанно, когда его интересовала какая-нибудь бабочка, мотылек, он наслаждался жизнью; он весь был преисполнен Божественным даром, господин, он жить хотел и не меньше этой букашки имел на то право, но пришли люди и отняли от него жизнь! Этого мало! Они обещались прийти в эту ночь за моей дочерью! Даже смерть этого малютки не может искупить позора и несчастья девушки!
VI
Человек в европейском платье остался в этом доме на ночь. Он знал, что злодеи вернутся, и ждал встречи с ними. Дом был переполнен женщинами и детьми, не осмеливавшимися сомкнуть глаз и с тревогой прислушивавшимися к малейшему шуму на темной улице. Кругом было тихо. Изредка выли лишившиеся крова собаки да вспыхивали снопы искр от догоравших домов.
В глухую полночь на улице села послышался конный топот. Бряцая оружием, перекидываясь словами своего гортанного наречия, разбойники приблизились к дому. Один из них постучал в дверь и потребовал, чтобы ее отворили. Хозяин переглянулся с человеком в европейском платье, и когда тот шепнул ему несколько слов подошел к двери.
– Я не могу впустить каждого проходящего! сказал хозяин, – скажи, кто ты, и я отворю!
– А! Ты еще торгуешься, собака! крикнул разбойник, – погоди же! Знай, что начальник отряда требует у тебя постоя!
– Пусть сам начальник войдет сюда! Я ему отворю! отвечал хозяин.
Закутанный в плащ начальник сидел неподвижно на своем черном коне. Солдат передал ему слова домохозяина. Молча бросив поводья солдату, начальник отряда слез с коня и направился к дому..
– Отворяй! крикнул он, – да поскорее!
Дверь распахнулась. На пороге стоял человек в европейском платье, опираясь на плечо хозяина.
Взгляды мрачного всадника и человека в европейском платье встретились; в одном сверкала демонская злоба, – в другом лучезарно светилась кроткая любовь к ближнему.
И мрачный всадник, не выдержав взгляда своего противника, отступил.
– Опять на моей дороге! глухо пробормотал всадник, – этот дом мне нужен! Я хочу расположиться в нем!
– Ты не можешь этого сделать потому, что этот дом – мой! спокойно отвечал человек в европейском платье, – уходи!
И всадник и все, бывшие с ним люди, исчезли из селения…
VII
А письма, – не одного человека в европейском платье, но и многих других, в которых вселился его высоко-христианский дух любви и сожаления к ближнему, – всё спешили в разные концы мира и оповещали его о неслыханных злодеяниях, творившихся в несчастной стране. Телеграф, проворно стуча, передавал длинные, полные ужасной правды депеши, пароходы и железные дороги развозили по всему свету очевидцев резни христиан конца XIX века и мир, потрясенный, опечаленный, стал прислушиваться к стонам безвинных мучеников!..
Они стонут до сего дня… – «Помощи и милосердия»! – стонут они, – «милосердия к нашим ни в чем неповинным женам, сестрам и детям! Откликнитесь и помогите все, в ком есть хотя капля чувства сожаления к страждущему человечеству! Вспомните завет Христа и не нарушайте Его заповедей! Пусть холодные сердцем филистеры-философы говорят, что совокупность добра и зла – необходимый элемент всего живущего на земле, пусть некоторые из них договариваются до того, что считают зло одним из деятельных рычагов прогресса, пусть политики хлопочут об излюбленном ими равновесии. Нам, просто людям, не должно быть дела ни до одних, ни до других и третьих! Мы должны знать одно, что мы люди, обязанные и словами и Делом помогать людям, – „несть же эллин и иудей“ армянин, или даже этот, самый, изнывающий под ярмом бесправия и грабежа, – турок!»








