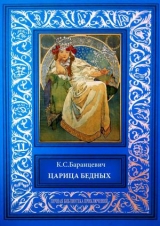
Текст книги "Царица бедных. Рассказы"
Автор книги: Казимир Баранцевич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
РАССКАЗЫ ИЗ ДРУГИХ СБОРНИКОВ
Брат
Святочный рассказ
Петр Платонович присел к столу и протянул руку к целому вороху только что принесенных писем.
– А! – произнес он, – вот оно что!
Он раскидал пачку изящных глазированных конвертов с анаграммами, с надписями по-немецки и по-английски, с разноцветными марками иностранных государств, и снизу вытащил одно, в простом конверте из серой бумаги, аляповато запечатанное сургучом и снабженное адресом, написанным крупными, безграмотными каракулями.
Брови Пера Платоновича сдвинулись, он сердито повел плечами и слегка дрожавшими пальцами распечатал письмо.
На полулисте бумаги, теми же каракулями были изображено следующее:
«Милостивому государю и благодетелю, Петру Платоновичу в первых строках посылаю нижайший поклон и жалаю щастия и благополучия, проздравляю с наступающим праздником Рождества Христова. А нащоть братца вашего Дмитрея Платоновича, имею честь предъяснить, что они не поладивши на заводе и с большими неприятностями противу властей и начальствующих лиц, на прошлой недели изволили отбыть в город Санкт-Петербург…»
Петр Платонович не стал читать далее; он швырнул, от себя письмо, словно оно обожгло ему руки, и, откинувшись в кресло, задумчиво начал крутить роскошные русые бакенбарды.
– Гм! следовало ожидать! – прошептал Петр Платонович, – опять старая истории! Не угомонился.
Презрительная усмешка скосила его губы.
– «Изволил отбыть!» Да когда же будет конец этому? Ведь это чорт знает, что такое!
Петр Платонович вспылил. С визгом откатилось кресло от стола, Петр Платонович встал и принялся шагать по кабинету, разрывая злополучное письмо на мелкие кусочки и покрывая ими роскошный, пушистый ковер с бледно-розовыми букетами.
– И кому это нужно? Народу? Ха! Народу нужен кабак! – с злобой размышлял он, остановившись у широкого венецианского окна, откуда, сквозь сизый туман зимних сумерек, открывался унылый вид на группу покрытых снегом заводских крыш с высокими, цилиндрическими трубами, – кабак и палка! Сумасшедший идиот! Маньяк! Маньяк, который может навредить! Нет, чорт возьми, нужно принять меры… Может быть уж он тут… Может быть…
Легкий стук в дверь прервал размышления Петра Платоновича.
– Войдите! – сказал Петр Платонович.
Дверь отворилась и в кабинет вошел молодой человек, изящной наружности, в очках, с портфелем под мышкой.
– А! Сергей Владимирович! – небрежно процедил сквозь зубы хозяин, – садитесь! что нового?
– Ничего особенного! – отвечал молодой человек, почтительно пожимая руку хозяина, – работы прекращены, – вечером контора будет выдавать расчёт, – молодой человек порылся в портфеле и стал вынимать бумагу за бумагою, – вот смета праздничных, а это ведомость чернорабочих дней, ведомость прогулов и штрафных…
– Хорошо! Положите сюда, – и разберу потом, и вы потрудитесь просмотреть корреспонденцию от наших агентов.
Петр Платонович открыл несколько конвертов на иностранных языках и подал молодому человеку.
– Да, вот еще! В машинном отделении случилось маленькое несчастие, – спокойным тоном начал управляющий, – смазчик, при снятии шкива, попал рукою в колесо.
– Ну, и что-же? – также спокойно спросил Петр Платонович.
– Помяло.
– Он, конечно, в больнице?
– Да. Рабочие раздувают этот случай, но по заключению врача…
– «Рабочие раздувают!» – с раздражением воскликнул Петр Платонович, – скажите на милость! А кто виноват? Вероятно, он полез во время действия машины?
– Да, машина была в ходу.
– Ну, так и есть! Сколько раз было говорено! Вывешены аншлаги, приняты предосторожности! Отчего не была остановлена машина?
– Не знаю! – спокойно отвечал управляющий.
– Расследуйте этот случай! После завтра я буду сам. Виновный должен быть строго наказан!
– И окажется, что виновный сам пострадавший. Всегда так! Что вы будете делать с народом? Не угодно-ли взглянуть: только что кончили работать, – и почти все пьяны! – заметил управляющий.
Петр Платонович пристально посмотрел на него. Тот сидел хотя и в почтительной, по при этом в совершенно свободной позе, держался с сознанием собственного достоинства и походил скорее на гостя.
– Этот не и из таких! – подумал Петр Платонович, – с этим можно быть спокойным, он поладит!
– Хорошо! – сказал Петр Платонович, – я просмотрю отчеты. Теперь четыре часа, зайдите часа через два…
Управляющий встал и, отвесив поклон, удалился. Петр Платонович прошел по кабинету и снова остановился у окна. Сумерки сгущались. Кое-где, где домах засветились огоньки. По улицам торопливо мелькали темные силуэты прохожих.
Чувство какого-то неопределенного недовольства самим собою закралась в душу всегда бодрого Петра Платоновича. Мысль о брате не покидала его. Он отошел от окна, сделал еще несколько шагов по кабинете, потом вышел в гостиную и по узенькой лестнице с перилами из красного дерева и со ступеньками, обитыми сукном, сошел в зимний сад.
Это был его любимый уголок, где он отдыхал после многочисленных занятий, и был хотя не велик, но хорошо устроен и содержался прекрасно. Петр Платонович сел в особо устроенное кресло-качалку, подвинул к себе курительный столик, и за благовонной регалией предался покою.
Кругом было тихо. Цепкие орхидеи ползли по стенам из туфа, там и сям выказывая свои желтые, пахучие цветы; перистая арека и узорчатый кентий в недвижном воздухе протягивали свои неподвижные листья. А кантофеликс, с его красноватым стволом, усеянным черными иглами, величественно возвышался над самой головой Петра Платоновича. Маленький фонтанчик чуть слышно журчал, как бы убаюкивая своими однообразными звуками…
Но мысли Петра Платоновича были мрачны и тревожны. Письмо на серой бумаге не давало ему ни минуты покоя. Вспомнился ему городишка, где жил его брат рабочим на заводе, вспомнилась его высокая фигура в полушубке и аршинных сапогах…
Петр Платонович с досадой бросил сигару. А воспоминания опять поплыли своим чередом и, мало-помалу мысли Петра Платоновича перенеслись к тому времени, когда оба они с братом кончали курс в одном техническом заведении. Как круто разошлись их дороги! Вот он достиг цели жизни, – он богат, принят в лучшем обществе, женат на аристократке. А брат! Где-то он теперь?.. Сумерки все более и более сгущались, окутывая мраком сад, в котором пальмы протягивали свои ветви, походившие на гигантские мохнатые руки. Эти руки со всех сторон тянулись к Петру Платоновичу, как бы силясь отнять от него все его благополучие, стоившее ему многих сделок с совестью, многих лет борьбы и усилий.
– Мы переживаем время розни! – вспомнилась ему фраза одного оратора на каком-то парадном обеде.
– Рознь? – прошептал Петр Платонович, – пожалуй, правда! Отношения портятся… времена не те! Но что делать? Вот вопрос!..
Он глубже опустился в кресло, и медленно обвел глазами вокруг, как бы ища ответа. Было совсем темно, и в темноте с трудом различались предметы. От окон еще шел сероватый отлив цвета, но и он постепенно сгущался во мрак. Неподвижными, черными гигантами стояли пальмы, как бы готовясь каждую минуту раздавить того, кто находился у их подножия.
Петру Платоновичу снова вспомнился брат.
– Не сливаться-же в самом деле с народом, как это делает им! Какой вздор! – решил Петр Платонович, делая попытку рассмеяться. Но смеха не вышло. Назойливо лезли в голову воспоминания прошлых лет; лица близких некогда людей мелькали перед глазами.
– А может быть, он прав! – задал себе вопрос Петр Платонович, – нужно принимать более близкое участие в их судьбе, заходит иногда, когда не ждут, истолковать… расспросить…
И вдруг в нем явилось странное желание побывать теперь же на заводе. Конечно, нужно было сделать так, чтобы не быть никем узнанным…
Петр Платонович моментально сообразил план своего путешествия. Он тихонько прошел в спальню, надел охотничий полушубок, высокие сапоги, и, никем не замеченный, вышел на улицу.
В слабом освещении масляных фонарей мелькали темные фигуры рабочих… Некоторые были пьяны и шли, покачиваясь из стороны в сторону. Звуки гармоники, бабий визг и мужицкая ругань оглашали воздух.
Петр Платонович направился к своему заводу. Зловещий красный свет фонаря, прикрепленного к стене заводского корпуса, указывал ему путь.
И вот, Петр Платонович идет по широкому двору, окруженному с четырех сторон высокими кирпичными стенами. Как безмолвно и скромно вокруг! Как гулко раздается эхо его шагов!
Но зачем он идет сюда, что ему нужно? Петр Платонович вспомнил, что он идет к рабочему, которому помяло машиной руку.
Его обдало вонючими испарениями рабочего жилья. На руках у грязной старухи пищал ребенок. Это было нечто среднее между обезьяной и человеком. Маленькое, худое личико все в морщинах, огромная, словно налитая, почти сквозная голова, раздутый живот, и совершенно высохшие, как плети, повисшие руки и ноги.
Петр Платонович взглянул на старуху и узнал ее. Это та самая старуха, у которой брат жил на квартире; у ней желтое, как пергамент, лице, обрамленное космами седых волос, и сухие, длинные руки. Но как она попала сюда?
Петр Платонович хочет что-то сказать, но старуха манит его за собою. Петр Платонович послушно идет за нею: он знает, что она приведет его в тот темный угол, где на койке, в куче лохмотьев, лежит какой-то длинный, томный предмет.
Да, несомненно, что человек! Вот он даже слегка шевелится…
Петр Платонович приблизился, взглянул, и вдруг увидел торчащий наружу кусок истерзанного, покрытого запекшейся кровью мяса, по форме несколько напоминающего руку. Но как ее раздуло! Как измяло, искрошило эти крепкие, рабочие мускулы! Из порванных сухожилий белыми остриями торчат раздробленные кости…
– О, какой ужас!
Петр Платонович бросился к груде тряпок, стал срывать их одну за другой и разбрасывать на пол, – он хочет видеть лицо искалеченного человека, – во что бы то ни стало, – он хочет его видеть!
Вот уж он добрался до его головы, обеими руками взялся за нее, с усилием повернул к себе лицом…
– Брат!..
Петр Платонович проснулся.
Целые снопы света ворвались в зимний сил сквозь распахнутые настежь двери в столовую, где сверкали в серебре и грани хрусталя роскошной сервировки.
Старинные, бронзовые часы на камине мелодично пробили семь. Величественный лакей остановился на пороге в позе, исполненной благородного достоинства.
– Ваше превосходительство, кушать подано! – провозгласил он.
Петр Платонович с трудом пришил в себя. Холодный пот выступил у него на лбу, сердце шибко билось, пальцы, державшие сигару, дрожали.
– Сергея Владимировича, – в кабинет! – приказал он лакею.
Лакей ушел. Петр Платонович встал, прошелся немного, и по той-же лестнице поднялся в кабинет.
Управляющий его ждал.
– Вы были там… у этого рабочего? Узнали? Что он очень пострадал? – закидал его вопросами Петр Платонович.
– Пострадал не особенно… По собственной неосторожности! – спокойно доносил управляющий.
– Так, так! Но это нужно, все-таки, устроить, чтобы там никаких… понимаете? Поезжайте сейчас же, и отвезите его к жене… Он женат?
– И дети есть.
– Ага! Так отвезите им от меня, ну, там, на елку, что ли, сто рублей, – Петр Платонович подумал немного, – нет, не сто, полтораста! Слышите?
Управляющий с удивлением посмотрел на хозяина.
– Помилуйте… – начал он.
– Прошу исполнить мое поручение! – с ударением произнёс Петр Платонович выходя из кабинета.
Управляющий в след ему пожал плечами.
– С ума он сошел, что ли? – бормотал он в передней, облекаясь в шубу, – вот они все таковы, самодуры! Чорт-бы его побрал, даже обедать не оставил! Это уж совсем гадость!
Отчего я умер?
I
Когда вам скажут: врач, лечивший меня и написавший официальное засвидетельствование о моей смерти, двое, трое моих друзей и знакомых, что я умер от астмы, от аневризма или от грудной жабы, – кстати, меня и лечили сразу от этих трех недугов, – не верьте им, – это неправда! Когда вам то же самое скажут мои близкие: жена и дети мои, не верьте и им, да, не верьте и им, потому что они тоже не знают, не догадываются о настоящей причине моей смерти. Ведь и они, наши близкие, к сожалению, так же слепы по отношению к нам, как и другие, менее близкие, даже еще слепее. Хуже, – они даже жесточе всякого постороннего, бывают к нам еще хуже, – часто случается, что они бывают, – конечно, не сознавая того, – нашими врагами. Что если бы любовь к семье требовала бы взаимности? К счастью, она – бескорыстна! Мало того, она самоотверженна. Ни один ребенок не может так самоотверженно любить мать, как любит она ребенка или как любить его отец. Да, и отец может любить самоотверженно, горячо, беспредельно… и при том, ничего не спрашивая для себя, любить исподтишка, из-за угла, каждый час, каждую минуту маскируя всю беспредельную глубину и нежность своего чувства…
Нет, не верьте, что я умер от астмы или от аневризма! Такою астмою, какою страдал я, – преблагополучно страдает 50 % всего человечества, и умирает кто от плеврита, кто от водянки, а кто так и от старческого маразма.
Я умер совсем от другого… Теперь, когда бренное тело мое лежит в гробу, какой-то унылый бедняк читает надо мною, и кроме меня и читальщика в комнате нет никого, следовательно, ничто не мешает мне думать, – теперь-то я могу вам сказать, отчего я умер, так как для меня нет теперь тайн и истина мне виднее всего. Я умер…
Но позвольте! Дайте мне сперва вспомнить, как я жил… История моей жизни, по внешности, очень не сложна, но это только по внешности. По внутреннему содержанию, – по психологии, как говорится, моя скромная жизнь не уступит ничьей другой. А между тем, по положению, я средний чиновник, то есть получающий от одной до полуторы тысячи годового содержания. Вот именно столько, то есть полторы тысячи, я и получал, но не с самого начала моей служебной деятельности, конечно, а под конец, в последние пять-шесть лет; раньше я получал меньше, а еще раньше и еще меньше…
Я припоминаю время, когда я получал 25 рублей жалованья в месяц. На моих руках была больная старушка мать и брат, учившийся в гимназии. Мне-то учиться не приходилось, хотя мне было всего 19 лет, и я только что окончил гимназию. Все мои товарищи, кончившие со мною, разошлись по высшим учебным заведениям: кто в технологический институт, кто в горный, большинство в университет, – а я поступил в департамент, на службу…
Тогда, лет тридцать, сорок тому назад, – это еще было возможно – теперь даже в писцы не берут, если не представишь удостоверения в том, что окончил высшее образование.
Но и тогда мне горько было сделаться чиновником, да еще таким мелким, ничтожным. Я мечтал о другом, хотя мечтания мои были довольно неопределённые, туманные. Тяжелее же всего было расставаться с товарищами. Мне казалось, что все они, надевши студенческую форму, начали смотреть на меня свысока, как на что-то ничтожное, низменное.
Вначале у меня были попытки продолжения знакомства с ними; при встрече с товарищами я приглашал их бывать, заходить, и они заходили; но так как нам не о чем было разговаривать, – ведь, никого из их профессоров я не знал и лекций их не читал, – то посещения моих бывших товарищей становилось все реже и реже и наконец прекратились совсем. Потом, при встречах, мы перестали даже.
Новых товарищей среди сослуживцев, я не заводил. Не из-за гордости, должен заметить, что я чувствовал себя выше их, интеллигентнее. Мне ничто не нравилось в них; ни то, как они говорили, какие у них были манеры, ни то, что они делали. Их развлечения коробили меня своей вульгарностью; карт я органически не терпел.
Лишенный всякого жизненного интереса на стране, извне, – весь интерес своего существования я сосредоточил на семье. Мне кажется с этого и начался мой недуг, постепенно, незаметно подтачивавший мои силы! Ведь должен же был я отдать дань молодости, должен был в свое время и веселиться, и перебеситься, словом, проделать все, что полагается начинающему жить молодому человеку, – а этого-то у меня и не было, и я очень рано взвалил ярмо на неокрепнувшие плечи.
Да, когда я вижу юношу в студенческом мундире, здорового, краснощекого, с усами в стрелку, прячущего нос в бобровый воротник шинели или беспечно распоряжающегося в котильоне, я благословляю судьбу этого юноши, так как знаю, что у него есть родители, люди обеспеченные, не нуждающиеся, что они оградили своего сына от всякой скверны жизни, и что поэтому ему легко будет жить, легко учиться, легко даже сделаться впоследствии профессором. И так оно почти и бывает в жизни!.. Но ужас охватывает мое сердце, когда я вижу бедняка-студента, тощего, зеленого, в летнем пальто бегающего с одного грошового урока на другой, питающегося в дешевой кухмистерской, живущего в пятирублевой конурке, рядом с какими-нибудь подозрительными лицами, проводящими дни за водкой и картами и только по ночам выходящими «на работу». Я не отрицаю, что «пробиться» может и такой юноша, на что это ему будет стоить! Ведь в настоящую-то жизнь, со всеми её так называемыми радостями, придется вступить ему калекой, и хорошо еще если только физическим, а если нравственный? Если в нем, таком еще молодом, разовьются скупость, алчность к деньгам, карьеризм, бессердечие? И это чаще всего бывает с теми, кто рано взвалит ярмо жизни на свои неокрепшие плечи!
Со мною почему-то этого не произошло. Может быть, потому и не произошло, что я не хотел «пробиваться» и лекциям и беготне по грошовым урокам предпочел сиденье в департаменте! Ведь я знаю отлично, что мои товарищи бедняки вовсе не затем слушают лекции, чтобы после самим двигать науку, – никто из них не в состоянии был подвинуть науку на дюйм, – а только затем, чтобы быть начальниками отделений в том же департаменте, в котором я обречен был, несмотря ни на какую выслугу лет, не высовываться дальше столоначальника.
Да, я это знал раньше и заранее осудил себя на такую участь. Принеся эту жертву домашнему очагу, я постарался заградить его так, что никакое постороннее вторжение было немыслимо. Школьные связи были порваны, а новых, служебных я не заводил. Я знал, что таким образом я теряю по службе, но потеря была так ничтожна, а наслаждение быть самостоятельным так велико, что о выборе не могло быть и речи. Я убежден, что в современном среднем и мелком чиновничестве подобных мне много! Это все такие, которых начальники, в особенности старики начальники аттестуют гордецами, много думающими о себе, а в сущности, для службы людьми малополезными… Да, так оно в действительности и есть. Не скажу, чтобы я особенно радел службе, но это потому, что самую службу я считал огромной, хорошо и очень давно налаженной машиной, а себя одним из её очень маленьких и очень невидных винтиков. Винтик никогда не мог повлиять на общий ход машины, как бы он ни старался, как бы он ни прыгал в том уголку, где был прилажен; машина, наконец, могла обойтись и без винтика, так как непосредственного отношения к ходу машины последний не имел, а существовал так… больше для видимости.
Я же существовал двадцатым и для двадцатого числа… В это число бесчисленное множество винтиков огромной чиновничьей машины за то, что эти «винтики» скрипели пером по восьми часов в сутки, ежедневно, получали столько, чтобы, при посредстве еще кредита, не умереть с голода до следующего двадцатого числа.
Я так это и понимал и всеми мерами обезопасил себя и семью от острой голодной смерти, – против хронической не было средств борьбы, и все мы были малокровны, все мы кашляли, хворали и три четверти года пичкали себя пилюлями и микстурами.
Найдя частные, вечерние занятия на 15 рублей в месяц, я заключил свой бюджет сорока рублями. Брат, будучи в четвертом классе, давал уроки, но его заработок уходил на плату в гимназию, книги и платье. С моим бюджетом можно было жить недурно… в семи верстах расстояния от службы. И мы наняли квартиру за десять рублей на окраине города, за Невской заставой. Целый день старушка мать копошилась в этой квартире одна, готовя нам обед, гладя и даже стирая для нас белье. К шести часам я приходил обедать; брать обедал раньше, после гимназии, и уходил на уроки. После обеда я принимался за частную свою работу и сидел часов до 11, 12. Истомленный, я ложился спать и утром вставал в 8 часов. Пять лет такой жизни сделали из меня то, что я походил на человека, только что вышедшего из больницы после перенесенной тяжкой болезни, Мне было всего 27 лет, а я походил на человека, приближающегося к сороковому году, и когда в каком-нибудь обществе обо мне говорили как о молодом человеке, то при этом иронически улыбались.
II
Мне кажется, что моя жена, моя Оля, полюбила меня из жалости. Ни одной женщине в мире не бывает так свойствен этот сорт любви, как русской. Впрочем, Оля и сама была «жалкая», к самом лучшем, конечно, в самом поэтическом смысле этого слова. Круглая сирота, она жила у дяди, нашего столоначальника, в качестве бедной родственницы, работала, конечно, как не работает ни одна наемная прислуга и вечно оставалась в загоне, в тени. Именно это-то самое, что мы оба находились «в тени», и сблизило нас.
Помню, как придя однажды к Мартынову (её дядя) не в урочный час (просто он послал меня из департамента за какими-то «делами»), я застал Ольгу в слезах. Она быстро поднесла платок к глазам и улыбнулась мине, но как! Как улыбается огорченный ребенок, как улыбается солнце в ненастье, выглянувшее из-за тучи; никогда не забуду этой чудной, по своей трогательной простоте, улыбки, – она решила мою судьбу…
– Ольга Михайловна! – спросил я: – вы плакали! Вас обидели, да?
– Нет! – отвечала она: – это так… Соринка попала в глаз…
– Я знаю, я все знаю! – заговорил, я, торопясь, – вам не зачем скрываться передо мною! Вам тяжело, невозможно тяжело жить у дяди?
Нет, нет, пожалуйста! – воскликнула она, бросая на меня просящий взгляд и как бы опасаясь, что я начну бранить старика: – дядя хороший человек, он очень хороший человек, но ему тоже тяжело, у него большая семья…
– Значит, вы ему в тягость?
Она молчала. Она стояла лицом к окну, и её тонкая, изящная, вся точно выточенная резцом художника фигура рельефно выделялась на фоне зимнего, светлого полудня.
Как может быть в тягость эта вечно трудящаяся, безответная, молчаливая девушка! Кому может быть в тягость эта тёмно-русая, милая головка, в которой столько дум, столько пытливых запросов, столько жадного интереса и искренней любви ко всему хорошему, честному и правдивому!
Эти вопросы быстро пробегали в моей голове, также быстро вызывая ответы и вызывая такие комбинации и соображения, о которых полчаса раньше я не мог составить себе даже приблизительного представления.
Но теперь все шло быстро и все должно было также быстро придти к концу.
– Ольга Михайловна! – воскликнул я, повинуясь какому-то неизведанному мною, необычайному подъему духа: – кончим с этим раз навсегда!.. Я давно вас знаю… я два года вас знаю и вижу все и понимаю… Я не знаю только ваших чувств, но если я вам непротивен, не совсем противен, то… согласитесь быть моей женой?
Она быстро взглянула на меня с выражением какого-то радостного испуга, потом обеими руками закрыла лицо.
Я подошел и тихонько, медленно отвел от лица руки. Крупные, крупные слезы катились по щекам, а глаза и все лицо улыбались, и это была та же трогательная по своей простоте улыбка огорченного ребенка.
– Да? – спросил я, пристально, с тревогой заглядывая ей в глаза.
Она ничего не ответила мне, но в глазах её я прочел ответ.
После этого я обнаружил настолько силы воли и самообладания, что вернулся в департамент, отдал то, зачем был послан, старику Мартынову, сел за свою работу и просидел до пяти часов, все исполнив, ничего не напутав, ничего не испортив. Боже мой, ведь с таким же самообладанием я ходил на службу, когда при смерти был мой ребенок, с таким же самообладанием я его похоронил на одном из сырых, петербургских кладбищ и вернулся домой и на другой день пошел в департамент! Результаты этого самообладания дают себя чувствовать задолго потом…
Ни в этот ни на другой день я ничего не сказал матушке, несмотря на то, что привык делиться с нею и с братом самыми ничтожными впечатлениями. Но именно потому-то я ничего и не сообщал, что эти впечатления не были ничтожными, и я не без основания опасался, что к ним отнесутся не так, как бы следовало, а даже враждебно! Да, враждебно! У трех лиц, живущих чуть ли не впроголодь, никакого другого, – по крайней мере у двоих из них, – не может быть отношения к четвертому, собирающемуся разделить их скудную трапезу… Я предчувствовал торжество жестокой, грубой прозы, а мне так хотелось хоть немножко поэзии, хоть чуточку иллюзии… И я доставил себе ее… Однажды мы с Олей оба сплутовали: я по отношению к начальству, не придя на службу «по болезни», она тем, что придумала себе командировку в дальний конец города. Оба мы очутились на Петровском острове и в его тенистых, липовых аллеях, без пищи, конечно, проведи большую часть дня. Все, о чем мы тогда говорили, было молодо, пылко, прекрасно и глупо. Мы оба, не глупые люди, нарочно говорили чепуху и шутили наперерыв друг перед другом, зная, что то, что мы делали в этот незабвенный день, для нас больше никогда, никогда не повторится. Меньше чем в сутки мы отпраздновали наш праздник молодости, и когда рука об руку возвращались домой, то знали, что за этот праздник нам придется ответить.
Моя дорогая матушка – этот идеал справедливости, доброты и бескорыстия, с чувством затаенной враждебности отнеслась к моему намерению жениться. Брать принял вид человека лично, до глубины души обиженного. В груди у меня бушевало, я хотел им крикнуть: «Опомнитесь, что вы! Вы, единственные близкие, кровные близкие мне, и будто бы любящие меня, – что вы делаете? Неужели ваша любовь ко мне должна непременно выразиться в том, чтобы опустошить мое сердце и лишить меня единственной отрады – любви! Тогда вы эгоисты, вы сухие, чёрствые эгоисты, и вы не меня любите, а свою эгоистическую любовь ко мне!»
Но я смотрел на кроткое, опечаленное лицо матушки, вспоминал её тревоги по поводу меня, её заботы обо мне, её вечный панический страх за меня, и уста мои немели, я смотрел на суровую, преждевременно возмужавшую в тяжелом труде фигуру брата, и буря стихала в моей груди. Будь, что будет. Я положился во всем на время…
III
И время все унесло, все сгладило… Теперь оно сгладило, должно быть, и тихую могилу моей матушки в одном из отдаленных углов кладбища. Давно, очень давно, я не был там! В последний раз, когда я торопливо, наскоро, зашел на кладбище, и не без труда отыскав могильную насыпь, остановился перед ней, мне тяжело сделалось смотреть на нее.
В том, что обвалились края могилы, виновен быль я, что крест глубоко сел в землю и покосился, что дожди смыли до половины надпись и когда-то красивый металлический венок заржавел, а листочки его глухо звенели при ветре, – во всем, во всем был виноват один я! Да, я успел забыть свою дорогую матушку! Я, который трое суток не отходил от её тела, трое суток не осушал глаз и каждый год, в течение нескольких лет, посещал её могилу, я сделал то же, что всякий, – хотя и думал, что никогда не поступлю, как всякий, – я забыл ее! Я весь был поглощен мелочными заботами своего существования и существования моей семьи. Значить, и на мне сказался общий всем закон природы. Мало того, – я стал замечать в себе чувство какого-то инстинктивного отвращения к кладбищам. Я стал избегать похоронных процессии. Словом, тогда еще я почувствовал, что боюсь смерти, и это было началом того ужаса, который должен был разыграться впоследствии.
Я женился через год после того, как сообщил о своем намерении матушке и брату, и женился уже после смерти матушки. Как-то так случилось, что матушка начала хворать и с каждым днем положение её только ухудшалось. Врачи приписывали болезнь простуде, но я убежден, что простуда играла тут очень незначительную роль: матушка хирела от сознания, что ей готовится преемница, что она становится более ненужной, пожалуй, даже, лишней. Она видела, как я, увлеченный любовью к Оле, – все равнодушнее, все холоднее становлюсь к ней, она чувствовала, вот настанет время и скипетр правления перейдет в руки другой. Будь у неё свои средства, она не задумываясь, переехала бы от нас; но у ней не было ничего, и это еще сильнее угнетало ее. После смерти матушки я почувствовал себя свободным – да простит мне память о ней – это невольное чувство!) и начал торопиться со свадьбой. Впрочем, особенных помех не было. Мартынов рад был отдать поскорее замуж племянницу, а мне хотелось поскорее кончить, со всей этой историей, и я объявил, что свадьба у нас будет по-американски. Это очень всех забавляло, но тем не менее пришлось устроить маленькую свадебную пирушку с неизбежными пошлостями в виде карт, глупых тостов, сплетен кумушек и танцев «барышень в розовых платьицах».
Весь следующий день мы еще не могли придти в себя от свадебного угара, наносили визиты и вообще вели себя так же глупо, как все новобрачные, – на второй день я отправился на службу, – жена на рынок.
И это продолжалось все 23 года до последнего времени, когда ноги отказались таскать меня! За все это время мои воспоминания, мои впечатления, я полагаю, не особенно многим отличались от впечатлений прикованного к тачке каторжника!.. Впрочем, иногда вспоминается кое-что хорошее, конечно, в начале нашей совместной жизни.
– Господи, что это такое? Куда это? – с притворным ужасом возглашает Оля при виде горшочков с гиацинтами и левкоями, которые я торжественно вношу в комнату.
– Как видишь, – гиацинты! – отвечаю я: – ведь ты сегодня именинница! Поздравляю!
– Можно было бы что-нибудь другое! Цветы завтра завянуть, засохнуть.
– Пусть! Завтра ты не именинница! Но у меня есть и другое, на запас, если бы тебе не понравились цветы…
– Нет, отчего же… Цветы мне очень нравятся! – смущенно заявляет Оля, и прибавляет: – а что еще, это другое!
Это «другое» оказывается какой-нибудь безделушкой в роде скромной брошки или недорогих серег, но прежде чем вручить подарок, я заставляю Олю порядком помучиться, поломать голову… Затем вручение подарка, поцелуй Оли, и мы счастливы, насколько можно было быть счастливыми вообще в нашей уж очень скромной жизни!
Но молодость помогала все переносить: тяжелый труд, нужду, даже болезни!
Через год Оля родила девочку. Мы назвали ее в память бабушки – Соней. Я находил, что ребенок был похож на мать, Оля, наоборот, приписывала ей сходство со мною; мы спорили до слез, до ссоры, потом мирились, потом оба наперерыв начинали ухаживать за девочкой и, наверно, уморили бы ее, если бы через полтора года не явилось новое существо, – на этот раз мальчик, которого мы назвали Сашей.








