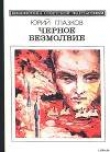Текст книги "Дамам нравится черное (сборник)"
Автор книги: Кармен Ковито
Соавторы: Даниела Лозини,Диана Лама,Николетта Валлорани,Барбара Гарласкелли
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 4 страниц)
– Деньги? Тебе нужны деньги? Я дам тебе, сколько нужно, только уходи. ^
– Опять? Я опять уйду – уйду навсегда? Ты этого хочешь, мамочка?
– Не называй меня так! Я же была девчонкой, что ты понимаешь!
– А я был новорожденным, ТЫ это понимаешь? – орет он и поднимается на ноги, а я врастаю в кресло.
Сейчас ты и вправду меня разозлила, мама. Деньги, ты предложила мне деньги, деньги в обмен на любовь, которую я зря дарил тебе все эти годы. Деньги в обмен на мечты, рисунки, мамины слезы, грязные простыни, фантазии, розыски, мою неблагодарность и печальные глаза отца. Ты предложила мне деньги за все это и за жизнь, которую я по-настоящему не прожил, потому что все время ждал, когда же познакомлюсь с тобой.
Сейчас я и вправду зол. Я хочу причинить тебе боль. Наверное, я так и сделаю, но сперва мне нужно выговориться, я хочу все объяснить.
Сейчас он говорит негромко, воспитанным и почти нежным голосом. Он объясняет.
– Я думал, что, когда увижу тебя, наваждение пройдет, я решу: это просто недалекая шлюха, которая однажды легла в постель с мужчиной, забыв о предосторожности, и вообще мне повезло. Знаешь, почему мне повезло? Родители меня любят, они хорошие люди, они научили меня уважать себя.
Меня– то и этому не научили, думаю я, но ему об этом сказать не могу. Он обходит комнату, дотрагивается до вещей, выглядывает на террасу, говорит: "Вид чудесный!". Потом направляется обратно ко мне, а я сижу и жду.
– Мне все еще хочется причинить тебе боль, но вместе с тем так хочется тебя обнять, хочется, чтобы ты мне что-нибудь подарила, ведь сегодня для меня особенный день. Я и сам не понимаю, с ума я сошел или просто счастлив.
Он падает на колени, протягивает ко мне руки и начинает плакать.
– Мама, – говорит он, обнимая меня и кладя голову мне на грудь.
Это последнее слово, которое он успевает произнести, потому что хрустальная пепельница, которую я зажала в руке, опускается и разбивает ему череп. Височная кость перекашивается, я бью снова и снова, крепко прижимая его к себе, плечо само поднимается, рука бьет и уходит вглубь, бьет и уходит вглубь, среди осколков и мягких тканей мозга, он обмякает в моих объятьях и, может, в последний раз успевает произнести "мама" – я точно не помню.
Я говорю "мама" и думаю "мама", пока ты бьешь меня, пока накатывает темнота, – наверное, так оно и лучше, так лучше.
Теперь я снова обрела покой, я высоко, в безопасном уединении.
Успеть бы сделать только одно, потому что муж вернется, а у меня руки в крови и в чем-то еще, а тут он, лежит на полу перед столиком, я даже не знаю, как его зовут, но муж-то сразу узнает это лицо, так похожее на его – и ямочка, и нос, и лоб точно такие, мои черные волосы и голубые глаза, – и все поймет, а я не могу позволить, чтобы это случилось, потому что хочу, чтобы все оставалось, как было и как должно быть.
Я потратила столько времени, чтобы забраться сюда, наверх, обрести покой, уверенность и любовь, я не могу позволить, чтобы этот незнакомый юноша взял и все разрушил своим присутствием.
Обратно я не вернусь.
Дальше идти нет сил.
Я остановлюсь, где стою.
Оттуда, где я стою, открывается великолепный вид.
Виден весь Неаполь: город раскинулся перед моими глазами – от мыса Позиллипо до деревушек у подножья Везувия. Если повернуть голову, можно разглядеть там, вдали, Соррентийский полуостров, а рядом – Капри. Внизу я вижу уходящую вдаль виа Караччоло, пьяцца Витториа, серпантин дорожек парка Гринфео, красную громаду Нунциателлы, блестящий купол над галереей Принчипе Умберто, Корсо, лентой сверкающий между домами, и сады. Сады – в самых неожиданных местах, спрятанные на крышах самых красивых домов. А еще – море. Море, сливающееся с небом, – передо мной, вокруг меня.
Поворачиваю голову в одну сторону, потом в другую, вокруг меня – море и небо, сады и солнце.
Когда я была маленькой, я мечтала жить в доме с видом.
Теперь он мой навсегда.
Оттуда, где я нахожусь, мне видно тебя, мама.
Ты красивая – такая, какой я тебя всегда представлял. Черные волосы, как и у меня, голубые глаза.
Наконец– то я могу смотреть на тебя, ты близко, я смотрю -не могу насмотреться. Я буду смотреть на тебя, пока не придут нас забрать, пока тебя не снимут с веревки, привязанной к люстре прямо над моим телом, веревка впивается тебе в шею, и ты качаешься туда-сюда, налево-направо, вперед-назад, ритмично и с изяществом, ко торое ты бы наверняка оценила. Ты и сейчас красива, несмотря ни на что, несмотря на веревку, выдавившую из тебя жизнь, несмотря на то, что лицо твое раздулось и исказилось.
Теперь ты моя навсегда, мама.

Даниела Лозини
Тихое лето
Посвящается Ф.
Есть что– то малодушное в том, чтобы, чувствуя себя несчастными, ожидать, что другие проявят интерес к нашим бедам.
Э. М. Чоран
ОНА не вернулась. С каждым движением секундной стрелки на красном будильнике мысль, крутившаяся в голове у Берты, все больше превращалась в уверенность. Мария еще не вернулась. Это ненормально.
Слышно было, как булькает вода в кастрюле с макаронами. Страх сжал ей горло.
Берта прокашлялась, деревянная ложка, которую она держала в руке, повисла в воздухе. Когда вошел муж и прошелестела занавеска, которую вешали летом вместо двери, женщина вздрогнула.
Моя руки, он ехидно поинтересовался:
– Берта, ты что стоишь как вкопанная?
– Мария не вернулась. Уже семь, а она не вернулась.
– Ну что ты волнуешься? – Он вытер руки полотенцем. – Наверное, гуляет с остальными оболтусами. – Потом посмотрел в окошко над мойкой. – Ладно тебе, еще светло.
– Она всегда возвращается в половине седьмого. – Берте брызнула на руку капля кипящего соуса. Горячо. – Она помешана на расписаниях. Восемнадцать тридцать. На худой конец – тридцать пять. Мы же купили ей кварцевые часы…
– Нуда… – Он подошел, стоял и смотрел жене в глаза, держа в руке ломоть хлеба. – Но ведь ей всего тринадцать… – сказал он, макая хлеб в томатный соус.
– Верно, но она все время глядит на часы. Она девочка разумная, просто помешана на расписаниях. А там, где разума не хватает, выручит мания! – Шлеп! Она огрела его по руке. – Прекрати жевать! Она не вернулась. Иди и ищи! – заорала Берта почти в истерике.
Мужа отправили проверять сеновал. Место безлюдное, но не опасное. Там собирались ребята, приезжавшие на каникулы в эту деревушку, окруженную полями – золотыми, зелеными, рыжими. Поля начинались сразу за городом с его знаменитым средневековым центром и римским мостом.
Старший сын, пятнадцатилетний Джузеппе, упрямый и замкнутый, сидел во дворе у своего неразлучного друга Конти.
– Сестру не видал? – спросил его отец.
– Не-а, сегодня нет. Тот приподнял бровь:
– Не мели чепуху, вы же целыми днями торчите на сеновале.
– Ну да, а сегодня – только до пяти, пап.
– А потом?
– Потом? Откуда я знаю… Отец отвесил ему оплеуху.
– Беппе, сейчас ты мне подробно расскажешь, куда вы ходили с сестрой.
Девять вечера, а муж еще не вернулся.
Берта сидела на плетеном стуле. На нее падал красный косой луч закатного солнца. Тридцать градусов жары, пережить которую помогает ветерок с холмов, а она замерзла и потеряла чувствительность. Муж пришел не один. Прежде чем открылась железная калитка, она услышала шелест гальки на дорожке. Шаги многих людей – и никаких других звуков. Люди не разговаривали. Даже не перешептывались. Зажегся свет. Слабая тусклая лампочка, показавшаяся ей вспышкой молнии.
– У нас в деревне мы ее не нашли, – сказал муж.
– Значит, найдем в другом месте, – ответила она, пытаясь заглушить страх словами.
Если бы топот кабанов, лай собак, хрюканье поросят, мычанье коров и пение кукушки на мгновенье затихли, было бы слышно, как в долине одиннадцать добровольцев, мужчины и женщины, почти все деревенские старожилы, громко зовут: "Мария, Мария, Мария, Марияяяяяяяя…"
Берта не кричала, а, набрав в легкие воздуха, пропевала имя дочери, словно молитву. Как один из тех заунывных мотивов, которые она выводила, беседуя со своим Богом. Не с тем, которому молятся все, а со своим собственным. С тем самым, которого она просила, чтобы у нее больше не случалось выкидышей, а рождались дети, которого каждый вечер, целуя Марию, она просила подарить ей самую лучшую жизнь, на какую может надеяться девочка с задержкой в развитии (на многое не надейтесь – поспешили заверить ее врачи). Мы ведь тоже не дураки! Мы создадим ей самые лучшие условия, пошлем в лучшую школу. И будем заботиться, сколько хватит сил. Девочку старались научить всему, чему можно, и она выросла разумной. Берта это точно знала. Мария доверяла только родным, а еще научилась доверять себе. По-своему она знала, как жить на свете. Поэтому Берта не сомневалась: что-то помешало ей вернуться домой.
После того как несколько часов прочесывали окрестности и ничего не нашли, они поняли, что поиски придется продолжить утром, когда взойдет солнце.
В ту ночь они почти не спали.
Берта считала минуты, свернувшись клубком на диванчике в кухне и завороженно слушая тиканье стрелок. А вдруг… Муж отправился наверх, спать вместе с Беппе, который из молчуна превратился в немого.
В последний раз ее видели в четверть седьмого: с террасы дома Конти Беппе заметил, что ребята побежали за поворот; яркий бант сестры исчез из виду последним, вслед за ватагой.
– Она припрыгивала, папа! Припрыгивала, – твердил Беппе.
Разговор оборвался, и повисло молчание, чреватое многими вопросами. Ни у кого слова не шли с языка.
Берта услышала шаги по гальке. Очнувшись от полусна, она побежала на улицу. Встретилась глазами с Джованни Малате-стой, который работал на дальних полях. Лицо у него было каменное, в руках он вертел соломенную шляпу с голубой каймой. Джованни забормотал что-то несвязное:
– Мы с сыном со вчерашнего вечера… Мы тут тебя искали, а вас не было, обыскались совсем, черт возьми, а вас нету и нету. Б-б-берта, надо кого-нибудь позвать. С Марией случилась беда.
Время текло, как сладкий сироп. Берта ощущала неподвижную плотную пленку времени, которая накрыла ее и оставила в чужом и враждебном мире, единственные знакомые звуки в котором – ее учащенное дыхание и приглушенные голоса окружающих.
Джованни, Беппе и муж Берты побежали к бару, где был телефон-автомат: будить Чезаре и звать карабинеров. Чезаре выдернули из шезлонга.
– Просыпайся!
– О Господи!
– Надо звонить карабинерам, давай жетоны!
Чезаре сбегал внутрь и вернулся, держа в руках коробку с жетонами. Приоткрыв рот, словно собираясь что-то спросить, он глядел на мужчин и женщин, замерших неподвижно, точно статуи.
Тот, что звонил, сказал:
– Приезжайте срочно, погибла девочка.
Из участка приехали трое. Синюю служебную машину припарковали на обочине у поворота, под ветвями плакучей ивы, накрывшими блестевший на солнце капот.
Двое карабинеров возились с рулетками и какими-то приспособлениями. Один из них фотографировал место происшествия с разных точек. В девять утра уже припекало, со лба на летнюю форму стекали капельки пота. Третий, одетый в льняной костюм, с медицинской сумкой, руководил происходящим.
Тело девочки лежало на земле среди острых камней, под отвесным обрывом высотой метров пятнадцать, не меньше. Среди низких кустов ежевики виднелись подол желтовато-розового платья в цветочек, исцарапанные шипами тонкие ноги и бледные руки. Иссиня-черные спелые крупные ягоды казались маленькими глазками любопытствующих зверушек.
Девочка лежала безжизненно, словно марионетка с перепутавшимися нитками, которую выбросил ребенок, пресытившийся игрой. Сандалии почти съехали с ног, каштановые волосы рассыпались веером, оранжевый бантик чуть покосился и запачкался кровью.
Мужчина в костюме решительно отогнал в сторону всех, кроме ближайших родственников. Он велел отойти, ничего не трогать и приказал на диалекте:
– Идите работать.
Его послушались, как слушаются строгого директора школьники.
Берта следила глазами за мужем, который только теперь начинал понимать, что говорил ему человек в костюме, которого карабинеры называли доктором Галимберти. Потом она заметила Беппе. Он сидел на камне недалеко от машины карабинеров, нахохлившись, словно ночная птица, которой неуютно при свете дня, и отстраненно следил за происходящим.
– Что с моей дочкой? Когда я смогу ее обнять? – спросила Берта мужчину в костюме, когда он возник перед ней.
– Пока что трудно сказать. – Галимберти глядел на нее, вид у него был по-прежнему властный, но голос чуть помягчел. – Похоже на несчастный случай. Вы сможете ее увидеть, когда мы завершим медицинский осмотр. Обещаю. – Потом взглянул на большую скалу, нависшую над обрывом. – Сейчас мы сходим посмотрим наверху. Постараемся сделать все возможное, чтобы выяснить, что же произошло.
После недели, посвященной расследованию и сбору информации, количество показаний, данных добровольно или взятых у свидетелей, вызванных в полицейский участок, превысило все разумные пределы. Поступали анонимные звонки (кто-то продолжал звонить и кричать в трубку: "Господи, да ведь они все стояли на Острой вершине, все стояли, я их видел, это они, они!"), анонимные письма на диалекте, анонимные письма на итальянском, а также анонимные письма, в которых выражалось сожаление о случившемся, а в постскриптуме сообщалось, что кое-кто незаконно занял чужую землю, а у кое-кого внебрачная связь. Каждый житель деревни, а потом и каждый житель близлежащего городка счел своим долгом выдвинуть добрый десяток неожиданных версий. Всем непременно хотелось высказать свое мнение и найти разгадку.
Девочку мог убить "чют" (как называли здесь страшного снежного человека), деревенский дурачок или местная ведьма. Она могла упасть, потянувшись за бабочкой, могла споткнуться, когда бежала за зайцем, за ней мог погнаться кабан, ее могли в шутку толкнуть. А вообще, она "сама нарвалась" – зашла в опасное место, потому что родители за ней плохо смотрели.
В районной газете появилась статья с перечислением подобных версий, изложенных четко, подробно и со знанием дела. Предпочтение отдавалось версии о смерти в результате несчастного случая, и поэтому, посвятив неделю обсуждению самых диких и странных предположений, все успокоились и пришли к единому мнению, ведь "так написали в газете".
К огромному облегчению следователей, осмотр тела не подтвердил версию о том, что к убийству мог быть причастен педофил. Синяки, царапины и раны являлись результатом падения.
Показания остальных ребят (самому старшему было четырнадцать) в итоге совпали. В присутствии родителей их засыпали вопросами, на них налегали, давили, жали, то грозили кнутом, то соблазняли пряником, а потом вновь заставляли дрожать от страха, прибегая к прямым или косвенным угрозам.
Картина, которая вырисовалась на основании их рассказов, была вполне ясной: им захотелось поиграть в следопытов и добраться до места под названием Острая вершина. Мария, не отличавшаяся разговорчивостью, решила пойти с ними.
Они любовались на розовое небо, по которому пробегали лиловые облака, как вдруг кто-то рассмеялся, и вслед за ним засмеялись остальные – просто так, без причины. Словно пьяные, они принялись распевать песни, которые выучили на празднике газеты "Унита". Шутили, прыгали и танцевали, обо всем позабыв. Мария тоже танцевала, в сторонке, и слишком близко подошла к краю обрыва.
Одна девочка сказала, чтобы она перестала кружиться. Это, дескать, опасно. Но Мария не послушалась. Тогда девочка подошла к ней и громко крикнула, потянув ее за руку: "Смотри под ноги, дурочка!" Ничего не сказав в ответ, Мария вырвалась и сделала шаг назад. В пустоту.
На вопрос следователей: "Почему ты не спустился вниз посмотреть, жива ли она? Ты хоть попробовал позвать ее, вдруг она отзовется?" – все, все без исключения, ответили виноватым, а иногда и враждебным молчанием. Только девочка, которая попыталась ее остановить, сказала капризно: Ну позвали бы, а что толку! Она бы издалека все равно не поняла, она и вблизи-то не понимала!
В ходе расследования обнаружилось, что сын Малатесты, вернувшись домой, без видимой причины расплакался – да так, что долго не мог успокоиться. Джованни – тот самый, что владел дальними землями, – насел на отпрыска и заставил все рассказать. Мальчик объяснил, что случилось. Они сразу побежали предупредить остальных родителей, потом решили, что Малатеста-отец помчится к Берте, но Берты дома не оказалось. Битый час он ходил туда и обратно, надеясь, что кто-нибудь да появится. Потом стемнело. Как только пропел петух, Джованни Малатеста, не сомкнувший в ту ночь глаз, вышел из дому и зашуршал галькой по направлению к дому Берты. Увидев ее, он забормотал и облегчил душу.
В первое воскресенье после случившегося были похороны, по этому случаю даже открыли центральные двери городского собора. Так решил мэр, который все и устроил. Один из советников мэра предложил назвать именем погибшей девочки улицу. Сам районный префект появился на похоронах и пожал руку родным погибшей. Было много снимков для официальных отчетов и репортажей.
Берта не то чтобы не могла запомнить лицо префекта и лица всех остальных – ей было все равно. Время, в котором она существовала еще восемь дней назад, когда ее любимая Мария была жива и весело прыгала, остановилось. Жизнь Берты – та, которой она жила прежде, – оборвалась. Теперь она находилась во времени и пространстве, оторванных от реальности, в которую был погружен окружающий мир. Мир, который когда-то радушно ее принимал.
В день похорон на ней было черное платье, однако она решительно отказалась помыться под душем и надеть туфли, поругавшись из-за этого с мужем и сыном. Они много чего наговорили, а еще заявили, что пора бы ей образумиться. Никто не виноват, что Мария погибла, надо думать о том, как жить дальше. Но она их не слышала и надела любимые стоптанные шлепанцы ядовито-розового цвета.
Ко взглядам и рукопожатиям прибавились неуместные подбадривающие похлопывания по плечу и сочувствующие взгляды.
– Бедняжка.
– В уме повредилась от горя.
– Сейчас такое начнется…
– Надо было лучше смотреть за дочкой.
– Знаете, с такими детьми всегда сложно.
Она читала эти мысли за избитыми фразами и хищными руками, ловившими ее руку.
С болью и тяжестью она поняла то, что объяснить невозможно: все вокруг ей враги. Она это твердо знала. Как знала и то, что ее Бог оставил ее. Прежде чем потерять сознание и прийти в себя после минутного забытья, она Его прокляла.
– Синьора Берта, так больше нельзя… – В тот день сержант карабинеров, брат доктора Галимберти, решил все-таки ее принять.
Не проходило и дня после похорон, чтобы она не позвонила или не явилась в участок.
Не довольствуясь результатами расследования, она обратилась за помощью к одному дальнему родственнику, адвокату.
– Это несчастный случай, ей страшно не повезло, – говорили вокруг, но она упорно твердила, что должны быть виновные. Их не арестовали, но они есть. Ребята, которые в тот вечер находились вместе с Мартой. Она это точно знает.
Берта решила на них заявить. Родственник, знавший законы, не стал ее отговаривать, но и не проявил ни толики сочувствия. Он посоветовал ей явиться к карабинерам и подать заявление, написав, что виновные неизвестны. Разве она сможет вызвать в суд всех односельчан и всех, кто в это время отдыхал в деревне, и разве на ребятишек подают в суд, не имея к тому же никаких доказательств? Разве она и без того не осложнила жизнь соседям и отдыхающим, беспрерывно стуча в их двери? А муж и Беппе? О них она не подумала? Разве можно быть такой эгоисткой?
Поначалу ей часто открывали, люди были готовы выслушивать ее бред, но стоило ли удивляться, если теперь те же самые двери напоминали залитые свинцом рты. Разве не она доконала всех своими причудами? Ей-то самой еще мало?
Некоторые двери и вовсе не открылись. Так и оставались закрытыми. Берта знала, что вина – это тяжкий груз, который надо уметь нести достойно.
Берта все же добилась слушания дела. В итоге восемнадцатого августа районный судья, ознакомившись с материалами, счел следствие законченным и принял решение дело закрыть. В зале суда в качестве свидетеля присутствовал муж, потому что ей на люди показываться было нельзя: чтобы ее успокоить, пришлось ей соврать. Теперь ей все время врали. В итоге суд постановил, что ребята только присутствовали при несчастном случае – хотя потом они, конечно, обязаны были что-нибудь предпринять. Правда была написана черным по белому в медицинском заключении, гласившем: "Патологоанатомическая экспертиза и тщательный анализ фактов позволяют прийти к заключению, что причиной преждевременной смерти стала тяжелая травма, полученная при падении, вызванном, по всей вероятности, тем, что жертва случайно поскользнулась".
Узнав от мужа о решении суда, Берта несколько дней не показывалась. Карабинеры (втайне даже их начальник) решили, что их личная одиссея закончена.
Однако четыре дня спустя, после того как блеснула надежда, они поняли, что ошибались: в воздухе снова запахло Бертой.
Запах опережал ее. Запах тления, следовавший за ней неотступно, как верный пес. Уже месяца два она не мылась, а со дня похорон так и не переоделась. На ней были все те же кошмарные розовые шлепанцы. Черное платье прилипло к изможденному телу, словно защитный панцирь. После оглашения приговора она стала приходить в полицию через день.
Берта все время задавала одни и те же вопросы, будто читала молитву, и получала одни и те же ответы. Последнее слово в ответе никогда не менялось.
– Сержант на месте?
– Да, синьора. Сейчас посмотрим, когда он сможет вас принять. Подождите.
– Да, синьора, но он занят. Мы можем вам чем-нибудь помочь? Нет? Тогда подождите.
– Нет, синьора, он уехал по делам. Подождите.
Она садилась в тесной комнатушке и часами ждала. Иногда сержанта и правда не было. Иногда он был, но по окончании рабочего дня уходил через заднюю дверь.
Около четырех, за полчаса до последнего автобуса, шедшего до ее деревни, кто-нибудь принимался мягко подталкивать Берту к выходу, и она словно робот начинала шагать к остановке. Водитель Альдо, живший в той же стороне на холмах и возвращавшийся последним рейсом домой, сажал ее и отвозил обратно в деревню, где ее ждало безграничное одиночество.
В один прекрасный день в бедно обставленном кабинете сержанта, стены которого украшали итальянский флаг, латунный герб карабинеров и фотография президента Пертини, Берта заявила, что решила во всем признаться.
Сержант не сдержался и язвительно хмыкнул. Но она поставила его на место: из глубин депрессии вдруг возникла прежняя Берта – та, какой она была до того, как произошло несчастье. Решительная женщина, которая раньше жила в ней и которая была раздавлена безутешным горем, словно огромными валунами.
– Сержант, я виновна. Вы должны посадить меня в тюрьму. Это нетрудно.
– Почему я должен вас посадить?
– Я убила свою дочь.
На несколько секунд он притворился, что раздумывает над ее предложением, и за это время решил уступить по целому ряду причин. Не только по той, которую назвала растрепанная грязная женщина, от которой исходил запах тления, но и по тем, которые подсказала его совесть. В эту минуту, в этот раз – в последний раз (он уже получил приказ о переводе в другое место, о чем подал прошение несколько месяцев тому назад) – он ей подыграет.
– Вы пришли пешком или вас привезли?
– На улице меня ждет муж.
Сержант вышел, а ее попросил подождать. Закрыв за собой дверь, он встретился глазами с дежурным, который лишь покачал головой.
– Рано или поздно она сдастся, – сказал сержант не слишком уверенно.
Муж стоял на улице и курил. Сержант не стал спрашивать его, что он чувствует, – мужчина заговорил сам, без лишних предисловий:
– Сегодня в шесть утра она явилась ко мне и разбудила, чтобы поделиться этой идиотской мыслью.
Они помолчали несколько минут.
– Давайте поступим так: я положу ее спать в комнате, где обычно отсыпаются пьяные. Завтра утром притворюсь, что звоню в разные инстанции, а потом скажу, что, по мнению следователя, обвинить ее не в чем. – Он взглянул на часы. – А вы завтра, скажем, к полудню, приезжайте за ней.
Мужчина сделал долгую, бесконечно долгую затяжку.
– Ладно. – Окурок полетел за тротуар. – Хорошо. – Он протянул сержанту руку, посмотрел на него с гордым смирением и сказал: – Спасибо.
Больше они не виделись.
– Мама, мама, это что за страшная тетя?
Девочка показывает на последние ряды автобуса, где сидит нечто, похожее на огромный сверток.
– Тесс, Анна, на людей пальцем не показывают!
Старого рейсового автобуса, который водил Альдо, больше нет, его заменил новый большой автобус на тридцать мест. Теперь долину объезжает сын Альдо: шесть раз туда, шесть – обратно. Зовут его Андреа.
Альдо рассказал Андреа историю "свертка" с седой головой. Давным-давно жила-была женщина и была у нее дочка. Потом девочка умерла, и с тех пор все изменилось. В течение двадцати пяти лет каждый день Альдо подбирал женщину-сверток на остановке в деревне и каждый день дожидался ее на остановке в городе, чтобы доставить домой.
Пять лет назад эта обязанность перешла к его сыну. Андреа с детства привык к привидению, сидевшему в глубине автобуса, и не боялся.
Сколько бы ее ни оскорбляли, сколько бы ни кидали в нее скомканными бумажками, сколько бы ни делали вид, что не замечают, она всегда сидит сзади. В снег, дождь, жару, случись хоть потоп, хоть нашествие саранчи – она будет там. У Андреа скоро родится сын; настанет день, и он расскажет ему историю женщины-свертка. У него, как и у его отца, крепкая память. Он хранит вырезки из газет об этой истории в картонной папке, которую оставил ему отец.
Однажды, набравшись смелости, он попросит женщину-сверток рассказать свою историю. А пока хранит вырезки, которые он на всякий случай решил переписать от руки. Это воспоминания родственников и тех, кто жил здесь в то далекое лето. Или выдумал, что жил.
То лето, как рассказывал ему отец, оказалось на памяти жителей долины самым тихим.
[1] Роман о подростках (опубликован в 1906-м, русский перевод, 1958) венгерского писателя Ференца Мольнара (1878-1952) – классика литературы для юношества. (Прим. перев.)
This file was created
with BookDesigner program
bookdesigner@the-ebook.org
28.05.2015