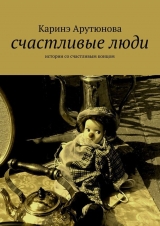
Текст книги "Счастливые люди"
Автор книги: Каринэ Арутюнова
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Исполнение желаний
Да благослови Всевышний солнце и траву, цветы и деревья, и всякую живность, что произрастает меж ними, и прихрамывающую Верочку в ситцевом сарафане на широких лямках, в сарафане с огромным провисающим на безразмерной груди клетчатым карманом, в котором хранится ключ от входной двери, маленький потёртый кошелёк из кожзаменителя и парочка-другая сложенных вчетверо облигаций.
Да благослови Всевышний старую Веру и её слепую собаку Соню, обрюзгшую пинчериху в малиновой попонке, девицу с нравом вздорным и блудливым, и да благослови Господь роскошное малороссийское лето с отлетающим пухом одуванчиков и головокружительной сиренью, отцветающей, уже поблёкшей, но не утратившей пьянящего аромата, да благослови Господь наш маленький двор, – когда-то он был огромным, вместительным, с ближним палисадником и дальним, куда было запрещено категорически, – с беседкой, качелями и калиткой. Да благослови Господь Вадика Шаумяна из соседнего подъезда, умницу и красавца, а ещё непоседу и выдумщика Миху, с чернильными пятнами на остром носу и немытыми ушами, – как же рвалось и металось моё любвеобильное сердце, от вежливого отличника к мятому сорванцу, дышащему по утрам селёдкой, луком и чёрт знает чем ещё.
С Шаумяном было восторженно и страшновато, будто я опасалась ежеминутного разоблачения, из «хорошисток» норовила провалиться в троечницы, была забывчива и не особо аккуратна, а с Михой можно было гладить под партой ежа, искать клад на школьном пустыре, болтать глупости и корчить гадкие рожи.
Да благослови Господь скоромное и постное, горькое и кислое, сладкое и мучное, да благослови Господи жареные в прогорклом масле пирожки, с горохом и капустой, рисом и яйцом, а более всего с повидлом, с невероятным количеством повидла, от вкуса которого запершит в горле, а липкие следы украсят губы, щёки, и даже гольфы, натянутые измазанными пальцами, а ещё мороженное, за двадцать восемь и тринадцать, с шоколадом и без, на палочке и в вафельном стаканчике, сливочное и пломбир, купленное на сэкономленные копейки по дороге из школы, благослови Господи не вовремя разогретые супы и благополучно «незамеченную» записку на кухонном столе «котлеты в хол-ке. Мама»
Да благослови Господь тоскливые сумерки у окна и монотонные дожди, и тесное подмышками школьное платье, и последнюю конфету из шоколадного набора, съеденную тайно, со сладостным ощущением греховности и неминуемой расплаты. И вечера, когда зажигается свет и все дома. И «кинопанорама», а завтра воскресенье. Или каникулы.
Да благослови Господи муки неразделённой любви, – к очаровательной юной женщине, похожей на русалку, с перламутром губ и пальцев, H2O и CO2, и много-много непонятных формул, и это грешное, запретное, непроговариваемое, – благослови Господь сонеты Шекспира, переписанные от руки ученическим почерком, и маленькие голубые конверты, вспоротые дрожащей рукой, и её силуэт в далёком окне, и невозможность прикосновения, и запах её кожи, волос, и голос её, такой невыразимо-грудной. Благослови Господи изнурительную нежность, головокружительную нежность на краю пропасти, весь этот стыдный юношеский бред, от которого сухо в гортани и тесно в груди.
Да благослови Всевышний этот день, и эту бурю, и ветер, и шёлковое бельё, летящее по воздуху, и бегущую за ним коротконогую немолодую женщину с подпрыгивающей грудью, и огромного мужчину с глазами ребёнка, со скрипичным футляром в руках, и это маленькое случайное столкновение в ветреный день, да благослови Мужчину и Женщину, пребывающих в любви и согласии, да благослови их имена, простые как вода и соль, – Даня и Лиза, Лиза и Даня, да благослови Господь яичницу из двух яиц и ломтики поджаренного хлеба, и скрип патефонной иглы, – не будни, но праздник, – два улыбающихся лица в дверном проёме, да благослови их души.
Первой ушла Лиза, и Даня остался один в крошечной шестиметровой комнате, и долго не знал, что ему делать со своими руками и огромным горячим сердцем, которое билось в унисон, а одно – не захотело, не смогло.
Благослови, Боже, голую Фаину, распутную, прекрасную Фаину, золотозубую принцессу, – как пусты были бы летние ночи без её бурных истерик, без заломленных рук её, Господи! Голая Фаина любила любовью жертвенной, вечной, но редкий избранник достоин был этого дара. Золотое Фаинино сердце, поднесенное на круглом блюде бескорыстно, Господи, безвоздмездно, чаще всего скатывалось на пол, – под звуки аргентинского танго уходили её мужчины один за другим в южную ночь.
Да благослови Господь перекормленную девочку из первого подъезда, и её отца в странной шляпе-канотье, и тайное их счастье на скамейке, – мужчину, похожего на наседку, с ранними глубокими морщинами на загорелом лице и мучнисто-белую, пышную девочку в сборчатом платьице, и неземной красоты жёлтую грушу «бере» в девочкиной руке, и первую черешню в полиэтиленовом кулёчке, – их быстрое, тайное, запретное счастье, и липкий поцелуй в колючую щеку, и его сутулая спина, и «выходные» брюки по щиколотку, и нелепо заправленная белая сорочка.
И величественную старуху Беренбойм по кличке «полковник» (за усы и печальный бас, с непременным добавлением «милочка моя» и «голубчик»), – с дымящейся папироской в углу рта, в растянутой оранжевой кофте крупной вязки и жилистыми руками акушера-гинеколога, – подволакивая одну ногу, спускается она к почтовому ящику, – раз в полгода между «Наукой и жизнью», «Литературкой», «Известиями» и специальными медицинскими журналами вылавливает она невесомый конверт, обклеенный пёстрыми нездешними марками, и, вздыхая, бормочет, обращаясь непонятно к кому, – это кому письмо, – это уже никому неписьмо…
Да благослови Господь эту старую улицу, и старые дома, которым уже недолго осталось, и трамвайные пути, ведущие в райский сад, – благослови этот самый сад и блаженных у врат его, Господи, – несчастной Марии дай трезвого мужа и здорового сына, и утри слёзы её, и слёзы Софочки, которой ты вообще не дал никакого мужа, только за то, Господи, что зубы её остались детскими на взрослом лице, и улыбка её страшна, как смертный грех, Господи, —
Да благослови Господь сирых и одиноких, нелюбимых и любящих, дай им столько любви, сколько смогут они вынести, дай им накрытые столы и горячие обеды, и детей от любимых женщин, и щедрых кормильцев, и преданных возлюбленных, и посели их в нашем старом дворе, и защити тенью от старой акации, и чтобы шумно и весело, и чтобы не будни, но праздник, – не вода, но вино.
Птичка-невеличка
«Птичка-невеличка» осталась в прошлом. Не повторится больше совпадения стольких гениальных случайностей-неслучайностей, – обаяния Мимино, трагикомического дара Фрунзика, легкости Данелии, шарма незатейливой мелодии «чито-грито», – и все это сквозь призму восприятия весьма расположенного к «лицам кавказской национальности» условно русского (советского) человека, благодарного зрителя. Ведь для этого неслучайного совпадения должна повториться череда неповторимого уже никогда, – должны как минимум родиться две сестры, – Верико и Мэри Анджапаридзе, – первая – великая грузинская актриса, – вторая – мама Георгия Данелии. Должна возродиться студия «Грузия-фильм», должен родиться великий (часто смешной, но, вообще-то, печальный мим) Фрунзик Мкртчян, – Цинандали и Киндзмараули вновь должно появиться на прилавках российских супермаркетов, – я вновь должна стать ребенком, подростком, – чтобы, как прежде, обхватив колени руками, сидеть в кресле у телевизора, и, переглядываясь с сидящим рядом отцом, – хохотать, грустить и опять хохотать в тех самых местах, в те самые моменты, которые неповторимы
Папа
Вон идет самая неловкая девочка на земле
Пальто ее распахнуто, галстук перекручен жгутом, колготы давно пора подтянуть, а спину – выпрямить.
Она сидит с книжкой в сумерках, влюбляется и плачет, грызет ногти, прячет дневник, лжет… О, как она лжет! Неловко, неумело, смешно. Бессовестно.
Девочка прогуливает уроки и сидит на изогнутом стволе упавшего дерева. Никуда она не денется, – конечно же, она вернется, – растрепанная, виноватая, притихшая.
Конечно же, она придет, и, стараясь быть неслышной, нырнет в постель, и услышит, как щелкает выключатель в соседней комнате.
Щелкнет выключатель, и тот, кто ждал ее, тоже заснет, и утром не спросит ни о чем, потому что не мужское это дело, – вмешиваться во взрослую жизнь влюбленных девочек.
Он только посмотрит на нее, – о, как он посмотрит, – растерянно (как, ты уже выросла??), насмешливо (чего и следовало ожидать), грустно
(мы не властны над…), он только посмотрит на нее смущенно, и сделает вид, что ничего не случилось.
Ничего не случилось.
Вот и она. Взрослая, очень взрослая, но, по-прежнему бестолковая и какая-то… Вы понимаете?
Она вновь выходит из дому. Бредет бог знает куда и зачем. Плащ нараспашку, ветер в лицо.
Он всегда будет рядом, всегда. Пока она окончательно не повзрослеет и не расстанется с той, сидящей на дереве школьницей в расстегнутом пальто.
Время погорелого театра
Бабушка моя Роза Иосифовна любила повторять, – я та еще казачка! Иногда она называла себя артисткой погорелого театра, хотя я лично знала ее только как «бабу Розу».
Познакомились мы на Воскресенке, в длинном пятиэтажном доме, в двухкомнатной квартире, – одна комната светлая (наша), а другая – темная (бабушкина и Его).
«Он» – это человек, с которым я если и обмолвилась парой слов за все годы жизни на этой самой Воскресенке, то это были какие-то совсем неважные, не запоминающиеся слова.
«Он» был чужой, и пахло в этой «темной» комнате чужим. И мне всегда страшновато было пересекать границу между «той» комнатой, и «этой».
В нашей комнате все было новеньким, светлым, – и открытое окно, и шкаф, и секретер с открывающимся столиком на одной ножке, которая упиралась в светлый паркет. Это был мой, личный столик, за которым, усердно склонив голову, я выводила каракули, училась писать и считать.
После окончания домашних заданий столик можно было закрыть, и тогда освобождалось место для прыжков, – а прыгать я любила, размахивая то ружьем, то пистолетом, то саблей, – выкрикивая что-то вроде «пятнадцать человек на сундук мертвеца и бутылка рому и охохо!».
В комнате было много игрушек, книг, взрослых и детских, повсюду змеились и цеплялись ленты от бобинного магнитофона, – то есть, порядка в ней не наблюдалось, – не было аккуратно застеленной кровати с горкой подушечек, а вместо нее стоял раскладной топчан, раскладное кресло (мое!), пишущая машинка, секретер, лампа с абажуром и небольшой шкаф.
Пахло веселыми людьми, которые любили танцевать (твист и рок-н-ролл), читать, гулять, и, кроме всего прочего, они любили друг друга, и потому ничего странного не было в том, что в комнате этой появилась шумная и воинственная девица с вечно растрепанной головой и сбитыми коленями.
Девица эта носилась назад и вперед, сбегала вниз и вверх, – она всегда торопилась и решала важные абсолютно неотложные дела, – ее всегда кто-то ждал «внизу», и кто-то звал «с улицы», и со стороны двора, где громоздились мусорки, – и тогда девицына голова застывала на секунду в проеме окна или в зарослях дикого винограда, а потом слышался дробный топот, и хлопала дверь, и это было, конечно же, нехорошо, потому что на кухонном столе остывала, допустим, тарелка с кашей, – как правило, манной, но девица и по сей день эту кашу не жалует, и, если вспоминает, то с небольшим содроганием, и втихомолку радуется тому, что она давно сама решает, и выбирает между овсом и гречкой, но склоняется к хорошему кофе, что, не исключает небольшого компромисса, но я не о том.
Граница между светлой и темной комнатами была условной, – всего лишь небольшой коридор, – уже через два прыжка (полтора метра) менялось все.
Там было душно, пахло корвалолом, мазью Вишневского, и чем-то таким, отчего я тут же превращалась в церемонную и странную гостью, которой, в общем-то, многое казалось любопытным, но, увы, чужим.
Я с любопытством разглядывала слоников, – чудных белых слоников, стоящих смирно один за другим (ровно семь штук), – пожалуй, я их даже любила, любила тихо, без надрыва и страстного желания «сделать своими навечно». Слоников, фарфоровых рыбок, пастушек и пастушков. Они казались загадочными посланцами из другого мира, в котором анисовые капли смешались с лакричными леденцами, и вместо легких светлых книжных полок поскрипывал тяжелый комод, и убранный салфетками сервант, – что-то подсказывало мне, – мое место там, где бобины и рок-н-ролл, но уж никак не комод, в котором темные, тяжелые, негнущиеся костюмы, пальто и «выходная» обувь, которой не суждено было сноситься.
Я та еще казачка, – смеялась бабушка и совала в кармашек моего уже школьного платья рубль, а то и целых три.
Я не спрашивала, откуда, каким образом наскребла она из своей сорокарублевой пенсии эти мятые бумажки, да и сама бабушка делала предостерегающий знак и подмигивала, то одним, то другим глазом, отчего делалось мне весело и жарко, как будто это какое-то занятное приключение, наша общая тайна, о которой не положено знать никому, ни единой душе, а особенно Ему, чужому человеку из темной комнаты.
Чуть позже «казачка» превращалась в «актрису погорелого театра», и это был крайне интимный момент, когда дома не было никого, ни «Его», ни «Их», а только мы с бабушкой, и тогда граница между светлой и темной комнатой таяла, исчезала, как будто ее никогда и не было, и семеро слоников с рыбками и пастушками перебирались на кухню.
Туда же отправлялись и мы, – обедать, ужинать, а, главное, болтать на «запрещенные» темы с употреблением «запрещенных слов» и по очереди «выдавать» рассказы про Ивановну, которые, на самом деле, были моноспектаклем, то моим, то бабушкиным, и тут уже, как вы понимаете, стиралась грань между бабушкой и внучкой, проваливались годы и десятилетия, разделяющие ее и меня, – во всяком случае, тогда, в моем смешном детстве и ее …скажем, зрелости, у нас были дни и минуты абсолютного взаимопонимания и настоящего творческого экстаза, сопровождаемого воплями, всхлипами, истерическим «ой, не могу, держите меня», – это был наш погорелый театр и время безграничной упоительной свободы, которая заканчивалась, впрочем, после поворота ключа в замке, и мир вновь становился темным и светлым, – до лучших времен, – говорила бабушка и подмигивала, – сначала одним глазом, а потом – другим…
Южный кто-то там
В детстве у каждого из нас была страшилка, – ну, что-то вроде своего домашнего бабая, – у меня тоже была. Называлась она – «южный кто-то там».
Вначале этот самый «Южный» промелькнул в одном из диафильмов, и я с трепетом ожидала повторения кадра. Я даже не могу сказать точно, что это было. Как ОНО выглядело. Словом, это было Нечто.
Затем это самое Нечто стало являться в снах, проступать из темноты, точно персонаж театра теней.
Я точно знала, – Оно – это и есть тот самый «Южный кто-то там», ужасный именно своей непонятностью.
И, главное, непредсказуемостью!
Соперничать с «Южным» могла разве что одна из бидструповских старух, встречи с которой я всячески избегала и даже пыталась склеить страницы альбома, чтобы не дай бог не напороться…
Позже к старухе и южному добавились прочие герои, – как то – проступающая из стены африканская маска, тень от торшера, старик с первого этажа, запах медикаментов, слово «уколы», – ах, кто не помнит вязкого тошнотворного полуобморока и дрожи в ватных ногах?
О «черной руке и красной простыне», столь популярных среди подрастающего поколения, я вообще умолчу.
Счастливое время!
Ведь в те далекие времена достаточно было протянуть руку и щелкнуть выключателем, и торшер становился просто торшером, а диафильм, скрученный в трубочку, пылился в коробке на шкафу, а бидструповские старушки – ну кто думал о них, когда солнечные лучи заливали нашу светлую комнатку на Перова, – пахло жареной картошкой, жарой, дыней-колхозницей, и на мне было новое узбекское платье с атласными вставочками, – узбекское платье, смуглая кожа, сбитые локти, колени и книжка, которую я читала здесь же, сидя у подоконника, – готовая по первому зову выскочить за дверь.
У меня, девицы с воображением, страхов, уж будьте уверены, хватало!
Единственный страх, которого не было, – ну, просто не было, и все тут, невзирая на многочисленные бабушкины истории, фильмы и книги, – это страх войны.
Это же когда-то, давно, было то, чего нет и быть не может в нашей с вами жизни, в жизни, которая так славно и справедливо устроена!
Я сочувственно кивала, но ужас войны все равно уступал кошмару «черной руки» и уколов. Ну, не было места войне в моих детских фантазиях, и тогда, и позже, я, конечно, содрогалась, читая о подвигах молодогвардейцев, но содрогание это носило такой… немного литературный характер.
Каким-то архаизмом веяло от старушек, и от моей в том числе бабушки, – которые ну никак не могли освободиться от воспоминаний, и довольно часто упоминали войну как самый ужасный ужас, ужаснее которого не может быть ничего…
Пожелание «мирного неба над головой» казалось мне несколько лицемерным.
Ну, какая война, о какой войне может идти речь в стране, победившей раз и навсегда всех лютых врагов, – в той стране, «где так вольно…», ну, вы поняли, дышится и все такое, – в этом я была абсолютно уверена, и с воодушевлением подпевала, – то в кокетливом костюме украинки (вышиванки были в моде, и моя, перешитая из папиной, не уступала прочим), то в узбекском платье, – я подпевала во весь голос, набирая полную грудь воздуха, воображая невероятный простор и невероятную мощь страны, в которой посчастливилось родиться…
Сотворение мира
Истинного рассказчика не смутит отсутствие темы.
Готовность говорить о чем угодно и даже повторяться – но всякий раз по-разному – отличает истинного рассказчика, не любителя, но профессионала.
Единственное, что необходимо настоящему рассказчику, это вдохновение и готовность.
Плохо, если есть вдохновение, но нет готовности. Иди готовность есть, а вдохновения…
Вот мою бабушку, например, абсолютно не смущали повторы.
Да, она повторялась. Но как!
Какими неизменно талантливыми были вариации на тему погрома или войны.
Бабушкины истории уничтожали сам фактор времени, и война казалась уже не чем-то огромным, безликим, пугающим.
Нет. Это было такое личное, иногда трогательное, порой смешное, и очень грустное. То есть, о грустном я догадывалась, но чаще все-таки улыбалась.
Потому что, если бы бабушка моя была актрисой, а она действительно была актрисой (как говорила она сама – погорелого театра), то это была бы сплошная трагикомедия.
Бабушка не скупилась на подробности. А подробность, как известно, это соль любого повествования. О, моя бабушка знала в этом толк.
И, слушая в сотый раз одну и ту же историю, я хохотала и грустила, как в тот самый, первый…
Наверное, ее истории были настоящими репризами, в которых немалое место отводилось показу. Тот редкий случай, когда рассказчик – одновременно актер, массовка, режиссер, постановщик, сценарист. Он не выдумывает, нет, он вдохновенно лепит, формует, выжигает, расписывает, вплетает, расцвечивает и сгущает.
Но никогда, – слышите? – никогда не врет!
Потому что настоящую историю всегда видишь внутренним зрением, и слышишь внутренним cлухом, причем картинки меняются в зависимости от того, какими ты их хочешь видеть. Потому что акт творения предполагает готовность к соучастию, и тогда творение становится со-творением…
Судный день
В Судный день моя бабушка поднималась ни свет ни заря.
Собственно, она всегда просыпалась рано, но пробуждение пробуждению рознь.
В этот день она не суетилась на кухне и не гремела посудой.
Уходила очень рано и, как выяснилось позже, ехала через весь город чуть ли не двумя трамваями – и это под холодным проливным дождем, а дождь, как непременный атрибут скорби, сопровождал ее до самой синагоги.
В общем, бабушка моя в этот день являла собой совершенный образ скорбящего иудея – бледная, в мокром плаще и с мокрыми щеками, она долго разматывала платок в прихожей и долго вздыхала. Я помню непонятное и немного пугающее слово «берковцы» и смешное – «синагога».
Я мало что понимала.
Дети вообще воспринимают события и явления как некую данность – да, такой вот день, и положено в этот день грустить, ездить через весь город двумя трамваями и мокнуть под дождем.
И все это – заметьте! – без маковой росинки во рту.
Я понятия не имела о скрепляемом невидимой подписью сговоре с Всевышним. Да и бабушка явно не торопилась посвящать меня в тонкости обряда. Во-первых, ребенок, шоб он был здоров, и так все время болеет. То горло, то уши, то не про нас будь сказано.
Ребенок еще настрадается.
Тем более школа на носу. В которой, как известно, о Судном дне особо не распространялись.
Моя бабушка в советской школе не училась. Разве что закончила несколько классов хедера. И думаю, она прекрасно понимала, что ребенку (без пяти минут советскому школьнику, октябренку и пионеру) беседы с Ним явно ни к чему.
Сама же бабушка общалась с Всевышним регулярно. Она вела долгие, изнурительные и сладкие беседы. Как правило, на нашей крохотной кухне, за столом.
– Ты слышишь меня, готеню?
Подозреваю, «готеню» она поверяла тайны и сомнения, которые не доверила бы лучшей из подруг. Хотя какие могут быть подруги?
На лавочке под «второй парадной» – досиживающие свой век старушки в платках, все как одна чужие, чужого роду-племени… Их тоже занесло в эти дворы из прежних жизней – из пригородов, сел и местечек.
Пожалуй, это их явно сближало.
Подол остался далеко, в другой жизни, до которой добираться надо было двумя трамваями и еще черт знает сколько идти под проливным дождем.
Конечно, можно было добраться на метро – гораздо быстрее!
Но что-то мешало моей бабушке ступить на лесенку эскалатора, и она обувала нарядные, немного тесные балетки (они ей жали в пальцах) и практически ненадеванное синее платье с пуговками на груди и шла к трамвайной остановке, покупала талончик и занимала место у окна.
Иногда я думаю, сколько надо проехать, чтобы вернуться в город своего детства? Сколько раз трамвай должен выйти из депо и сколько кругов отмотать от района, застроенного типовыми пятиэтажками?
Зато «готеню» всегда был рядом, всегда начеку. К нему не нужно было ехать в переполненном трамвае.
– Как тебе это нравится, готеню? – с горестной иронией вопрошала бабушка и застывала, видимо, в ожидании ответа.
Иногда, впрочем, она отвечала, не мешкая, за «Него» и удовлетворенно покачивала головой.
У нее, чтоб не сглазить, все хорошо…








