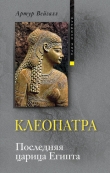Текст книги "Фараон"
Автор книги: Карин Эссекс
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Клеопатра нацепила улыбку и улыбалась непрерывно, словно луна в полнолуние. Она твердо решила держаться любезно, но это далось ей нелегко – учитывая, что Сервилия тараторила без умолку, стремясь непременно поведать гостье и жене Цезаря историю своего ожерелья.
– Оно принадлежало жене Верцингеторикса, – сообщила Сервилия, поглаживая блестящий квадрат, висящий над ложбинкой на груди. Крупные гранаты горели на нем, словно глаза демона.
«Ты выглядишь старше, когда начинаешь злорадствовать», – хотелось сказать Клеопатре. Когда Сервилия улыбалась, вокруг глаз у нее собирались морщинки, а на веки, и без того уже отяжелевшие, набегали складки.
Кальпурния ничего не говорила – лишь слабо улыбалась. Лицу ее явно недоставало симметричности. «Может, потому, что ей не хватает энергичности приподнимать оба уголка рта одновременно?» – подумала Клеопатра. Кальпурния казалась медлительной и пассивной: женщина, уставшая от слухов, одиночества и долга.
«Долг» вообще был главным словом в лексиконе римской женщины. Клеопатре объяснили, что Кальпурния была дочерью Пизона, одного из самых богатых сторонников Цезаря. Ее выдали за Цезаря ради укрепления дружбы, и потому Цезарь мог полностью израсходовать ее приданое на удовлетворение своих военных амбиций. Пока Цезарь носился по миру, Кальпурния сидела в их небольшом городском доме в Риме, читала, пряла, как подобает добропорядочной римской матроне, и ожидала его возвращения. Когда же он вернулся, то стал проводить с женой так мало времени, как будто и не возвращался вовсе. Во всяком случае, так гласили сплетни, собранные Аммонием, а он собирал их, не вылезая из постелей богатых римлянок.
Клеопатре даже стало жаль Кальпурнию: подумать только, до чего она одинока! Нет даже детей, которые послужили бы ей утешением. Но Аммоний заверил царицу, что главная любовь в жизни римской женщины – это долг перед семьей. И если Кальпурния выполняет волю отца, оставаясь терпеливой и безропотной супругой великого Юлия Цезаря, значит, она довольна.
– Тебе легко об этом рассуждать, Аммоний. Твой дом – весь мир. У тебя есть свобода, деньги и любовь, и ты ни перед кем не отчитываешься, кроме как перед царицей Египта, – заметила Клеопатра здоровяку, состоящему у нее на службе.
Почему мужчины считают, что женщины настолько не похожи на них?
Сервилия все продолжала рассказывать про свое ожерелье.
– Эти галлы, может, и дикари, но они явно понимают толк в работе с золотом. Я никогда еще не видела такой чудесной ковки.
Она провела пальцем по золотой пластине и метнула взгляд на царицу. Та в ответ тоже смерила ее взглядом.
– Кальпурния не снисходит до того, чтобы носить золото, – рассуждала Сервилия. – Но смею заметить, царица Египта явно способна оценить хорошее украшение. Обязательно заставь Цезаря показать тебе свою коллекцию, собранную среди племен Бельгийской Галлии. Там есть потрясающие серьги. Непременно попроси Цезаря, пусть подарит их тебе. Они будут великолепно смотреться в изящных ушках царицы Египта.
– Не думаю, что галльские украшения могут сравниться с сокровищами египетских фараонов древности, хранящимися в царской сокровищнице, – небрежно сказала Клеопатра.
Эта курица что, и вправду не понимает, с кем разговаривает? Вряд ли Сервилия довольствуется только женскими интригами. Ее влияние не имело границ. То она беседует с какой-то пожилой женщиной о великолепных оливках, продающихся на Велабре – районе маленьких рынков и доходных домов, и вдруг уже вмешивается в разговор Цезаря и Брута.
Брут как раз просил Цезаря за Кассия – тот в это время полулежал на ложе в другом конце комнаты, и на лице его застыло недовольное выражение.
– Не понимаю, почему ты говоришь об этом, не упоминая главных доводов, – изрекла Сервилия, всунув голову между двумя мужчинами и подмигнув Кассию. – Он теперь женат на моей Терции, Юлий, а значит, он – родня. Дорогой, ну где же твое прославленное великодушие? Он ведь извинился. Что ему еще сделать, чтобы доказать, что он на твоей стороне?
«Например, убрать с лица это заносчивое выражение и вести себя вежливо», – подумала Клеопатра, но промолчала. Ее поразила наглость Сервилии.
За десять лет, прошедших со времени предыдущего визита Клеопатры в Рим, ее мнение о римских женщинах не изменилось. Либо они были беззаветно преданы своему долгу и не знали иной жизни, кроме узкого домашнего круга, в котором растили детей и поддерживали мужей в перипетиях их общественной деятельности. Либо же они стремились господствовать и безудержно рвались к власти. Клеопатра задумалась над тем, какой сделалась бы она, если бы ей выпало родиться обычной римлянкой, и решила, что, пожалуй, знает ответ.
– Ты так любезен с Марком Лепидом, – прошептала Сервилия Цезарю. – Я понимаю, дорогой, это потому, что он так богат. Я тебя не виню. Он тоже приходится мне свойственником. Но ты же ранишь чувства Кассия и снова отталкиваешь его от себя.
Она повернулась к Бруту.
– Ведь правда же, дорогой?
Брут качнул головой в знак согласия с матерью.
– Я уже высказал все, что мог, в его поддержку, мама, но Цезарь есть Цезарь. Им нельзя командовать.
– Тебе, может, и нельзя, дорогой, – отозвалась Сервилия, недвусмысленно взглянув на Клеопатру. – Но у женщин есть свои способы.
– Я пою для нашей царственной гостьи, чей великий предок основал великолепный город после сна, навеянного слепым поэтом, которого он так любил.
Певец Гермоген поклонился царице; упругие кудри упали ему на лицо. Гермоген встряхнул головой, эффектным жестом отбросил волосы назад и запел. Клеопатра расслабилась, слушая изумительные переливы тенора – Гермоген исполнял печальный плач Гекубы, пробудившейся после падения Трои. Клеопатре подумалось: «Поняли хоть эти невежественные римлянки, что певец упомянул Александра Великого, вдохновленного строками Гомера, в которых описывалось пасторальное рыбацкое поселение на берегу моря?» Там, где некогда Александр разбил свой военный лагерь, ныне выросла прекрасная Александрия.
Сладкозвучному голосу певца вторил нежный перезвон лиры, инструмента матери Клеопатры. Мать умерла, когда Клеопатра была совсем маленькой, так что теперь она могла вызвать звук ее лиры лишь в воображении. Хвала богам за то, что чудная греческая музыка помешала этим римлянам извергать потоки ядовитой болтовни. Отрава их речей соперничала за столом с угощениями и вином. Они что, не знают, что Клеопатра владеет их языком не хуже их самих? Что она понимает каждую завуалированную гадость, высказанную в ее с Цезарем адрес?
Песня стала чудной передышкой, хотя во время исполнения римляне продолжали шумно чавкать, не обращая внимания ни на мастерство певца, ни на нюансы исполнения. Но царица улыбнулась Гермогену и передала ему через одного из своих слуг, что приглашает его к себе и обещает египетское гостеприимство.
Ирас слишком плотно закрепил Клеопатре волосы, и царице отчаянно хотелось распустить прическу, чтобы избавиться от головной боли. Но, увы, избавления ждать не приходилось до самого конца вечера, до тех пор, пока гости не упьются вдрызг и слуги не развезут их по домам. Блистательно исполнив две песни, Гермоген удалился, повинуясь взмаху длинной руки Цицерона, которая показалась Клеопатре старой ящерицей с выступающей головой, образованной пятью указующими пальцами. Цицерон порылся в глубоких складках туники и извлек оттуда какой-то свиток. Он явно вознамерился прочитать гостям собственное произведение. Клеопатра достаточно настрадалась от этого надоедливого римского обычая, еще когда ей было двенадцать, но тогда ей дозволялось лениво дремать, привалившись к огромному отцовскому животу. Теперь же, в качестве царицы и почетной гостьи, она лишена была этой привилегии.
У Цицерона было длинное, заостренное лицо и вполне соответствующий ему нос. В свои шестьдесят он отличался худобой и, подобно многим интеллектуалам, не выказывал ни малейших признаков физической силы – во всяком случае, до тех пор, пока не принимался говорить.
– Друзья мои, – начал Цицерон, – царица, великий Цезарь, почетные гости! Я хотел бы прочесть вам отрывок философского диалога, который начал писать на моей любимой вилле в Тускане. Лишь философия смягчала горе, которое причинила мне смерть моей возлюбленной дочери.
Взгляды присутствующих тут же обратились к Публилии; та, воспользовавшись отсутствием Цицерона, привольно разлеглась на ложе и наматывала локон на палец. Если она и почувствовала общее пренебрежение, то никак этого не показала.
Цицерон тем временем продолжал:
– Я также поставил перед собою задачу повысить значение философии, этой великой дисциплины, в повседневной жизни и доказать, что мудрый человек счастлив всегда. Я посвящаю мое произведение моему дорогому другу, Марку Бруту, родственной душе, стремящейся к добродетели.
Цицерон развернул свиток и, отодвинув его так далеко, насколько позволяли длинные руки, принялся вещать:
– Может ли неизвестность или непопулярность помешать мудрому человеку быть счастливым? Нет, говорю я. Нам следует спросить себя: не являются ли слава и народная любовь, к которым мы так стремимся, скорее бременем, нежели удовольствием? Необходимо понять, что популярность не стоит ни нашей жажды, ни нашей зависти. Подлинное достоинство заключается в осознании того, что истинная слава – в том, чтобы вовсе не иметь славы! Если музыкант не искажает свою музыку в угоду чужому вкусу, то зачем же мудрецу стремиться угодить толпе? Несомненно, верхом глупости будет придавать значение мнению масс, состоящих из необразованных работников. Истинная мудрость заключается в том, чтобы презреть все наши пошлые амбиции, все глупые почести, которыми нас награждает толпа. Беда в том, что мы оказываемся неспособны это сделать до тех самых пор, пока не становится слишком поздно. И вот уже у нас появляются веские причины пожалеть о том, что прежде мы не смотрели на все это свысока. Лишь тот избегает беды, кто отказывается иметь что-либо общее с быдлом.
Клеопатра во время чтения наблюдала за Цезарем. До каких пределов должен дойти Цицерон, чтобы Цезарь оборвал его? Почему Цезарь терпит – и лишь улыбается – подобную критику своей популистской политики? И вообще зачем он терпит, чтобы его критиковали у него же в доме? Во время триумфа Цезарь раздал тремстам двадцати тысячам римских граждан по сотне денариев, десяти пекам зерна и шести пинтам оливкового масла каждому – необычайное проявление щедрости, усилившее любовь народа к нему. Аммоний рассказывал, с какой благодарностью смотрели римляне на Цезаря, когда он сказал, что желает поделиться славой и богатством с простыми гражданами. Как смеет этот человек критиковать действия Цезаря?
Клеопатра внимательно оглядела лица гостей. Людей, которые безмятежно улыбались, когда вкушали его угощение, пили его вино и принимали подарки от его любовницы и союзницы. Брут внимательно слушал Цицерона, как будто никогда и ни от кого прежде не слыхал столь мудрых откровений. Сервилия сражалась с яйцом всмятку. Кассий, если Клеопатра не ошиблась, пожирал взглядом хорошенькую жену Брута, Порцию. Прочие по-прежнему были заняты едой. Никто не возразил Цицерону ни единым словом, даже сам хозяин дома. Он лишь иронически улыбнулся Цицерону, как если бы оратор вздумал декламировать свой диалог перед обитателями скотного двора.
Цицерон же перескочил к другой теме – рассуждениям о тяготах изгнания, очередная скрытая критика в адрес Цезаря, которого Цицерон обвинял в том, что после войны в Греции он, великий оратор, вынужден был одиннадцать месяцев просидеть в Брундизии.
– Кроме того, вряд ли можно доверять мнению общества, отсылающего прочь хороших и мудрых людей, – произнес Цицерон.
Клеопатре пришлось подсунуть под себя ладони, чтобы сдержаться. У нее внутри все переворачивалось – и от выпадов Цицерона, и от сентиментального благодушия Цезаря. Неужели никто ничего не понимает? Или все все понимают, но им доставляет удовольствие слушать оскорбления в адрес человека, выказавшего себя лучшим из них? Клеопатра подозревала, что верно второе. Итак, они решили испытать милосердие и великодушие Цезаря в узком кругу. Будь ее воля, она сейчас кликнула бы стражников Цезаря, ужинавших у самого входа, и перебила бы всех гостей до единого.
– Следующая часть диалога – это дискуссия о том, как даже слепому стать счастливым, – изрек Цицерон, разворачивая еще один свиток.
Клеопатра подумала, что сейчас самый подходящий момент связать Цицерона, заткнуть ему рот и вырвать ему глаза. Возможно, римляне любят представления, но они не в силах соперничать с театральностью, изначально присущей грекам. Клеопатра была разгневана – и вместе с тем глубоко встревожена. Цезарь без малейших колебаний шагал по континенту, завоевывая страны и народы. Но он и пальцем не пошевелил, чтобы приструнить этих наглых римлян у себя в доме. Непременно нужно будет потом расспросить его, что им движет.
Клеопатра надеялась, что Цезарь отошлет Кальпурнию обратно в город, а сам останется ночевать на вилле. Она даже собиралась настаивать на этом. К счастью, никто из гостей не должен был заночевать здесь, поскольку вилла была целиком занята свитой Клеопатры.
Клеопатре трудно было дышать. Ее терзало удушье, как будто тяжелые красные складки шатра были беременны какой-то огненной водой, которая должна была вскоре рухнуть ей на голову. Если достаточно долго просидеть с римлянами в одном помещении, запах изготовленного из мочи отбеливающего средства, исходящего от всех их одежд, неизбежно давал о себе знать. Хотя сами римляне, похоже, оставались нечувствительны к этому и хоть они и забивали этот запах дорогостоящими маслами и благовониями, чувствительное обоняние Клеопатры с легкостью улавливало его.
Она знала, что ей еще придется поплатиться за то, что она вышла посреди выступления Цицерона. Но Клеопатра просто не могла больше терпеть. Царица указала пальцем на Хармиону, и та мгновенно встала.
– Мне нужно подышать, – проговорила Клеопатра, ни к кому конкретно не обращаясь.
Сумерки окрасились призрачным свечением. На темно-синем вечернем небе пылали подсвеченные солнцем облака. Клеопатре показалось, будто что-то рождается в вышине. Какая-то новая звезда в далеком небе просачивается сквозь туман и являет себя вселенной.
– Тебе нехорошо?
Хармиона потрогала лоб Клеопатры, проверить, нет ли у нее жара, – в точности как в ту пору, когда царица еще была маленькой девочкой.
– Пожалуйста, Хармиона, распусти мне волосы. Мне словно обручем сдавило голову.
– Я этого болтливого евнуха выпорю, – заявила Хармиона, вынимая шпильки, удерживавшие густые темные волосы Клеопатры, что были уложены на затылке в тугой узел.
В Риме Клеопатра предпочитала носить простые прически, хотя те местные женщины, что были побогаче, похоже, не меньше египетских проституток любили делать из своих волос что-нибудь эдакое. Клеопатра подумала, что их, наверное, разочаровала ее сдержанная элегантность; они, небось, ожидали, что она будет каждый день напяливать на себя церемониальные наряды.
Царица закрыла глаза и позволила себе расслабленно прислониться к животу Хармионы, пока та растирала ей виски.
– Прости!
Порция покинула пиршество и теперь со смущенным видом стояла перед царицей.
– Я не заметила, что твоя придворная дама вышла вместе с тобой, – сказала она. – У тебя был такой вид, будто тебе нездоровится, вот я и решила, что тебе может понадобиться помощь.
Молодая женщина приходилась ровесницей Клеопатре; у нее были светло-карие глаза, оливковая кожа, темные, красиво изогнутые, словно крылья ястреба, брови. Клеопатра попыталась найти в ней сходство с ее отцом, Катоном, но, когда они встречались – двенадцать лет назад, – Катон уже был старым и усталым. Порция же была красива; серьезный, нахмуренный лоб лишал ее лицо всякой застенчивости. Клеопатра слыхала, будто Порция увлекалась науками, как и ее супруг, Брут.
– Ты очень добра, – отозвалась Клеопатра. – Пожалуйста, посиди со мной немного. Я рада, что нам представился случай поговорить наедине. Я хотела сказать, что искренне скорблю о смерти твоего отца. Когда моего царственного родителя одолевали многочисленные горести, сенатор с небывалым великодушием предложил ему помощь. Моего отца порадовало столь теплое отношение со стороны такого уважаемого римлянина.
– Это очень любезно с твоей стороны – помнить о нем. Веришь ли, о тебе тоже говорили в доме Катона.
– Как так?
Клеопатра попыталась представить себе, что сказал бы Катон о ее любовной связи с Цезарем.
– Когда отец вернулся после своего назначения на Кипр, он рассказал всем своим детям о маленькой египетской царевне, которая, невзирая на юный возраст, говорит на многих языках и действует словно дипломат. Он постоянно ставил тебя в пример, когда бранил нас за несделанные уроки!
– И как, вы стали учиться лучше?
– Нет, царица, скорее, мы все склонны были сдаться перед лицом твоих многочисленных достоинств. Мой отец был необыкновенно добродетельным человеком и таким же необычайным идеалистом. Боюсь, я никогда не смогла бы по-настоящему порадовать его.
– Но ведь твой брак, несомненно, его обрадовал!
Порция не ответила. Она уставилась себе под ноги, потом Клеопатре под ноги и лишь после этого взглянула царице в глаза.
– Я знаю, что мой отец послужил причиной смерти твоего дяди, царя Кипра.
– Царь прервал свою жизнь по собственному желанию, – отозвалась Клеопатра. – Нет нужды извиняться.
– Но присутствие моего отца подтолкнуло его к этому. Во всяком случае, так мне сказали. Несомненно, это причинило большое горе его брату, твоему отцу.
– Да, его смерть послужила толчком к мятежу в Александрии. Наши подданные пришли в ярость из-за того, что мой отец не смог помочь своему брату. Но что он мог сделать? И все же, напоминаю тебе, твой отец сенатор предложил нам помощь. Мы не держим на него зла.
Клеопатра вспомнила, при каких унизительных обстоятельствах произошла встреча ее отца с Катоном. Старик римлянин, хотя и был человеком честным и вроде бы действительно хотел помочь, не только вынудил египетского царя явиться к нему в личные покои – что уже само по себе было достаточно унизительно, – но еще и принял его, сидя на горшке, поскольку страдал от дизентерии. Слуги царя готовы были убить сенатора на месте. Подумать только, от каких неприятностей они избавили бы Цезаря, если бы и вправду прикончили Катона! Но эта женщина, столь искренне извиняющаяся за пресловутую твердолобость своего отца, действительно ни в чем не виновата.
– Ты очень добра и любезна. Да благословят тебя боги за твое великодушие, – проговорила Порция. – Это большое облегчение для меня – узнать, что ни ты, ни покойный царь Египта не испытывали враждебности к моему отцу.
– Но ведь это естественно, – возразила Клеопатра. – Некоторые обвиняют хозяина этого дома – моего друга, союзника и покровителя – в смерти твоего отца. А ты, похоже, тоже не держишь против него зла.
– Дорогая царица, если бы Цезарь не был столь благороден и милосерд, я сейчас была бы вдовой, а мои дети – сиротами. Мой отец был не таков, чтобы пресмыкаться перед чем бы то ни было, будь то человек или государственный строй. Он знал, что, совершив самоубийство, лишит Цезаря удовольствия проявить великодушие. Он прервал свою жизнь по собственным соображениям и в соответствии с собственными замыслами. Я почитала его при жизни и буду чтить его память теперь, когда он мертв. Но что я могу сказать против Цезаря? Несмотря на все их философские разногласия, Цезарь относится к моему мужу отечески.
– А твой муж? Он искренне примирился со своим духовным отцом?
(«И если это вправду так, то почему же Брут так близок с Цицероном? И почему он с улыбкой слушает, как Цицерон оскорбляет Цезаря, вместо того чтобы взяться за меч, как это сделал бы истинный сын?»)
– Он никогда не утратит своей мальчишеской привязанности к Цезарю. Я советую ему сосредоточиться на их общих интересах, а не на том, что их разделяет.
– Ты и сама мыслишь, как философ, – сказала Клеопатра. – Лучше бы сегодня вечером вместо нынешнего оратора выступила ты.
– Это слишком щедрый комплимент. Я просто научилась понимать истинную цену политиков и войны, – отозвалась Порция. – Такова доля женщин – страдать от козней и разрушений, производимых мужчинами.
«Да, – подумала Клеопатра. – Для женщины, не рожденной царицей и не имеющей собственной власти, это и вправду становится Судьбой».
Через маленькое квадратное окошко своей комнаты Клеопатра смотрела, как Цезарь сдержанно поцеловал Кальпурнию, прежде чем позволить слуге усадить ее в легкую открытую двуколку. Цезарь и Кальпурния обращались друг с другом официально, скорее как племянник и матрона, чем как муж и жена. Клеопатра предполагала, что они провели вместе слишком мало времени и остались друг для друга почти незнакомцами. Вежливыми, но отстраненными деловыми партнерами.
Клеопатре не доставляло радости думать о препятствиях, мешающих ей построить свое счастье с Цезарем. Его жена. Ее брат-муж, трусливый тринадцатилетний мальчишка, сидящий под надзором в Александрии. Римские законы. Да, это все мешает. Но любые препятствия можно устранить.
Последний экипаж выехал со двора; верховые держали факелы, освещая путь, и яркий свет образовал в непроглядной ночи светящийся туннель. На краткий миг Клеопатра испытала облегчение, но затем она вспомнила, что ее вечер еще не окончился. Она встретила Цезаря в коридоре, держа в руках небольшую свечу.
– Пойдем взглянем на нашего Маленького Цезаря, – сказала Клеопатра.
Она поняла, что не в состоянии спокойно отдыхать по ночам, если предварительно не убедится, что с ее сыном все в порядке. Особенно здесь, в этом доме, где только что пировало столько врагов Цезаря. Хотя никто из них не упомянул о ребенке – должно быть, из уважения к Кальпурнии, – все знали, что Клеопатра привезла отпрыска в Рим и что, с согласия самого Цезаря, мальчик носит имя своего отца. Конечно же, они не думали, что Клеопатра назвала ребенка Цезарем из простого уважения к политическому союзнику. Но Клеопатра с Цезарем решили, что они не будут делать никаких официальных объявлений касательно их сына, во всяком случае до тех пор, пока Цезарь не обеспечит условия для быстрого и безупречного развода.
– А как насчет супружеской измены? – как-то раз поинтересовалась Клеопатра. – Кажется, это очень популярный довод при римских разводах.
– Однажды я уже использовал этот довод, – отозвался Цезарь. Он имел в виду свою вторую жену, которую поймали на горячем с его другом Клодием. – Кроме того, никто не поверит в измену Кальпурнии.
Один из доверенных солдат Цезаря стоял у дверей детской комнаты; левая половина лица легионера была изуродована шрамом. На стене отчетливо вырисовывалась тень меча, висевшего у солдата на боку. Он подождал, пока Цезарь обратится к нему, а затем правая сторона его лица осветилась улыбкой.
– Я разрешил царевичу подержать мой меч, диктатор. Я подготовлю его, чтобы он мог заниматься с вами.
– Позаботься, чтобы мой сын вскорости стал таким же искусным стрелком, как галлы, Требоний.
Требоний сделал шаг в сторону, позволяя им пройти. Клеопатра спросила у Цезаря:
– Может, солдату позволят хотя бы сидеть во время ночного дежурства?
– Они привыкли проходить по тридцать миль в день, моя дорогая, – шепотом сообщил Цезарь. – Всего лишь простоять ночь – это для них роскошь.
Две служанки-египтянки спали на толстых тюфяках в комнате мальчика и дружно посапывали. Они не проснулись; видимо, ребенок их утомил. Царевич лежал в маленькой кроватке с высокими бортиками. Клеопатра не любила эту кроватку – она напоминала ей саркофаг. Малыш тихо дышал во сне. Лунный свет играл на блестящей детской коже.
– Ты только взгляни, какой он серьезный, – сказал Цезарь.
Это было правдой; при взгляде на мальчика казалось, будто он ведет философскую беседу с самим собой или с каким-то незримым собеседником, привидевшимся ему в сновидении. Изящные тонкие брови сведены к переносице, и видно было, как глазные яблоки перекатываются под веками.
– Он сочиняет опровержение Цицерона, – прошептала Клеопатра.
Цезарь не ответил; он лишь осторожно провел пальцем по нахмуренному лобику сына, разглаживая складку.
– Ну, будет, будет, мой царевич. Тебе не о чем беспокоиться. Твой отец позаботится о тебе.
– Его отец сперва должен позаботиться о себе самом! – прошипела Клеопатра. Она поцеловала ребенка в мягкую, влажную щеку, вдохнула его запах и двинулась к выходу из комнаты, жестом позвав Цезаря за собой.
Клеопатра провела его в спальню, отослав своих служанок. Она услышала, как Цезарь произнес: «Доброй ночи», задержавшись в дверях, чтобы отдать плащ слуге, а затем вошел в спальню следом за Клеопатрой. Звякнули мечи телохранителей: солдаты заняли свой пост. Цезарь говорил, что вся эта стража – для нее. Сам Цезарь не желал обзаводиться охраной, невзирая на мольбы Клеопатры и своих сторонников. «Любовь римского народа – вот моя стража», – говорил он.
– Ты напряжена, Клеопатра. Может, примешь ванну?
– Я не напряжена, Цезарь. Я обеспокоена.
– Ты чем-то недовольна?
– Я недовольна тем, что сижу сложа руки, в то время как враги моего партнера и союзника нападают на него в его же собственном доме, а он в ответ лишь продолжает кормить и поить их.
– Ты имеешь в виду то, что читал Цицерон? – Цезарь небрежным взмахом отмел все тревоги Клеопатры. – Он хотел упрекнуть меня за то, что я пользуюсь популярностью людей, которых он сам считает отвратительными. Он – усталый и пресыщенный старик, дорогая. Из числа тех, кого уважают и на кого не обращают внимания.
– Ты часто говорил о его влиятельности. Он что, внезапно лишился ее? – поинтересовалась Клеопатра.
Она извлекла последнюю шпильку из волос, которые Хармиона уложила более свободно, и те водопадом пролились ей на плечи. Клеопатра с удовольствием прекратила бы этот разговор и занялась бы расчесыванием волос, чтобы избавить голову от напряжения, но вместо этого она продолжила:
– А как насчет Брута? Он близок с Цицероном. Он выступал против тебя вместе с этим Кассием. На редкость ворчливый и заносчивый тип. Почему ты привечаешь своих врагов, Цезарь? Почему ты подпускаешь их так близко?
– Брут – человек мыслящий, и его враждебность, равно как и враждебность Цицерона, порождена преданностью государственному строю, их возлюбленной умирающей Республике, а не плохим отношением ко мне лично. Кассия же я терплю потому, что меня упросили это сделать Брут и Сервилия, а они хоть и не являются мне родней в прямом смысле слова, но все же много лет были мне близки.
Клеопатра сняла изумрудную пряжку, удерживавшую складки ее хитона, распахнула полы и позволила ткани соскользнуть к ногам, оставив ее раздетой.
– Брут – твой сын?
– Нет-нет, он копия своего отца и деда и всех прочих Брутов, что с незапамятных времен были добродетельными и законопослушными республиканцами. Разве ты не видишь, он ни капли на меня не похож, в то время как наш сын унаследовал все мои черты?
– Пожалуйста, дорогой, сейчас не время сердиться. Я – не враг тебе. Я люблю тебя. Но я уверена, что на сегодняшнем пиршестве я была одинока в своей любви к тебе.
– Думаешь, моя жена меня не любит?
Клеопатра не поняла, то ли Цезарь поддразнивает ее, упоминая о своей жене, то ли ему действительно интересно, что она ответит.
– Твоя жена – женщина загадочная. Я не возьмусь утверждать, будто понимаю ее чувства. Но в том, что касается прочих, я уверена. Да, они не любят тебя. Почему ты, покарав смертью моих врагов, со своими обращаешься так, словно это твои домашние любимцы или заблудшие дети?
– Потому что ты молода и уязвима и нуждаешься в защите. Я же стар. Я прожил достаточно долго. Я ни в чем не нуждаюсь. У меня уже есть все.
«У тебя еще нет того, что мы задумали вместе!» – хотелось крикнуть Клеопатре, но кричать на Юлия Цезаря представлялось неуместным. Он что, пытается таким образом дать ей понять, что эти замыслы были лишь ее мечтами, а не их общими? Что она – просто еще один человек, которого он расположил в свою пользу?
– А Сервилия? Ее ты тоже причисляешь к предателям? – спросил он.
– Она – мать Брута, – ответила Клеопатра. – Для матери сын важнее любовника.
Клеопатра понимала, что Цезарь скоро применит эту формулировку к ней самой, но не собиралась брать свои слова обратно.
– Это универсальное правило? Должен ли я ожидать такого и от тебя?
– Ожидал бы ты этого от своей матери?
– Да, – сказал Цезарь. – Конечно.
– Тогда я не стану просить прощения за то, что является обычным женским инстинктом. Не будь мы такими, мужчины могли бы и не выжить.
– Но тогда почему же ты так ворчишь, дорогая? – спросил Цезарь. – Тебя замучил Цицерон? Ну да, он бывает отвратителен. Я это понимаю. У него неважное здоровье, и это побуждает его критиковать людей.
– Со мною он как раз любезен. Ему хочется заполучить те редкие манускрипты, которые я привезла из Библиотеки. Но кроме того, он болтает о нас у нас за спиной. Аммоний слыхал об этом из многих источников.
– Ну что поделаешь, таков уж Цицерон. Он очень критически настроен по отношению ко всем женщинам, кроме своей дочери, Туллии, которая за всю жизнь не произнесла ни единого слова, которое вызвало бы у него раздражение. Он считает, что в этом и заключается величие женщины. Он просто не способен благосклонно относиться к женщине с твоим положением в обществе и твоим характером.
– Вряд ли ему часто приходилось общаться с царицами, – возразила Клеопатра.
– И я полагаю, что он намеревается и дальше продолжать в том же духе.
– Я презираю его. Он во всеуслышание твердит о том, что нужно вести чистую, простую жизнь, отречься от богатства, отказаться от всех общественных почестей, а сам при этом владеет домами по всей Италии и наживает состояние, распоряжаясь постройкой твоего нового Форума.
– Что, вправду?
– Ты же знаешь, что да.
– А ты откуда знаешь? Неужели сам Цицерон сообщил тебе об этом?
– Я же говорила тебе, Цезарь, что плачу немалые деньги, чтобы видеть и слышать все, что происходит в городе, хоть ты и не позволяешь мне пройтись по его улицам.
– Я защищаю тебя и мальчика – и от физической опасности, и от слухов, которые могут сделаться еще зловреднее. И я вынужден настаивать, чтобы ты прекратила так беспокоиться из-за Цицерона.
– А как насчет всех остальных? Ты не боишься, что однажды они снова поднимутся против тебя? Единственное, чего им не хватает, – это вожака.
– Клеопатра, ну что они могут мне сделать? Я выжил в трех сотнях битв. Ты знаешь об этом? Можешь ли ты себе представить, что это такое – три сотни битв? Чего же мне еще страшиться?
«Например, потерять меня», – подумала Клеопатра. А вслух спросила: