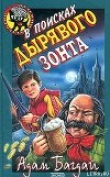Текст книги "Зонт Святого Петра"
Автор книги: Кальман Миксат
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц)
Кальман Миксат

ЗОНТ СВЯТОГО ПЕТРА
Перевод Е. Терновской и Е. Тумаркиной
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЛЕГЕНДА
Веронку увозят
В Галапе умерла вдова учителя.
Что ж, когда сам учитель преставился, могильщикам и то ни капли не перепало на помин его души; а когда за мужем по пятам пошла вдова, тут и вовсе надеяться было не на что. Остались после нее коза, гусь на откорме да девчушка о двух годках. Гуся бы еще недельку покормить, не больше, но бедной учительше, как видно, даже это оказалось не под силу. Подумаешь иной раз о гусе, да и скажешь: поторопилась бедняга богу душу отдать! А вспомнишь о ребенке – нет, поздно она померла. Девочке этой и вовсе не следовало родиться. Уж лучше бы господь призвал учительшу к себе вместе с ее несчастным мужем. (Боже, до чего же красивый был у него голос!) Дитя появилось на свет уже после смерти отца – через месяц, самое позднее, через два. Пусть бы язык у меня отсох, если я сказал о вдове что-либо худое. Сказал или хотя бы просто подумал.
Была она хорошая, честная женщина – одно непонятно: зачем ей понадобился этот последыш? Насколько бы легче ей было покинуть наш грешный мир, если б могла она унести с собой свое дитя, а не оставлять девочку здесь одну.
Да и не подобало ей уж этакое, прости господи.
Ведь был у них совсем взрослый сын – капеллан божьей милостью. Был он добрый сын, вот только не помогал еще матери, ибо сам был всего лишь капелланом у некоего чуть не нищего приходского священника в далекой Словакии. Недели две, как прошел слух, что получил он самостоятельный приход в деревушке по имени Глогова, затерявшейся где-то среди гор Шелмецбани и Бестерце. Нашелся в Галапе прыткий мужичок, господин Янош Капицани, который в молодости своей служа погонщиком волов, побывал однажды в тех краях, – и по его рассказам выходило, что Глогова – местечко совсем никудышное.
И вот теперь, когда, став священником, сын мог бы хоть мало-мальски помогать матери, вздумалось ей умереть.
Увы, никакими стенаньями не воскресить усопшую, а посему отмечу только, – и пусть это послужит к чести славных жителей Галапа, – что схоронили бедняжку вполне прилично. Правда, денег на погребение собрали маловато, даже козу пришлось продать, чтобы свести концы с концами, но гусь остался, а так как кукурузы не хватило, он вскоре отощал, перестал задыхаться, вынужденную неповоротливость из-за раскормленного брюха сменил на былое проворство – словом, гусь был спасен от близкой гибели смертью другого существа. Такова мудрость всевышнего: лишая жизни одного, он дарует жизнь другому, ибо, поверьте, в книги небесной бухгалтерии твари разумные и неразумные внесены с одинаковой точностью, и заботятся о них с такой же старательностью, как о королях или герцогах.
Создатель мудр, милосерд и всемогущ во веки веков, однако господин галапский староста тоже шишка немалая. Тотчас после погребения он распорядился, чтобы крохотную девчурку, при крещении нареченную Веронкой, десятский каждый день переводил бы из дома в дом и чтоб хозяева кормили ее как полагается.
– И до коих пор так пойдет у нас, господин староста? – волновался народ.
– А покуда не изволю я по-иному распорядиться, – отрезал Михай Надь.
Так продолжалось дней десять, как вдруг пошла молва, будто почтенные хозяева Мате Биллеги и Ференц Коцка отбывают в Бестерцебаню продавать пшеницу – потому, как сказали они, тамошние евреи не набрались еще разума, не то что наши.
Михай Надь не упустил такой оказии:
– Зерно повезете, и дитя с собой возьмите, отвезите к брату-священнику. Эта самая Глогова попадется вам где-нибудь на пути.
– Где ж на пути, откуда ей быть на пути? – возражали оба хозяина.
– Надо, чтоб была на пути, – и точка! – решил староста.
Как ни отказывались, какие увертки ни придумывали: и крюк большой давать надо, и неудобство какое в дороге – да не отвертелись, пришлось подчиниться. Приказ есть приказ. И вот в среду нагрузили воз господина Биллеги мешками доверху, а на самый верх поставили лукошко и усадили в него Веронку и гуся – наследство девочки. Бабы с верхнего конца деревни напекли коврижек, нажарили пирожков, наложили полную торбу сушеных груш и слив в дорогу сиротке, отправлявшейся неведомо куда, в чужой, страшный мир; когда тяжело нагруженный воз тронулся в путь, даже всплакнули бабы, жалеючи малютку, которая не знала, куда и зачем ее везут, и, широко улыбаясь, глядела, как тронулись с места лошади; сама-то она все так же сидела в лукошке поверх мешков, а навстречу ей вдруг побежали дома, сады, поля и деревья.
Глогова в прошлом
Не один господин Капицани повидал на своем веку Глогову – пишущему, эти строки тоже приходилось бывать там. Это бесплодный, унылый край, где средь голых скал, в тесном ущелье, приютилось маленькое селение.
На много миль окрест нет там не только железной, но даже просто сносной проселочной дороги. Кажется, в последнее время между Бестерце и Шелмецбаней стала колесить какая-то кофейная мельница, однако до Глоговы и она не доходит. Полтысячелетья, не меньше, понадобится на то, чтобы Глогова оказалась в числе цивилизованных поселений.
Почва в той стороне глинистая, бесплодная, неуступчивая. Говорят, она хороша лишь под овес и картофель, все другое ей не под силу – да и это, впрочем, буквально выбивать приходится из матери-земли.
Нет, не мать земля эта, а мачеха. Ее утроба набита камнями, а поверхность растрескалась и изборождена канавами да рытвинами, по краю которых колышется белый ковыль, словно седые волоски на подбородке дряхлой старухи.
Быть может, она очень стара, эта земля? По всей вероятности, не старше, чем любая другая. Она лишь быстрей износилась. Там, внизу, золотом колосится равнина, – ведь многие тысячи лет она питала только былинки, а тут росли гигантские дубы, и не диво, что раньше она уходилась.
Да, это край нищеты и нужды, но вместе с тем он полон какого-то неприхотливого очарования, своеобразной поэтической прелести. Неказистые избенки хорошеют, окруженные могучими утесами. И не к месту пришлись бы здесь роскошные замки – их замысловатые башни только заслонили бы собой величавую красоту скал.
Воздух окрест напоен ароматом бузины и можжевельника. Других цветов здесь нет. Разве что в чьем-либо палисаднике поднимет головку белая или алая мальва, которую босоногая девчонка-словачка с конопляными волосами поливает по утрам из бадейки.
Еще и сейчас вижу я, словно наяву, маленькую словацкую деревеньку тысяча восемьсот семьдесят третьего года – тогда-то я и посетил ее, – ее избенки, огородики, засеянные люцерной и обсаженные кукурузой, а в середине одну-две сливы, подпираемые жердями. Плодовые деревья всегда ведь делают свое дело, будто сговариваются: «А ну-ка, подкормим бедных словаков!»
В тот год, когда я там был, в Глогове скончался священник, и мне вместе с исправником довелось принимать его наследство. Это не составило для нас большого труда: после усопшего осталась лишь ветхая мебель да несколько плохоньких сутан.
Прихожане оплакивали своего пастыря.
– Добрый был человек, – говорили они, – вот только хозяйствовать не умел. И то, конечно, правда, не из чего было ему хозяйствовать.
– Что же вы своему батюшке не платили побольше? – упрекнул сельчан исправник.
Долговязый словак с заплетенными в косу волосами лихо, поддернул на брюхе кушак и ответил:
– Священник-то не наш служитель, а божий. Пусть всяк своему слуге и платит.
Описав наследство, мы решили, пока кучер запряжет, заглянуть на минутку в школу – исправник охотно играл роль покровителя наук.
Школа помещалась в небольшом и ветхом домишке, естественно, крытом соломой, – в Глогове удостоился дранки лишь один господь бог; однако и его жилище было более чем скромно: колокольни ему не досталось, ее заменяла внизу простая перекладина с колоколом.
Учитель ждал нас во дворе. Если память мне не изменяет, звали его Дёрдь Майзик. Это был крепкий, статный мужчина в полном расцвете сил, с умным, интеллигентным лицом и прямой, искренней манерой речи. Он как-то сразу располагал к себе.
Учитель привел нас в класс; аккуратно причесанные девочки сидели слева, мальчики – справа. Когда мы вошли, дети с шумом встали и певуче прокричали:
– Витайте, пани, витайте! (Здравствуйте, господа).
Дети были румяны, пухлощеки; все они уставились на нас широко раскрытыми глазенками одинакового орехового цвета. Исправник задал им несколько вопросов, разумеется несложных: един ли бог, как называется наша страна и что-то еще в этом роде, – однако детей они застали врасплох и заставили призадуматься.
Но мой принципал, человек нестрогий, снисходительно потрепал учителя по плечу:
– Я доволен, amice.
Учитель поклонился и с непокрытой головой проводил нас во двор.
– Славные детишки, – весело резюмировал исправник, – но скажите на милость, domine frater[1]1
Почтенный брат мой (лат.).
[Закрыть], почему они все так похожи друг на дружку?
Глоговский наставник немного смешался, но затем его славное румяное лицо озарилось искренним весельем:
– Видите ли, сударь, летом все мужское население Глоговы уходит в долину на полевые работы, и я до самой осени остаюсь здесь один как перст. – На губах его заиграла лукавая улыбка. – Вы меня поняли, сударь?
– И давно вы здесь? – спросил, оживившись, исправник.
– Четырнадцать лет, с вашего позволения. Судя по вопросу, вам угодно было понять.
Этот краткий диалог полностью сохранился в моей памяти до сегодняшнего дня. Усевшись в коляску, мы с исправником то и дело возвращались к нему и долго смеялись меж собой. Дома исправник частенько преподносил его в компании как самое изысканное лакомство.
Недели через две пришла весть, что в Глогову назначен новый священник, некий молодой капеллан по имени Янош Бейи. Исправник в связи с этим, я как сейчас помню, заметил:
– Теперь, по крайней мере, наш наставник не будет так одинок в летнее время.
Новый священник
В Глогову прибыл новый священник. Привезли его глоговяне на единственной да притом разбитой телеге, и тащили ее две криворогих коровенки. Церковный сторож Петер Славик даже доил их по дороге в бадейку и угощал молоком молодого попа.
– Молочко что надо, – приговаривал Славик, – особливо у Бимбо. Такое молоко хорошее – нектар, да и только!
Весь скарб нового священника состоял из некрашеного деревянного сундука, узла с постелью, двух палок и трубочных мундштуков, перевязанных бечевкой.
По пути в деревнях приставали к глоговянам:
– Что уж вы своему батюшке получше упряжки не собрали?
Как ни крути, а глоговяне осрамились. И тогда они свалили все на молодого попика:
– Чего там! Ему и этого много. Тут бы одно теля и то справилось.
Что правда, то правда: его преподобие Янош Бейи не привез с собой в Глогову ничего лишнего, но, надо сказать, и в Глогове он не встретил особого комфорта: достался ему обветшалый приходский дом, который родня его предшественника весь обобрала дочиста, оставив лишь собачонку, любимицу покойника; собака эта по виду да по шерсти была такая же, как все другие, но благодаря своей злосчастной натуре пользовалась незавидной славой и занимала в деревне особое положение; потеряв своего кормильца, она тем не менее сохранила его привычки и в полдень отправлялась по деревне в обход, заглядывая подряд во все кухни, – как ходила, бывало, со своим покойным хозяином, который ежедневно приглашал сам себя на обед то в один, то в другой дом, по очереди, и приводил с собой свою собаку.
Собака по имени Висла (и зачем было так далеко ходить за названием реки, когда прямо под боком, за околицей, течет своя, сверкающая Бела Вода?) вскоре с горечью поняла, что вдвоем с батюшкой им перепадало намного больше; а ведь прежде, со своей собачьей философией, она полагала, что его преподобие объедает ее. Так-то оно так, но у него зато были авторитет и влияние! А теперь Вислу гнали ото всех кухонь, прежде чем она успевала приняться за дело, а подчас и доброго пинка не жалели.
Одним словом, пес был тощ и унижен, когда прибыл новый священник; церковный сторож показал прибывшему его будущее жилище: четыре голых стены, заросший лебедой сад, пустой хлев и пустой закут. Бедный молодой человек улыбнулся:
– Неужели это все мое?
– Все ваше, все, что вы здесь видите. И вдобавок еще собака, – вполне благодушно ответствовал Петер Славик.
– Чья это собака?
– Она, значит, вроде как наследство от упокойника – ихнего преподобия. Хотели мы поначалу прикончить непотребство это, да духу ни у кого не хватило, – а ну как углядит с небес старый батюшка, да, не ровен час, привидится из-за твари какой-то.
Собака смотрела на священника кроткими, печальными глазами, словно молила о чем-то. Возможно, в столь меланхолическое настроение привел ее вид сутаны.
– Я оставлю ее у себя, – объявил молодой поп и, нагнувшись, потрепал по спине отощавшее животное. – Хоть одно живое существо будет рядом.
– Дело хорошее! – осклабился Славик. Для крестьянина ведь нет большего удовольствия, чем подразнить попа. – Надо же начинать с чего-то. Оно, конечно, бывает, что человек перво-наперво тем обзаведется, что сторожить надобно, а потом уже сторожем. Ну, и этак неплохо, ваше преподобие.
Священник улыбнулся, а улыбаться он умел сердечно, как девушка. Он и сам понимал: круг деятельности старой Вислы будет весьма ограничен и в обществе собак она займет положение крайне обособленное.
Между тем на священниковом подворье собиралось все больше народу; молодухи останавливались поодаль и переговаривались:
– Боже ж мой, такой молоденький, а уже батюшка. Мужчины подходили ближе и здоровались с ним за руку:
– С приездом! Ну, вам тут будет неплохо.
– Хоть до гробовой доски живите с нами! – пищала старая бабка.
– И хорош и пригож! Славной женщиной была мать, родившая такого сына, – сказала женщина в летах.
Одним словом, всем по душе пришелся новый духовный отец. Он приветливо и спокойно побеседовал с людьми постарше, а затем, пожаловавшись на усталость, отправился к учителю, куда временно определили его на квартиру, пока он не приведет доставшийся ему приходский дом в более приличное состояние и пока не начнет получать какие-нибудь доходы.
К учителю его провожала уже только местная знать, имевшая прямое касательство к церковным делам: Петер Славик, глоговский набоб Михай Гонгой и мельник Дёрдь Клинчок.
Молодой священнослужитель довольно подробно расспросил их о суетных мирских делах, и все, что узнал, записал в блокнот, чтобы произвести кое-какие расчеты.
– Сколько душ у вас в деревне?
– Без малого пятьсот.
– А как платят священнику?
Достойные люди без утайки сообщили, сколько причитается его преподобию дров, сколько мер ржи, сколько «zlevki»[2]2
Zlеvkа – вино, которое получает священник от виноградарей; оно сливается в общий сосуд а представляет собой весьма необычный напиток. (Прим. автора.)
[Закрыть]. Молодой поп становился все грустней и грустней.
– Маловато, – заметил он удрученно. – Ну, а штола какая?
– Штола немалая, – ответил всезнающий Дёрдь Клинчок, – И за погребение полагается – правда, смотря какой покойник; ну и свадьба свадьбе рознь, хотя, сами понимаете, на такое люди не скупятся… А за крестины целый пенге набегает… Это уже кое-что.
– А сколько свадеб бывает в году?
– Ха, это у нас от картошки зависит. Много картошки – много свадеб. Все от урожая. Четыре-пять, почитай, всегда наберется.
– Совсем мало. А смертей?
– Ха, а это уж от того, какая картошка уродится. Больная, картошка – много народу помирает, а как хорошая – никому помирать неохота. Нет дураков помирать при хорошей картошке… Оно, конечно, каждый год одного-двоих деревом в лесу пришибает, или еще какая беда случится – скажем, опрокинулся человек в овраг с телегой вместе и тяжкою смертью кончается. В наилучший год до восьми покойников бывает.
– Ну, и не все ж покойники к батюшке попадают! – вставил глоговский набоб, гордо поправляя косу, заколотую сзади гребешком.
– Как же так? – с недоумением спросил священник.
– Кой-какие покойники и вовсе не попадают на кладбище. Загрызет волк человека, а о том не подумает, чтоб в приход донести.
– А иной летом в чужих краях пропадет, – добавил от себя Дёрдь Клинчок, – и об тех до старосты только цидульки доходят.
– Перспектива, признаться, неважная. А как обстоят дела с землей? Сколько церковной земли в приходе?
На этот вопрос отвечать пожелали все трое сразу. Дёрдь Клинчок оттеснил Петера Славика и сам стал перед служителем Божиим.
– Земли? Сколько земли, спрашиваете? Так этого у нас, сколько душе угодно… Надо вам сто хольдов… Да что там сто! Пятьсот берите! – восторженно выкрикнул Клинчок. – Мы своего батюшку землей не обидим!
Лицо священника заметно просветлело, но этого не мог стерпеть зловредный Петер Славик.
– У нас, изволите ли видеть, земли до сей поры еще не поделены. Нет у нас на землю кадастровой книги. Быть-то она была, да в тысяча восемьсот двадцать третьем году сгорела заодно с сундуком общественным. Теперь у нас такой порядок: бери себе каждый, сколько сподручно, то есть сколько коней у тебя да сколько силы в руках. Пашет человек свой надел сколько-то годов, пока земля не откажет, – ну, оползет, например, или осыплется, – а потом другой участок подыскивает. Половина земли у нас завсегда пустует, ну конечно, та земля никудышная, с ней и возиться-то нет никакого смысла.
– Понимаю, – вздохнул священник, – к этой половине и относится церковная земля.
Что говорить, будущее не сулило ему ничего утешительного, однако постепенно он обрел душевное равновесие, заглушая все тревоги свои молитвой. Молитва принадлежала ему безраздельно и была той вечно плодоносящей нивой, где он всегда мог собрать жатву, столь ему необходимую: терпение, надежду, утешение, удовлетворение. Понемногу он принялся благоустраивать свое жилище, чтобы сделаться однажды самому себе хозяином. Лишь капеллан может понять, что это значит. На свое счастье, он встретил в соседней деревне Копанице старого школьного товарища. Тамаш Урсини, большой, грубоватый человек, резкий и прямолинейный в разговоре, сердце имел отзывчивое и дал ему взаймы денег.
– Глогова твоя – препаршивое местечко, – сказал Урсини. – Да, это не епископство в Нитре. Но что поделаешь? При тощем стаде и пастух тощ. Придется тебе потерпеть. Даниил среди львов чувствовал себя куда хуже. Твои же в конце концов только овцы.
– И даже не обросшие шерстью, – смеясь, присовокупил его преподобие.
– Есть у них и шерсть, да нет у тебя подходящих ножниц.
Прошло немного времени, и священник, приобретя на взятые в долг деньги мебель, в один прекрасный осенний день переселился в собственный дом. Какое это было наслаждение – расхаживать по собственному дому, раскладывать собственные вещи и, наконец, сладко уснуть в собственной постели, на тех самых подушках, для которых еще мать ощипывала перья. Он погрузился в раздумье и долго-долго предавался мечтам; перед тем как заснуть, он сосчитал бревна, чтобы не забыть, что увидит во сне.
И он не забыл – это был восхитительный сон. Ему снилось, что он гоняется за мотыльками по лугам родного села, собирает птичьи гнезда, заливает нору суслика, резвится со своими приятелями, девчонками и мальчишками; он даже подрался с Пали Сабо и только-только собрался проучить его как следует, уже поднял было прут, как вдруг кто-то стукнул снаружи в окно.
Священник сразу проснулся, вздрогнул и стал протирать глаза, отгоняя сладостный сон. Было утро, светило солнце.
– Кто там? – крикнул он.
– Отвори дверь, Янко!
Янко! Кто мог назвать его Янко, обратиться на «ты», кто мог заговорить с ним по-венгерски? Разве что один из веселых друзей, с которыми он только что виделся во сне.
Он выскочил из постели и подбежал к окну.
– Кто там? Кто зовет меня?
– Это я, твой земляк, Мате Биллеги. Выходи, Яношка… то есть выйдите, пожалуйста, на минутку, ваше преподобие, я тут привез вам кое-что.
Священник поспешно накинул на себя одежду. Сердце его учащенно билось. Должно быть, чуткая душа его уже угадывала, предчувствовала дурную весть. Он отпер дверь и вышел из сеней под навес.
– Я здесь, господин Мате Биллеги. Что вы привезли мне, почтеннейший?
Но господина Биллеги во дворе не оказалось, он стоял на дороге у воза, нагруженного– мешками, и отвязывал лукошко, в котором сидели Веронка и гусь. Кони Фечке и Шармань утомленно поникли головами. Шарманю очень хотелось прилечь, он все приноравливался и так и этак, но мешало дышло. Качнувшись в сторону, лошадь почувствовала, как упряжь больно врезается ей в кожу, – а ведь лошадиная честь не дозволяет устроиться на отдых, пока упряжь не снята. Редкий, из ряда вон выходящий случай, когда лошадь ложится прямо в сбруе. У лошадей вообще сильно развито чувство долга.
Мате Биллеги обернулся и увидел стоявшего на пороге священника.
– А вот и Янко! Ну и вырос же ты! Экой долговязый стал! Вот удивилась бы твоя матушка, если б жива была. Черт побери эту веревку – крепким узлом я ее завязал!
Священник сделал шага два по направлению к возу, где господин Биллеги все еще трудился, отвязывая лукошко. Слова «если б жива была» внезапно вонзились в его мозг, словно острый нож, в голове загудело, ноги подкосились.
– Это вы о моей матушке говорите, почтеннейший? – проговорил он, бледнея. – Моя мать умерла?
– Да, отложила свою ложку навеки, бедная женщина; Ну, вот, – он достал из кармана нож с деревянной ручкой и перерезал веревку, – вот тебе твоя сестрица. Ах ты, господи– прости, мозгов-то у меня, что у цыпленка, совсем из памяти вон, что с их преподобием разговариваю… привез я вашему преподобию сестрицу. Куда бы это поставить?
С этими словами он снял с воза лукошко – там, прижавшись к гусю, тихо, безмятежно спала Веронка. Гусь присматривал за ней, как настоящая нянька: вертя во все стороны длинной шеей, он отгонял мух, которые, словно на мед, летели на алые губки девочки.
Слабый луч осеннего солнца осветил лукошко и спящее в нем дитя. Водянистые глаза почтенного Мате вопросительно уставились на священника: что-то он скажет?
– Она умерла? – после долгого-долгого молчания спросил священник. – Это невозможно. Я ничего не чувствовал. – Сжав руками голову, он с горечью воскликнул: – Никто, никто не известив меня! Я даже похоронить ее не смог.
– Меня самого там не было, – сказал господин Биллеги. Как видно, тем, что и он не был на похоронах, господин Мате хотел утешить горевавшего юношу. – Господь бог взял ее к себе, призвал к престолу своему. Никого из нас он здесь не оставит, – ласково добавил он. – Эх, проклятущие жабы, на одну я, как есть, сейчас наступил!
На дворе, заросшем лебедой и дурманом, весело квакали и кувыркались лягушки, вылезшие из-под дырявого, сырого фундамента погреться на солнышке.
– Куда бы дитя положить? – еще раз спросил господин Биллеги и, не получив ответа, осторожно опустил лукошко под навес.
Священник, потрясенный, с помертвевшей душой, стоял, неподвижно уставившись в землю. Ощущение у него было такое, будто земля, дома, плетни, Мате Биллеги и даже лукошко с ребенком уносятся куда-то вдаль, а он все стоит и стоит, не в силах ни двинуться, ни шевельнуться.

Где-то далеко-далеко зашумел сосновый бор Укрицы, и вдруг почудился ему сквозь шум лесов какой-то дивный голос, от которого сжалось его сердце – голос этот напомнил ему голос матери… Юноша вздрогнул, прислушался, стараясь различить, распознать его, но когда ему это почти удалось, странный, непонятный гул поглотил все звуки. Но тише, тише! И вот уже явственно воззвал к нему из леса голос матери: «Расти сестрицу, Янко, Янко!»
Пока отец Янош ловил потусторонние голоса, хозяин Мате Биллеги вконец рассердился на него за молчание – уж чем-чем, а монашеским грошом мог бы уважить человека. (Монашеским грошом называют в тех краях «спасибо».)
– Что ж, так тому и быть, – проговорил с досадой почтенный галапчанин и щелкнул кнутом. – Благослови вас бог, ваше преподобие! Но-о, Шармань, но-о!
Отец Янош, охваченный глубоким горем, не отозвался. Он не замечал ничего вокруг; лошади тронулись, рядом с ними зашагал Мате Биллеги – дорога поднималась в гору – и тихо, сердито ворчал: ничего, мол, в том особенного, ежели из цыпленка павлин вырастет и не вспомнит потом, что был когда-то цыпленком. Взойдя на пригорок, он еще раз оглянулся и, увидев по-прежнему неподвижного юношу, крикнул, словно удостоверяя в том, что выполнил долг:
– Я передал вам то, что должен был передать!
Священник от этого крика очнулся, вздрогнул. Душа его возвратилась из печальных скитаний. А странствовала она далеко-далеко, рядом с той, кого уже не было в живых. Да, первым долгом сын навестил мать: он припомнил дни, проведенные вместе с нею; потом мысленно перебрал и те дни, когда сам жил вдали от нее. Он как бы стоял на коленях у постели умирающей молился и представлял, что она думала и что должна была сказать в последнюю минуту, он как бы принял ее последний вздох, подхваченный ветром и только что переданный ему лесом: «Расти сестрицу, Янко!»
Для того чтобы узнать последнюю волю, последнее желание умирающих родителей, сыну необязательно быть рядом с ними. И писать ему о том необязательно, и не беда, если ничего не сообщат провода, – есть для этой цели другие силы, более могущественные. Первым побуждением Яноша, когда он пришел в себя, было бежать за господином Биллеги, остановить его, попросить рассказать о матери все, что тот знает: как жила два последних года как умерла, как хоронили, – все, все; но галапский воз был уже далеко, а взгляд юноши в это мгновенье упал на лукошко и оно целиком приковало его внимание.
В лукошке спала его маленькая сестренка. Молодой священник еще никогда в жизни не видел ее. Дома он был в последний раз, когда хоронили отца, – тогда мать прислала за ним подводу (А вот теперь никто, никто не известил его!..). Маленькой Веронки в ту пору еще не было. О ее существовании он узнал лишь из писем матери, а письма эти были немногословны и полны смущения.
Янош подошел к лукошку и посмотрел на полненькое, милое личико «Как она похожа на маму!» – подумал он и так долго пристально вглядывался в ее личико, что оно стало расти, изменяться и вдруг пред затуманившимся взором Яноша черта за чертой всплыло лицо матери. Боже мой, боже мой! Ведь это же чудо, настоящее чудо!.. Галлюцинация продолжалась всего полминуты.
Перед ним снова была малютка. О, если б она сейчас проснулась! Ему так хотелось взглянуть в ее глазки, но она не открывала их, он видел лишь длинные ресницы, похожие на большие черные шелковые кисти.
«Итак отныне я должен ее растить! – подумал Янош, и сердце его залила волна безграничной нежности. – Что ж, я буду ее растить. Но как? Боже мой, как? Ведь мне самому нечего есть. С чего, с чего начинать?»
Я как обычно, когда душу его охватывали нерешительность и отчаяние, Янош поспешил обратиться к молитве и направился в церковь. Дом господен был как раз открыт; изнутри его белили две старухи.
Отец Янош не пошел к алтарю, – там возились обе бабки, – он остановился у чаши с освященной водой и упал на колени перед распятием из дерева и жести.
Зонт и святой Петр
Да, священник преклонил колени перед Иисусом. Он обратился к Иисусу, к господу нашему Иисусу.
Какое это все-таки счастье для людей – Иисус, бог, который сам был человеком. Каков бог, я не знаю, зато знаю, каков Иисус. Иисус мне знаком, как знаком он всем. Я знаю, что он делал, знаю, о чем он думал, я хорошо знаю его лик. Душу мою наполняет умиротворением вовсе не то, что он мой владыка, а то, что он мне знаком.
Мой знакомый, он жил на нашей земле две тысячи лет назад, как мысль, объединяющая мир! Люди, жившие в те далекие времена, и люди, жившие после них, давным-давно превратились в прах, прах стал травой, трава еще бог знает чем, а он, мой знакомый, жив по сей день – он был всегда и будет всегда.
Когда я скитаюсь по чужим и далеким краям, живу средь чужих, незнакомых людей, где лица иные и звери иные, где иная трава и иное небо – все, все иное, – мне, в моем однообразном и жутком одиночестве, в моей обособленности, кажется, что я на другой планете; но стоит мне за околицей какого-либо селения случайно увидеть крест с пригвожденным к нему жестяным человеком, из ран которого сочится, кровь, я сразу узнаю его – это он, мой знакомый.
Вот он, здесь! Даже здесь! И сразу одиночества, покинутости как не бывало. Я преклоняю пред ним колени и изливаю ему, как этот священник, все печали своей души.
– Помоги мне, господи Иисусе, – взывал к богу отец Янош. – Мать моя умерла, а ко мне привезли сестру-малютку, и я должен ее растить. Я беден, беспомощен, я никогда не умел обращаться с детьми. Господи, научи, подай спасительный совет! Ниспошли на меня неисповедимой, благостыни твоей, чтобы мог я ее прокормить, чтобы мог о ней позаботиться. Сотвори со мной чудо, господи Иисусе!
Сын божий, нарисованный на жести, казалось, внимал словам молитвы, а падавшие на него от окон и стен дрожащие тени и блики словно оживляли священный лик, и он, осененный страданием, как бы улыбнулся и даже кивнул головой:
– Хорошо, хорошо. Я все знаю. Придет время, и я вмешаюсь.
Долго, углубленный в молитву, стоял на коленях Янош, не раз начинал ее снова и снова и не заметил, что после отупляющего, почти неестественного зноя, как это часто бывает осенью, небо вдруг потемнело, надвинулась черная туча и разразилась гроза. Когда он вышел из церкви, дождь лил как из ведра. С гор, за околицей, стремительно, вскачь неслись потоки воды; и скот, мыча, бежал по улицам.
Яноша охватил ужас.
– Я оставил под навесом малютку. Дитя погибло!
Он как безумный пустился домой и вдруг остолбенел от открывшегося перед ним зрелища.
Лукошко стояло на прежнем месте. Девочка сидела в лукошке, гусь носился по двору, дождь лил и лил, не переставая, под навесом ручьями текла вода, а дитя оставалось сухим и невредимым– над лукошком раскрыт был огромный зонт, обтянутый выцветшей красной материей. Зонт был старый – заплата на заплате, – по краю с трудом лишь можно было разглядеть узкую цветастую каемку, обегавшую его кругом по моде старых времен.
Молодой священник, возведя благодарный взор к небу, быстро выхватил из лукошка ребенка, расцеловал и, держа над ним зонт, внес в свое убогое жилище.
Девочка широко раскрыла синие глазенки и не сводила их с брата.
– Какое счастье, – бормотал Янош, – что она не промокла! Ведь простудилась бы и умерла – тем более что я не смог бы переодеть ее в сухое платьице.
Но откуда взялся зонт? Непостижимо! В Глогове зонтов вообще не водилось.
Крестьяне из соседних домов рыли у себя во дворах канавки, чтобы спустить дождевую воду. Его преподобие опросил по порядку всех:
– Вы не видели, подходил ли кто-нибудь к ребенку? Ребенка видели все, но, чтоб кто-нибудь к нему подходил, не видели.
Зато старуха Адамец, когда бежала с поля домой, накинув простыню на голову, видела, как что-то круглое и красное спустилось с неба на землю. «Не сойти мне живой с этого места, если я лгу, – божилась Адамец, – сама богородица спустила ту штуковину-, чтобы уберечь сиротку».