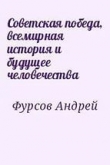Текст книги "Будущее упадка. Англо-американская культура на пределе своих возможностей (ЛП)"
Автор книги: Jed Esty
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
Глобальное доминирование и экспансия за границу, борьба за исчезающий центр американской политической жизни. Инфраструктурное воображение стало оживленной темой и для ученых-гуманитариев (Гулди, Хо, Либерман, Мат-терн, Рич, Роббинс, Рубенштейн). Эти ученые в основном используют инфраструктуру для спасения идеала государства всеобщего благосостояния в условиях его демонтажа, начиная с Рейгана и заканчивая Клинтоном. Как отмечают Дженис Хо и Марк Стирс, инфраструктура привлекает простых людей к скромным, повседневным государственным услугам, в которых они нуждаются – железнодорожным путям, почтовым отделениям, водопроводам, – а не к глобальным амбициям старых империй. Инфраструктурный национализм может функционировать как переходный нарратив, чтобы вывести США из болезненного упадка к продуктивной жизни в качестве бывшей сверхдержавы.
Ничто не олицетворяет этику упадка или эпоху пределов лучше, чем растущая популярность «деградации» как экономической программы. Современное движение за деградацию берет свое начало в идеях 1970-х годов – Е. Ф. Шумахера «Малое прекрасно» (1973) и Германа Дейли «Экономика устойчивого состояния» (1977), например. Книга Шумахера с подзаголовком «Исследование экономики, как если бы люди имели значение» стала бестселлером. Она ознаменовала собой сближение упадочнического мышления 1970-х годов с ранней экономикой устойчивого развития. Сегодня, на дальнем конце декалистской дуги 1970-2020 годов, все большее внимание привлекает позиция деградации, связанная с Кейт Роуорт и (часто более молодых) приверженцев. По мнению Раворт, государства должны направлять свою экономику в «золотую середину» между тем, что она называет социальным фундаментом (достойные стандарты жизни для всех) и экологическим потолком (научные пределы роста). В условиях нарастающего климатического кризиса призыв процветать, а не расти становится все более убедительным (Booth, Kunkel, Pilling, Speth). Деградация направлена на то, чтобы отбросить священный грааль постоянного высокого роста. Он призван избавить процветание, динамизм и креативность от экспансионистской логики старых национальных капитализмов.
Сможет ли Роуорт достичь этой точки в условиях стремления капитализма к постоянному накоплению и безграничной экспансии, а также в условиях противостояния силам секулярной стагнации – это вопрос для экономистов или пророков. Но его культурное значение очевидно. Это экономический язык, призванный искупить культуру сжатия, подготовить американцев к следующему этапу длительного спада. Экономисты и историки экономики всех политических направлений уже некоторое время объявляют о конце американской (и европейской) экономики высоких темпов роста (Бреннер, Коуэн, Гордон, Грэбер, Пик-этти, Саммерс, Тиль).
Перед лицом многочисленных препятствий движение за деградацию стремится сделать из исторической необходимости экономическую добродетель. Элитные потребители в США уже последовали этому примеру, превратив деиндустриализацию своей экономики в возможность деиндустриализации повседневной жизни и децентрализации торговли. Шик простоты и артизанальное производство охватили все – от фермеров от рынков до нового урбанизма, от траволечения до бега босиком, от антиматериализма в стиле Мари Кондо до растущего торжества профессионального ремесла над профессиональным образованием. Последние двадцать лет стали золотым веком для творчества в стиле "сделай сам". Интернет отменяет старую посредническую роль, которую играли корпоративные иерархии, культурные воротилы и индустрия посредников. Вспомните подъем фанфиков и Soundcloud, блогов и влогов, Ebay и Etsy. Интернет-коммерция позволяет осуществлять прямой обмен между создателями и покупателями. Она создает мгновенный поток искусства, идей, товаров и услуг. Домашняя одежда, туалетные принадлежности из вторсырья, крошечные домики и #van-life: миллениалы и зумеры заняты тем, что снижают расходы на домашнее хозяйство. Современная американская кухня делает эту тенденцию еще более очевидной и перекликается с аграрной ностальгией Британии середины века. Компостирующие коммуны, соленья и пивоварни, устричные ранчо, городские сады, вер-тикальные фермы, органические участки марихуаны, дворовые курятники, фореверы, фрициклеры и домашние пчеловоды – такие постиндустриальные практики возвращения к земле не меняют реальности современной массовой агрономии в глобальном масштабе. Но они знаменуют собой инвестиции элиты в идею пасторализма и устойчивости как основных принципов американской домашней жизни. На культурном уровне они являются очень серьезным выражением тоски по лучшему образу жизни в деиндустриализирующейся стране, которая оказалась на краю больной планеты.5 Многие из социальных тенденций, быстро отмеченных в этом отчете о постпиковой американской культуре, являются, по общему признанию, элитарными и потребительскими явлениями.
В Британии неопасторализмы упадочных десятилетий отличались определенной шикарной поверхностностью. Рассказ Алекса Нивена о локализме и пасторализме «британского среднего бровиста и хипстера» зазвонит в колокола для американских читателей: «эта странная смесь домашнего ремесла, музыки в стиле ню-фолк, шика аскетизма, органической пищи и автохтонного национализма». (52). Опасность нативизма, которую Нивен отмечает в своем анализе англичан-миллениалов, – та же самая, которую Пол Гилрой назвал англоцентричным «гео-пити» (114). Казалось бы, безобидные претензии к земле и традициям, к пище и фольклору могут подразумевать этнически эксклюзивные представления о принадлежности. Вопрос о том, кому принадлежит земля, в США, учитывая историю коренного населения и иммигрантов, пожалуй, еще более щекотливый.
Культуры сверхдержав – это метакультуры. Они впитывают, очеловечивают и интегрируют содержание других, более конкретных, более воплощенных, более ограниченных культур. Удержание гегемонистского центра заставляет нации формировать представление о себе как о нейтральном и техническом крае современности. В каком-то смысле их культура – это гравитационное ядро, центр системы. Но при этом она становится пустым ядром, выхолащивает содержание, теряет смысл. Эта особенность культуры сверхдержавы когда-то определяла либерализм викторианской Британии и США времен холодной войны. Культуры-сателлиты Британии, по словам Тома Нэрна, «легче сводились к типизирующим общим словам», чем культура Англии, которая «зацепилась за универсализм через свою имперскую мощь, а не страдать от предвзятости стереотипов» (293). Культуры гегемонов на своем пике были землями формы без содержания, построенными на расплывчатых ценностных терминах, таких как свобода и величие. Их культуры были расширяемы в той мере, в какой они были лишены конкретики. В 1871 году Мэтью Арнольд обратил внимание на эту проблему:
Свобода, как и Индустрия, – очень хорошая лошадь, на которой можно ездить, но нужно ездить куда-то. Вы, кажется, думаете, что вам нужно только сесть на спину вашей лошади Свободы, вашей лошади Индустрии и скакать изо всех сил, чтобы быть уверенным, что вы приедете в нужное место.
То, что Арнольд назвал анархией британской культуры поздневикторианской эпохи, выросло из модели слабого государства/сильной экономики. Рыночное общество не имело никакой организующей цели помимо богатства – неудивительно, что через несколько десятилетий после трактата Арнольда новая имперская миссия заполнила вакуум коллективного смысла. Сменивший его гегемон, США, точно так же откладывал реальную политическую борьбу и генерировал социальное согласие с помощью постоянно расширяющейся границы. Оба либеральных гегемона также воспитывали интеллектуальную неприязнь к грандиозному, утопическому или коллективному планированию – скептическое отношение к действиям сильного государства и предпочтение негативной свободы позитивной свободе. Британский эмпиризм и американский прагматизм были великими выразителями либеральной гегемонии в англоязычном мире. Выражаясь языком Арнольда, обе нации росли за счет промышленности и империи, и пока они это делали, они могли скакать на лошадях, не выбирая направлений. Как заметил Рейнхольд Нибур через восемьдесят лет после Арнольда.
Великая держава может избегать экзистенциальных политических конфликтов и "наболевших вопросов социальной справедливости" до тех пор, пока длится ее экспансивная фаза. Но что же происходит, спрашивали в свою очередь Арнольд и Нибур, с коллективными, национальными ценностями, когда рост достигает своего предела? Величие скрыло внутренние разломы Америки. Упадок заставляет их обнажиться.
Сила, рост и глобальное влияние превратили Великобританию времен викторианской войны и США времен холодной войны в цивилизационных менеджеров других культур. То, что произошло с английской культурой в течение двадцатого века, теперь начинает происходить с культурой США. Она все больше и больше становится ограниченным объектом своего собственного взгляда, а не экспансивным субъектом, вкладывающим средства в понимание остального мира. Общество все меньше и меньше поддерживает изучение незападных языков и культур, теперь, когда модель финансирования area-studies, основанная на стра-тегическом интересе времен холодной войны, отменена. Сокращение могущества США влечет за собой перспективу прискорбного паро-хиального поворота, когда имперский гигант превращается в белого карлика. Расистские аспекты этого краха, "отход от универсализма" в угасающей Америке – основная тема исследования Эммануэля Тодда "После империи" (2003 г.) (Todd 109).
Британский прецедент в очередной раз определяет развилку на пути американской культуры. Здоровый партикуляризм может превратиться в узкий парохиализм. Когда способность культуры к самоуниверсализации становится подвержена старению и упадку, необходимо найти тонкий баланс. Партикуляризм означает отказ от права говорить от имени человечества, но не игнорирование остального мира. Американская элита, лишенная исключительности, теперь учится думать о мировых делах в нейтрально-глобальных, а не "позднезападных" терминах. Это означает переосмысление отношений с Азией, исламом и Глобальным Югом вне старой парадигмы евро-американского превосходства. Будущее упадка – восстановление и обновление американской культуры – может позволить американцам взглянуть на мир и Америку по-новому, под непривычным углом. "На протяжении всего двадцатого века мир в целом был "американизирован", – заметил недавно Джозеф Клири. "Теперь Америка, часто неохотно, иногда с яростной реакцией, постепенно азиатизируется, южноамериканизируется, африканизируется и европеизируется, а также иным образом трансформируется под влиянием своей иммигрантской истории" (215). Партикуляризированная Америка – это не "пост-Америка" и не "маленькая Америка". Сила, богатство и динамизм США не зависят от экспорта американских ценностей, как если бы они были универсальными человеческими нормами.
Американские фабрики грез выросли из технических революций 1880-1920 годов (дешевая печать, кино, фотография, радио, граммофон). Эти технологии консолидировали индустрию культуры таким образом, что огромная масса американских граждан оказалась, "как никто другой на Земле", погружена "в виртуозные фантазии, созданные и проданные шоу-бизнесом" (Андерсен 136).
Империя была не просто экспортной индустрией для американских сто-рий. Это была гигантская машина для создания фантазийных версий превосходства США. Такие комментаторы, как Нил Габлер и Джексон Лирс, подхватили идею о том, что Америка пришла к эпохе своего пика могущества, вооруженная огромным аппаратом для создания фантазий. Дэниел Бурстин: «Мы рискуем стать первым народом в истории, который смог сделать свои иллюзии настолько яркими, настолько убедительными, настолько „реалистичными“, что они могут жить в них» (240).
Империя развлечений готовила отечественную аудиторию середины века к глобальной власти. Популярная культура империализма набрала силу, выкачивая фильмы, организованные вокруг довольно заученной концепции превосходства белого Запада. Такие привычки трудно изживаются, даже на спаде. С середины 1970-х годов, когда началась эпоха спада, от "Звездных войн" и "Индианы Джонса" до "Лиги выдающихся джентльменов", от "Супермена" до "Мстителей: Endgame", два исторических источника мифического содержания приковывали внимание Голливуда: Викторианская Британия и Америка времен холодной войны. Эти две нации на пике своего могущества придали существенную форму всем жанрам блокбастеров. Американские супергерои выкристаллизовались в устойчивый архетип примерно в 1940 году, как раз к началу американского столетия. Теперь они заполонили наши экраны, накачанные и воздушные передатчики ностальгии по сверхдержаве. Голливуд эпохи Трампа также испытывает сильную ностальгию по неовикторианской эпохе: Легенда о Тарзане (2016), Затерянный город Z (2016), Книга джунглей (2016), Маугли (2018), Дулиттл (2020), Человек-невидимка (2020). Все эти британские жанровые фильмы разжигают фантазию о безграничной и нестареющей Америке. Следующий крупнобюджетный фильм от Disney? Перезагрузка "Питера Пэна".
Но американское кино – несмотря на франшизы, претендующие на название "вселенных" или "мультиверсов", – уже несколько десятилетий теряет свое глобальное доминирование. Даже на внутреннем рынке развлечений унаследованным медиа, таким как художественные фильмы, теперь бросают вызов всевозможные новые медиа, которые все меньше и меньше организуются вокруг национального мифотворчества. Неоклассические голливудские фильмы все еще продают в розницу ностальгию по сверхдержаве и имперские фантазии. Но независимые визуальные истории и короткие жанры Интернета и газет маленьких городков чаще фокусируются на историях о социальных коллективах, общих делах и общих заботах. Это повседневные реалии американского общества, привязанного к самому себе, а не метания нации в поисках супергероев и сильных мира сего. Говоря иначе, сценарные фантазии, направленные на глянцевое исполнение желаний, стали корпоративными артефактами, потому что их время под солнцем проходит.
Новый реализм устойчивой, коллективной, постсупрематической американской жизни начинает формироваться по мере созревания культуры упадка. За последние тридцать лет в американской индустрии развлечений произошел замечательный, согласованный и мультимедийный сдвиг от сценарного к реальному. От мемуарного бума, начавшегося в 1995-96 годах с успеха "Клуба лжецов" и "Праха Анжелы", до подъема программ реалити-шоу (Survivor дебютировал в 2000 году), от художественной и политической жизнеспособности документального кино до повсеместного распространения. В результате того, что YouTube миллионными глазами смотрит на домашнюю, интимную и обыденную реальность, новые виды форм, основанных на реальности, вытеснили фантазии. Массово децентрализованные и разросшиеся культурные медиа теперь используют свои огромные возможности считывания и записи, чтобы сделать повседневную жизнь доступной. Это автоэтнографическая бонанза повседневных американских глаз на повседневные американские жизни. То, что Дэвид Шилдс в 2010 году назвал "притягательностью и размытостью реального", похоже, становится все больше (5). Этот сдвиг имеет смысл, если мы рассмотрим историю британской литературной культуры в эпоху Суэца 1950-1960-х годов – терминальный кризис британской гегемонии. Там мы обнаруживаем заметный рост автоэтнографии и неореализма в Англии.6 Несмотря на надежную коммерческую привлекательность романных жанров и аристократической обстановки, британская литература середины века была вновь привержена изображению обычной жизни в непосредственном наблюдении. Заманчиво рассматривать эти события как признаки новой ограниченной национальной жизни, поворот вглубь и реализм для сверхдержавы, которая учится регулировать масштаб национальной фантазии.
В начале этой главы я попытался охарактеризовать упадочный Голливуд как склонный к созданию либо антиутопических отражений утраченного величия (зомби для заплесневелой сверхдержавы), либо раздутых зрелищ обновленного величия (супергерои для вечнозеленой сверхдержавы). Но Холли-Вуд всегда с умом относится к возникающим нарративам – он не просто перерабатывает остатки. Несмотря на давление ностальгии по сверхдержавам, национальная фабрика мифов Голливуда в последнее десятилетие вращалась вокруг своей оси.
Он ищет возможности рассказать истории, которые будут востребованы в разнообразном обществе и в бывшей сверхдержаве. Возьмем, к примеру, смену акцентов и чувств от «Аватара» (2009) к более поздним космическим приключениям. Аватар" – это классическая научная фантастика о колонизации и аллегории. Джеймс Кэмерон, создатель фильма, объяснил его как обновление таких англо-американских мифов, как «Лоуренс Аравийский» и «Джон Картер с Марса». В нем есть сюжет, который Ренато Розальдо по памяти назвал «империалистической ностальгией», в котором разрушители и эксплуататоры колонизированных миров выражают сожаление, но не бросают фундаментального вызова собственной власти. Фильм «Марсианин» (2015) – это все еще голливудское развлечение, но его главными темами являются (а) экономия скудных ресурсов и (б) хрупкость и чужеродность (а не романтическая храбрость) белого мужчины-исследователя. Как и другие недавние космические эпопеи, такие как «Гравитация» (2013) и «Прибытие» (2016), в центре внимания которых находятся женщины, «Марсианин» опирается на взаимосвязанные сюжеты об устойчивом развитии и сотрудничестве с Китаем, а не на устремленную американскую мощь в качестве конечного геополитического референта.
Обращение к истории рабства и расового капитализма стало главной темой американского кино в период от Обамы до Трампа. Голливуд всерьез, хотя и не всегда успешно, работал над устранением наследия расистской американской "классики", такой как "Рождение нации" (1915) и "Унесенные ветром" (1939). Последние фильмы, такие как "12 лет рабства" (2013), "Гарриет" (2019) и "Подземная железная дорога" (телесериал, 2021), начали вытеснять не только старые эпопеи античерного Голливуда, но даже такие ориентированные на белых либералов рассказы о черной истории, как искренняя "Слава" (1989), отвратительный "Амистад" (1997) и добродетельный "Линкольн" (2012). Черные жанровые фильмы обновляют привычные формулы, включая фильм ужасов (Get Out [2017]), вестерн (The Harder They Fall [2021]) и супергеройский фильм (Black Panther [2018]). В жанровом телесериале Watchmen (2019) пересмотрен сюжет о белых виги-лантах, а внимание зрителей сосредоточено на резне в Талсе, произошедшей сто лет назад, – ужасающем моменте в истории расистского насилия.
Сюжеты о мести и боевиках, ориентированные на чернокожих (к ним можно отнести и "Джанго освобожденный" 2012 года), пересматривают доминирующую голливудскую формулу, в которой белые мужчины берут закон в свои руки, чтобы спасти дом, себя, семью или общественный порядок. Вестерны и криминальные фильмы часто опираются на эту фигуру белых отступников, изображая их как неизбежно жестокий, но моральный центр мира, в котором общество и природа противостоят его автономии. Временами эта фигура кажется дистиллятом ставшего уже легендарным левого избирателя Трампа, готового пойти на насилие, чтобы подтвердить свой социальный статус и имущественные претензии. Мститель – постоянная фигура американского воображения, которая вышла на центральную сцену в десятилетие спада 1970-х, воплощенная Чарльзом Бронсоном ("Желание смерти", 1974). Мститель постоянно возрождается – например, в фильмах Майкла Дугласа "Падение вниз" (1993) и Клинта Иствуда "Гран Торино" (2008).
Обиженный белый мужчина – это, пожалуй, определяющий сюжет упадочнической Америки, особенно когда она представляет себе жестокую чистку социального беспорядка.
Мстители и супергерои занимают разные сектора жанрового континуума, но их объединяет фундаментальная приверженность тому, что я назвал мифологией слабого государства. В обоих жанрах значимые социальные действия – в том числе насильственные – принадлежат индивидам, а не государству. Даже при наличии чернокожего или азиатского (Шан-Чи, 2021) супергероя трудно изменить этот основополагающий принцип жанровой системы.
Но два недавних успешных фильма с Фрэнсис МакДорманд в главной роли – "Три билборда за пределами Эббинга, Миссури" (2017) и "Кочевники" (2020) – дают подсказку к другому типу сюжета для эпохи ограничений. Главный герой первого фильма родом из города под названием Эббинг, а второго – из города под названием Эмпайр. Эббинг – Империя: тема американского упадка вплетена с самого начала. Эти два родных города, один из которых посвящен фермерству, другой – горнодобывающей промышленности, представляют собой экономическое положение сельских рабочих. После травмирующего насилия и экономической неустроенности оба фильма переосмысливают западное путешествие лишенной гражданских прав, разочарованной героини. В обоих фильмах главная героиня стремится воссоздать дом и семью. В "Трех билбордах" она жаждет мести, но не получает ее. Две основные тревоги американского упадка – потеря безопасности и потеря процветания – движут этими фильмами. Несостоятельные экономические и политические сети безопасности (включая полицию) – это данность на сырых, сельских границах расы и класса. Режиссерами этих двух видений разрушенной американской мечты являются неамериканцы.
В итоге их сюжеты оказываются резким, но тонким контрапунктом фильмам про белых мужчин-мстителей – все те же потрясения и потери, но с женскими историями, нацеленными на выживание и принятие. Без катарсической фантазии о возвращении утраченного, эти фильмы работают как переходные мифы, указывающие путь из трясины MAGA и мелан-холии.
Национальные мифы и тропы сохраняются в этих новых фильмах, особенно открытая концепция западного путешествия/дорожной поездки. Национальные мифы сохраняются, но их значения меняются под давлением истории. Академические критики американской власти, вероятно, не смогут полностью демистифицировать нацию как символический центр государственной власти и коллективных действий. Но они могут участвовать в переопределении ее значения. Развенчание мифа об американской исключительности – это только первый шаг. Вслед за прежней исключительностью обществу нужны новые языки национального смысла. Чтобы разрушить меланхолическую притягательность утраченного величия, эти языки должны выйти за рамки упаднического мышления. Они должны обладать висцеральным вкусом, аффективной глубиной и афилиативной силой.
Американское исключительное мышление сохранится даже в многополярном мире XXI века. В конце концов, как Brexit напоминает нам, что британская исключительность надолго пережила затмение гегемонии Великобритании. Одной из самых важных тонкостей, которую я обнаружил, исследуя культуру Великобритании середины века, был «универсализм второго порядка», который сопровождал национальный упадок и в некоторой степени управлял потерей гегемонии. «Чтобы поглотить утраченные привилегии имперской центральности», – утверждал я, – некоторые английские интеллектуалы стремились вернуть «Англии ее торические привилегии как архетипа современной промышленности и империи, а значит, и архетипа новой эпохи постиндустриальной, постимперской национальной жизни». Архетипический поворот мысли, при котором Англия каким-то образом является «наиболее типичным» современным обществом, потому что она – старейшее современное общество, сохраняет универсализм второго порядка" (191). Эта формула дает бывшей сверхдержаве Великобритании и ее предполагаемому английскому культурному ядру уникальную претензию на глубину и целостность. В 1959 году Бернард Крик выразился гораздо более лаконично, заметив, что британцы отказались от стремления стать «Римом силы», но остались верны проекту стать «Афинами примера» (цит. по: Ian Hall 6). Универсализм второго порядка может помочь американцам избавиться от привычки говорить от имени планеты или вида, но он, вероятно, не избавит их от привычки рассматривать Америку как избранную нацию, образцовое общество, архетипическую демократию.
Длительное пребывание американцев на вершине эко-номики приучило их верить, что они живут не просто в хорошем или даже великом, а в самом лучшем обществе на свете. Этот хрупкий патриотизм, несомненно, сохранится в новой форме даже когда глобальные устремления Америки сокращаются. Возможно, это необходимый вымысел ради сохранения нынешнего социального порядка. Главный вопрос этой книги – сможет ли популярный и резонансный язык национального обновления перенести Америку за горизонт упадка последних пятидесяти лет. С 1970-х годов бинарная формула "мы все еще доминируем/мы в упадке" оставила мало места для жизненно важного третьего термина: возрождение через сокращение. Чтобы выйти из тупика между культурой роста и культурой упадка, может потребоваться целенаправленный переход от того, что я бы назвал универсализмом первого порядка (Америка задает образец для всех культур), к универсализму второго порядка (Америка задает образец для себя, но таким образом, чтобы он был самобытным и архетипическим). Такой образ мышления отделяет национальный динамизм от агрессивного экспорта американских ценностей и норм.
Маяк, указывающий путь к меньшей, более разумной и мудрой Америке, был зажжен в начале холодной войны книгой Нибура "Ирония американской истории" (1952). Нибур обновил и американизировал аргументы против экспансионизма Великобритании, выдвинутые пятьюдесятью годами ранее в книге Дж. А. Хобсона "Империализм" (1902). Нибур оценил вероятные издержки гегемонии холодной войны для культуры и политики США. И Хобсон, и Нибур разработали язык обновления, противопоставив национальную целостность моральной и социальной энтропии империи. Они видели будущее сокращающихся государств Великобритании и США не как сокращенное, а как сконцентрированное и тем самым улучшенное. Чарльз Майер предлагает более современную и умеренную версию этой точки зрения: "Как узнали британцы и голландцы, и как в конечном счете должны будут узнать и американцы, после того, как гегемонистский или имперский час пробил, гражданское существование может быть вознаграждено" (77).
Приверженцы идеи упадка часто представляют себе добровольное самоисправление как решение проблемы упадка США. Правые обвиняют в моральном разложении общество вседозволенного благосостояния. Левые обвиняют в политическом разложении неолиберальное плутократическое общество. Перед лицом этих нарративов неудивительно, что общественные дебаты наполнены волюнтаристскими идеями, обреченными на тупик в политике. Обеспокоенным гражданам предлагают «объединиться», «исцелить нашу политику», устранить тупик, разрядить межпартийную напряженность, восстановить производство, реформировать институты. Эти призывы к нравственному совершенствованию, политическому компромиссу и оживлению экономики не могут изменить ход развития глобального капитализма. Материальный процесс относительного упадка медленный и неизбежный, и многие из определяющих его факторов происходят в планетарном масштабе вне морального или политического контроля граждан и институтов США.
С другой стороны, хотя изменить фундаментальные вопросы веры и идентичности, вплетенные в ментальные привычки американского превосходства, нелегко, это, по крайней мере, возможно. Вот почему нынешние исторические войны имеют значение. Сейчас американцы борются, часто враждебно, за переосмысление своей нации. Общественное признание расы и империи, которое Пол Гилрой однажды назвал противоядием от постимперской меланхолией, безусловно, имеет место по обе стороны Атлантики. Статуи Сесила Родса и Роберта Э. Ли падают. Эти символические действия являются формой повстанческой публичной истории. Но, как отмечает Панкадж Мишра, "демонтаж памятников работорговцам, скорее всего, только углубит культурные войны, если не будет сопровождаться обширным пересмотром англо-американских учебных программ по истории и экономике" ("Flailing" 14). Историческая грамотность как вопрос образования К-12 и широкого гражданского участия, а не только учебной программы высшего образования – единственный путь вперед, который не даст историческим войнам заглохнуть в суровой бинарности, требующей от студентов демонизировать или лелеять американские институты. Возобновление исторических войн зависит от нахождения общего языка национального опыта и национальной цели, который не будет наводнен паникой деклинистов или компенсаторными фантазиями о привилегированной принадлежности, ограниченной белыми гражданами и их освященной собственностью. Резолюция исторических войн имеет значение – она не академическая. Смысл американского прошлого задает предикаты для будущих действий государства и для распределения ресурсов.
Но история и гуманитарные науки испытывают дефицит ресурсов именно тогда, когда они нам больше всего нужны. Внутри корпоративного исследовательского университета и со времен жесткой экономии, начавшейся в 1970-х годах, дрейф идей направлен в сторону инструментального знания. Стремление к эффективному предоставлению полезных данных сформировало интеллектуальную жизнь высшего образования в период объявленной экономии.
В результате заметного расширения объектов, программ, администраторов и счетов за обучение государственные и частные университеты перераспределили ресурсы от фундаментальных исследований в области искусства и науки. Интеллектуальные инновации теперь почти полностью относятся к быстрым решениям насущных проблем. Когда все полученные знания предварительно применяются, а все вопросы предварительно проверяются в заявках на гранты, не стоит ожидать прорывных открытий ни в искусстве, ни в науке.
Статус-кво воспроизводится благодаря самоисполняющимся пророчествам стратегических планов, обусловленных нехваткой средств и вынужденных заниматься реализацией грандиозных идей в сжатые сроки. Нынешняя система управления университетами недофинансирует то, в чем больше всего нуждается стареющая Америка: фундаментальные исследования и развитие, устойчивое знание культур и языков за пределами Америки/английского языка, а также глубокое, критическое понимание американской и глобальной истории (Лай, Ньюфилд и Вернон). Работа над национальным прошлым – это проект всего университета и всего общества. Он медленный, дорогой, противоречивый и абсолютно необходимый. Статус-кво также воспроизводится, когда исторические гуманитарные науки – единственное место, где американских студентов просят задуматься о смысле прошлого, – маргинализируются и отделяются от естественных наук и профессий.