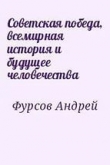Текст книги "Будущее упадка. Англо-американская культура на пределе своих возможностей (ЛП)"
Автор книги: Jed Esty
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
Тезис 8: Эпические сказания об имперском взлете и падении искажают нарратив национального упадка.
История цивилизации как накатанная западная эпопея почти неотразима. В ней есть величие и простота. Она царственно проносится от Египта к Греции, от Греции к Риму, от Рима к христианству, от Испанской империи к голландской, от голландской к британской, от британской власти к американской гегемонии. Несомненно, часть привлекательности этого повествования обусловлена удовлетворительным применением трагической судьбы (те, кто возвышается, должны пасть) и прогнозируемой логики человеческой смертности (все должно закончиться). Он также предоставляет метаисторическому наблюдателю высокую точку обзора. Она прокладывает единую тропу объяснения через огромные неизвестные и энтропийные детали истории. Она вестернизирует ближневосточные «колыбели цивилизации» и игнорирует экономическую мощь Азии до XVIII века (Абу-Лугод, Бин Вонг, Франк, Померанц). Традиционная привлекательность этой истории – иногда ее называют «перевод императорской» – заключается в том, что она начинается и заканчивается на Западе.
Представление о том, что Америка была последней кульминацией цивилизационных усилий, теперь само по себе находится в опасности. Будущее упадка требует нового сценария.
Тех, кто хочет предупредить американцев об их падении, часто завораживает знакомая литания: The Decline and Fall of Rome, The Rise and Fall of the Great Powers, The Collapse of Complex Societies, How Societies Fail, Weary Titan, Colossus. Эти каденции звонят как колокола. Они формируют грандиозный сюжет упадка, даже когда их пользователи пытаются работать против их логики. Существует любопытный парадокс, по которому многие комментаторы, желающие предписать увядающей Америке действия и политику, также хотят вызвать в памяти захватывающую и трагическую историю падения. Как сложно пытаться обратить великие движения истории против них самих, чтобы спасти Америку от этой железной логики преемственности!
В неизменном классическом мотиве рухнувшего Колоса или усталого Титана длинная дуга истории престижа встречается с быстрой отдачей журналистской актуальности. Риторика взлетов и падений придает громким книгам ощущение глубокого контекста в легкой интеллектуальной сумке. Ака-демики и популяризаторы используют Британию и Рим (и все остальные погибшие империи), чтобы привлечь внимание к зрелищу упадка США. Проблема заключается в самом зрелище. Соединять неизбежность трагической истории с языком руководства по ее изучению – это, в конечном счете, оксюморон.
Знаменитые строки: «Я Озимандиас, царь царей, / Взгляните на мои дела, вы, могучие, и отчаивайтесь! / Ничего больше не осталось». Но многое остается в загробной жизни сверхдержавы. Чтобы пережить и пережить осень Системы, требуется другой словарь, менее эпический набор повествовательных конвенций. Это требует коллективного анализа угасающей гегемонии как набора вызовов и возможностей. Это требует, чтобы мы рассматривали угасающую эпоху национального превосходства как время активности, перемен, дина-мизма и процветания, а не меланхоличного отката назад.
Тезис 9: Исторический опыт Великобритании определяет контуры культуры упадка, но американские модели будут другими.
Пагубные последствия ностальгии по сверхдержавам не столь неизбежны, как голые факты национального упадка. В эпоху своего наивысшего могущества Британия и Америка заявляли о том, что дело освобождения человека – это универсальный проект, организованный под их флагом и скрепленный с их национальным характером. Качества, которые так часто пропагандируются во имя британской или американской исключительности – особые дары свободы, справедливости, невинности, энергии, усилий, предприимчивости, изобретательства и самоуправления, – в большей степени связаны с сырым языком власти, чем с какими-либо особыми этнонациональными талантами или дарами. Врожденное превосходство англоязычных народов – идея с прискорбным прошлым и прочной хваткой в историческом воображении. Но ее хватка ослабевает.
Основания англоязычной исключительности и разрушение западной логики преемственности.
В рамках академических дисциплин британские и американские мифы о свободе подвергаются серьезной проверке уже несколько десятилетий. Но теперь это не просто академическая проверка – она находится в центре американской общественной жизни и разговоров. Присвоив себе язык мечты о просвещении, освобождении и современности, англо-державы-близнецы теперь видят, как их национальные мифы подвергаются новым испытаниям при свете дня, широкой общественностью. Снять англо-американскую исключительность – задача не из легких, особенно перед лицом меланхолии бывшей сверхдержавы. На месте старых исключительных идей, подкрепленных властью и влиянием, мы теперь видим хрупкую защиту западной свободы, слишком измученную, чтобы скрыть свои подлые расовые предикаты.
Британское имперское мышление когда-то послужило основой для гегемонии США и продолжает формировать американские представления об упадке. Слишком часто воображаемая ценность британской истории для американской аудитории сводится к ностальгическим воспоминаниям о короне, империи и социальной иерархии. Но у американцев есть и другие способы использовать британскую историю. Она дает непосредственные и актуальные модели для наших собственных исторических войн, особенно когда речь идет о том, чтобы считаться с рабством и колониализмом. Вместо того чтобы читать "Колосс" Нила Фергюсона в массовой мягкой обложке издательства Penguin, американские студенты и граждане могут обратиться к книге Кэтрин Холл "Наследие британского рабовладения" и ее совместному веб-сайту (https://www.ucl.ac.uk/lbs/).
История Великобритании после 1945 года предлагает множество потенциальных уроков национальной жизни на склоне лет.
Закат в США будет сильно отличаться от нынешнего в Великобритании по целому ряду причин. Однако американские историки склонны преувеличивать уникальность пути, пройденного США к мировому сверхдержавному господству. На самом деле архитекторы американской внешней политики времен холодной войны намеренно ссылались на пример викторианского либерального империализма. В Бреттон-Вудсе американские лидеры стремились подражать успеху британской гегемонии (Десаи 15). Спустя десятилетия США пошли по стопам британской финансиализации. Как отмечает Адам Туз в своем превосходном синтетическом отчете о крахе 2008 года, либерализация торговли и банковского дела в Великобритании «послужила ломом для отмены регулирования по всему миру» (82). Идеи laissez-faire веками исходили из страны Адама Смита и финансовых храмов лондонского Сити. И так же долго они влияли на экономические и культурные нарративы США.
Британский упадок предвещает американский спад, но британский упадок оставляет открытыми несколько путей для национального обновления по эту сторону Атлантики. Американцам не нужно идти по пути изоляции и ретрансляции в стиле Brexit, равно как и по пути национального распада. В настоящее время у США много преимуществ, начиная с масштаба. США избавились от земли своего поселенческо-колониального прошлого, оставив себе территорию, население и внутренний рынок размером с континент. Долгосрочные экономические показатели для США сейчас гораздо лучше, чем в аналогичные периоды истории Великобритании. США по-прежнему привлекают новые капиталовложения и новых иммигрантов.
Американское культурное и социальное обновление – это хорошо. Это требует интеллектуальных и политических усилий, чтобы изменить основополагающие концепции национальной идентичности. Но это уже делалось раньше. Это было сделано для того, чтобы заручиться широкой поддержкой идеи превосходства Великобритании и США. Это можно сделать, чтобы заручиться широкой поддержкой культур Великобритании и США, переосмысленных без превосходства. Эта перспектива – этот проект – подводит нас к самому важному тезису из этих десяти.
Тезис 10: Рассказы об упадке более убедительны, чем показатели и статистика.
Мейнстримный деклинизм слишком много концентрируется на фактах и слишком мало – на вымыслах. Парадоксально, но изучение фикций – убеждений и идеологий, формирующих американскую культуру, – более объективно и полезно, чем бесплодные дебаты о «фактах». Культурные нарративы национальных потерь более влиятельны в реальном мире, чем оспариваемые статистические реалии. Кроме того, они являются более стабильным объектом изучения с течением времени. В мейнстриме деклинизма экономисты, историки и политологи предлагают конкурирующие версии прошлого, настоящего и будущего упадка. Их аргументы опираются на несопоставимо точные и несовершенные наборы данных. Эконометрическое мышление, безусловно, пригодно для решения тысячи жизненно важных задач, но оно отвлекает нас от способности анализировать судьбу Америки в глубоком историческом контексте. Самое главное – это не поиск окончательного количественного эталона или инфографики, как будто данные окончательно скажут нам, насколько США были или будут затмения. Важно то, когда и верят ли американцы (и какие американцы) в то, что затмение произойдет. Вопрос веры – это вопрос культуры. Это далеко не мягкий или второстепенный вопрос гуманитарных наук, это самое ядро вопроса. Любой капиталист понимает, что в спекулятивной экономике будущая стоимость зависит от убеждений и ожиданий, которые управляют принятием решений независимо от (предполагаемых) фактов на местах.
Культурные нарративы, горизонты ожиданий, символы принадлежности – идентичности, аффилиации и мифологии национального величия, потерянные, найденные или заброшенные: все это, в конечном счете, важные факты на местах. Мы можем изучать их. Мы можем рассматривать их в контексте. Мы можем сравнивать их и оценивать их влияние на американское общество. Тем не менее, лишь немногие известные деятели упадка относятся к истории культуры так же серьезно, как к политике и метрикам. Культурные нарративы имеют свой собственный темп, совершенно не зависящий от фактов и цифр, которые, как утверждается, лежат в их основе. Восприятие опережает или отстает от статистики, по которой строится график судьбы нации. Япония сейчас находится на спаде с экономического пика (по доле ВВП и темпам роста), но Дэвид Пиллинг отмечает, что она остается успешным, высокофункциональным обществом с растущими стандартами жизни (12). Когда жизнь правящего класса в эдвардианской Великобритании была хорошей, преобладало чувство надежды. Когда в 1960-е годы жизнь широких слоев нижнего и среднего класса становилась лучше, преобладало чувство утраты. В США болезненные симптомы упадка проявлялись даже в эпоху Эйзенхауэра. Это была важная часть параноидальной холодной войны.
Это никогда не имело экономического смысла, но все еще имеет культурный смысл.
Всегда существует несоответствие между фактами структурного упадка и мифами, символами и чувствами, которые задают упаднические настроения. Мейнстримный деклинизм опирается на политическую рациональность, предполагая, что государства и граждане реагируют на экономические факты по сигналу. Он опирается на позитивистский взгляд на историю, предполагая, что мы знаем, что и почему произошло. Поскольку деклинистская риторика так часто направлена на медленный, глубокий процесс упадка, она заявляет о своей позиции "факты превыше фантазий", одновременно продвигая, пусть и тонко, лежащую в основе фантазию о том, что американское превосходство может быть продлено на неопределенный срок. Таким образом, мейнстримный деклинизм слишком детерминирован в отношении катастрофических результатов затмения США, но недостаточно детерминирован в отношении вероятности такого затмения. Обратиться к будущему упадка – значит разрешить этот парадокс. Мы не можем обратить вспять структурный упадок, но мы можем действовать, чтобы изменить смысл жизни американского общества в постпиковую эпоху. Не нужно больше предпринимать отчаянных попыток спасти устаревшее и элитарное мировоззрение, в котором единственным безопасным миром является тот, в котором Америка навсегда остается номером один. Если американцы откажутся от мнения времен холодной войны о том, что их превосходство является залогом безопасности и процветания, они смогут в более спокойном историческом духе рассмотреть реальные перспективы разнообразного и динамичного общества в ближайшие десятилетия.
Следующие несколько десятилетий определят, приспособятся ли США – быстрее и успешнее, чем Великобритания, – к утрате своего первостепенного статуса. В 2020-х гг. еготориальные войны потребуют от граждан пересмотреть значение американской власти. Британская и американская общественность заново узнает о достижениях, прославленных в названиях их стран, и об ущербе, нанесенном этим названиям. Этот вызов ставит долгую историю рабства и поселенческого колониализма в центр общественных дебатов. Она устанавливает новые приоритеты в исследованиях и преподавании гуманитарных дисциплин в университетах США.
Борьба за переосмысление национальной культуры после империи ведется в Великобритании уже несколько поколений. Чтобы извлечь из нее уроки, мы можем обратиться к выдающемуся труду по истории культуры, созданному в 1960-х и 1970-х годах британскими новыми левыми. Я думаю о британских историках того времени – особенно о Стюарте Холле, Томе Нэрне, Перри Андерсоне, Рафаэле Сэмюэле, Эрике Хобсбауме, Э. П. Томпсоне, и Раймонд Уильямс – как интеллектуальные "первые ответчики" на сокращение британского могущества. Они разработали подлинную теорию национального упадка. Их синтез политики и культуры дает нам наиболее комплексный подход как к фактическому упадку, так и к ностальгии по сверхдержаве (declin-ism) в современных США.
Достижения британских новых левых были обусловлены неотложным и коллективным чувством миссии. Они хотели понять смысл правого политического дрейфа Великобритании, разобраться в последствиях ее индустриального, имперского прошлого и наметить условия для более демократического, справедливого и безопасного будущего. Для тех из нас, кто сегодня работает в американских СМИ и институтах, та же самая срочная миссия заявила о себе. Культурный анализ и исторические войны имеют значение для гражданской и политической жизни США, которые сейчас переживают свой собственный момент "осени системы". В этом утверждении заложены две ключевые предпосылки: (1) культура имеет значение и (2) культурная история Великобритании 1970-х годов имеет отношение к нынешнему состоянию и будущим перспективам американского упадка. Давайте рассмотрим каждую предпосылку по очереди.
Стюарт Холл о культуре Великобритании после империи:
Культура старой империи – это империалистическая культура, но это не все, чем она является, и это не обязательно единственные идеи, на основе которых можно придумать будущее для британского народа. Империализм продолжает жить, но он не печатается в английском гене.
Холл писал, что необходимо, чтобы "современные мысли" вытеснили империалистическую ностальгию. Но чтобы разрушить старую джингоистскую привлекательность британского величия, эти современные мысли, эти лучшие идеи должны были "захватить народное воображение, вгрызться в реальный опыт людей". Принцип Холла лежит в основе этой книги. Борьба за историю имеет значение, а хорошие идеи могут развеять нездоровую ностальгию по сверхдержавам. Возможно, самое важное, что "новые левые" хотят сказать американцам 2020-х годов, – это то, что политика национального величия не является естественной или постоянной. Для ее создания потребовались организованные усилия, и поэтому она подвержена изменениям. "Идейно-логические трансформации, – писал Холл, – не происходят по волшебству" (47).
Холл сам наблюдал, как успешно Британия продавала свой имперский проект рабочему классу и представителям низшего среднего класса в конце викторианской эпохи. Джингоистские элиты, используя новые средства массовой информации того времени, подталкивали народ к концепциям британской судьбы для правящего класса. Они перекачивали классовый антагонизм в эмоциональную, патриотическую поддержку короны, империи и армии. Героический язык имперской романтики и приключений приучал элиту и неэлиту к славе британского величия. Возникновение такого национализма способствовало тому, что Том Нэрн называет "политическим крещением" рабочего класса (31). Он действовал через классовые и региональные границы, даже после двух мировых войн и имперских сумерек. Многие избиратели Brexit никогда не переставали представлять себе утраченный идеал Великой Британии.
В США политическое крещение неэлиты для выполнения гегемонистской миссии произошло в период между 1920 и 1960 годами. Массовая культура в эти критические годы проложила путь к патриотической политике, построенной на военной доблести США, массовом распространении грамотности и образа жизни, фобиях "красного устрашения" и "Джима Кроу", а также коммерческом успехе по всему миру. К середине века антикоммунизм породил скоординированные идеологические усилия по сплочению. Элита привлекала политические устремления избирателей из рабочего и среднего классов к делу американского превосходства, представляя экспорт американского потребительского капитализма как тройной дар священной свободы, истинной демократии и всеобщего процветания. Голливудская студийная система подхватила сюжеты приключенческих жанров поздневикторианской эпохи, адаптировав их к мировоззрению о превосходстве и глобальной центральности США. Конечно, многие американцы так и не купились на эту версию национального величия. Многие так и не почувствовали себя причастными к версии "холодной войны" о "судьбе-манифестации". Но многие поверили. И многие до сих пор верят в исключительное величие Америки, превосходящее все остальные страны. Я думаю, что значительное большинство приучено принимать ортодоксальное видение безграничного роста и вечно зеленого превосходства Америки. Но история Холла напоминает нам, что патриотизм, каким бы глубоким он ни был, можно изменить в прошлом. Их можно изменить и в будущем.
Я выдвигаю два аргумента в пользу англо-американского упадка, один из которых более привычен, чем другой. Они не исключают друг друга, и каждый из них поучителен. Знакомый аргумент заключается в том, что англо-американские державы и Запад в целом переживают с 1970-х годов схожие процессы промышленного сжатия, расшатывания социального согласия и разрушения послевоенного государства всеобщего благосостояния. С этой точки зрения, история движется примерно параллельно по всему Атлантическому океану. Беспорядочные 1970-е годы уступили место тандему Рейгана и Тэтчер и росту Вашингтонского консенсуса. Эпохи Клинтона-Блэра, Буша-Кэмерона и Трампа-Джонсона или Трампа-Брексита представляют собой короткие параллельные циклы, построенные на фоне более медленной и глубокой кривой длинного спада Роберта Бреннера. Упадочные и тоскливые 1970-е годы переживались в прямом тандеме, и каждый из них привел к появлению значительной интеллектуальной формации под названием "Новые левые" как в Великобритании, так и в США. Оба движения выступали против традиционной социальной иерархии и противостояли "новому правому" мышлению таких деятелей, как Энох Пауэлл и Маргарет Тэтчер в Великобритании, Барри Голдуотер и Рональд Рейган в США.
Но с другой точки зрения, Великобритания и США пережили утрату превосходства в смещенном тандеме. Перед ними стоят сопоставимые задачи по превращению в бывших гегемонов, но они сталкиваются с этими задачами в совершенно разных обстоятельствах, разворачивающихся с разницей в пятьдесят-сто лет. С этой точки зрения политика Великобритании после Второй мировой войны и культура скорее предвосхищают, чем совпадают с современной политикой и культурой США. Эта гипотеза противоречит привычному мнению, позиционируя Трампа, а не Ри-гана, как американскую Тэтчер. Сравнение Тэтчер и Трампа – это не прямое утверждение о личности или даже политике. Это утверждение о социальных кризисах, которые привели к решительному повороту вправо во внутренней политике. Как и Тэтчер, Трамп знаменует собой распад национального консенсуса и глобального доверия – то, что предшествовало и пережило ее администрацию. Администрация Трампа, как и администрация Тэтчер, отражала и усугубляла классовые, расовые, региональные и идеологические противоречия в обществе. Трамп управлял страной, руководствуясь принципами доминирования и разделения, а его базой стало белое меньшинство.
В отличие от Тэтчер и Трампа, Рейган был более гегемонистским лидером. Его президентство получило поддержку в самых разных регионах и классах. Правый крен эпох Никсона и Рейгана был не столь радикален, как правый крен Трампизма, что свидетельствует об истончении, растяжении, безнадежной удаленности избирателей Трампа от славных дней американского величия. Обычно успех Рейгана среди избирателей из рабочего класса в США объясняется проблемами кошелька или ценностными конфликтами (в первую очередь, оружие и аборты). Рейгановская версия американского консерватизма преуспела в перетягивании белых из рабочего класса вправо, но она также оказала гравитационную силу на городскую и либеральную элиту, которая затем с готовностью поддержала политику Клинтона в отношении преступности и социального обеспечения.
Если проанализировать широкую историю взлетов и падений сверхдержав, то можно заметить, что в конце XX века точкой опоры национальной мощи США становилось дело. Фантазия о восстановленном величии стала символической основой почти церковного успеха Рейгана в объединении избирателей. Тогда это было еще правдоподобно, но, как мы теперь видим, чем менее благозвучна фраза "сделаем Америку снова великой", тем мощнее ее идеологическая сила. Даже когда Тэтчер одержала легкую победу (1987 год) и погрозила старыми британскими саблями на Фолклендах, мало кто верил в британское превосходство.
Рассматривать историю по диагонали, сравнивая 1970-е годы в Великобритании и 2020-е в США как эпохи разделения и упадка, несколько грубовато, учитывая все различия, которые необходимо учитывать. Но общие моменты и резонанс оправдывают первоначальный эксперимент. Имперское отступление произошло раньше, быстрее и сильнее в Великобритании, чем оно происходило или будет происходить в США. И поскольку британские модели более яркие и резко изогнутые – поскольку они действуют в меньших национальных рамках и могут быть оценены в ретроспективе, – они бросают вызов американской культуре упадка.
США сейчас находятся в той же точке исторического перелома, что и Великобритания. Обзор Перри Андерсона, посвященный послевоенному обществу Великобритании, возможно, покажется вам знакомым:
Сегодня Британия выглядит архаичным обществом, застрявшим в прошлых успехах, впервые осознавшим свою вялость, но пока не способным ее преодолеть. Эти симптомы упадка слишком часто перечисляются, чтобы повторять их здесь: застой в промышленности, голодные школы, запущенные города, деморализованные правители, приходские взгляды. Все эти язвы настоящего берут свое начало в преимуществах прошлого. (English 43)
Великобритания попала в ловушку собственных мифов о величии, собственных мистифицированных концепций свободной торговли и либеральной гегемонии, собственных окостеневших социальных институтов и традиционно-алистических манер. США на протяжении последних сорока лет ходят во сне по британской ловушке, возвращаясь к идеям середины XX века, которые «сделали Америку великой», вместо того чтобы генерировать, опробовать, тестировать и адаптировать новые. Не все, что сейчас не так с США, можно объяснить относительным экономическим спадом или ностальгией по сверхдержавам. Например, за последние десять лет авторитарный популизм разросся по всему миру – от Индии до Восточной Европы и США. Но британский прецедент освещает некоторые аспекты правого популизма и белого национализма, характерные именно для англоязычных экс-супердержав. В 1960-х и 1970-х годах британские новые левые мыслители стремились осмыслить культуру и общество Великобритании после империи. Они расшифровывали иконы британскости: корону, империю, Сити, финансы, честную игру, классовую иерархию, эмпиризм, laissez-faire и, конечно, сам традиционализм. Они переосмыслили движущие силы британской жизни с нуля, стремясь избавиться от зачастую пагубного наследия утраченного величия. Удивляясь незыблемости старых викторианских иерархий в условиях массовой демократии, они задавались вопросом, возможна ли полная модернизация британской политики когда-либо произойдет.
Одна из основных идейных установок "новых левых", так называемые тезисы Нэрна-Андерсона, гласила, что идеологические горизонты Британии были заданы ранней революцией, ранней индустриализацией и успешной традицией классового компромисса между аристократией и средним классом. Классовый компромисс обеспечил социальную стабильность, но продлил влияние правящих классов далеко за пределы их исторического времени. Даже в урбанистические, индустриальные десятилетия XIX века аристократические ценности подпитывались растущей ролью заморской империи. По сути, викторианская империя стала своего рода исторической глубокой заморозкой для классовых отношений Великобритании. И снова Андерсон: империя придала "свой характерный стиль [британскому] обществу, освятив и окаменив до сих пор его внутреннее пространство, его идеологические горизонты, его интимную чувствительность" (24).
Британское господство в мировой экономике (1820-1920 гг.) продлило срок жизни ancien régime: "Конец викторианской эпохи и разгар империализма скрепили аристократию и буржуазию в единый социальный блок" (Андерсон, 29). Но когда военная и атомная мощь Великобритании начала ослабевать, очевидно, ослабла и основополагающая логика классового компромисса. То, что Мартин Винер называет "упадком английского промышленного духа", вбило клин между аристократами и капиталистами, особенно в десятилетия с 1880 года. Всеобщая забастовка 1926 года ознаменовала новый классовый раскол, на этот раз между рабочими и руководством.
Однако элитарное видение британского общества и многие аспекты старой классовой системы пережили десятилетия упадок и раскол в двадцатом веке. В этом заключалась настоящая загадка, которую новые левые пытались разгадать на протяжении десятилетий. Упадок скорее усугубил, чем смягчил иерархию викторианской эпохи. Он скорее усилил, чем ослабил консервативную хватку народного воображения. И именно здесь модель новых левых – как в своей слепоте, так и в своей проницательности – становится интересной для читателей в современных США.
Новые левые срочно хотели найти единую теорию поля политической истории Великобритании. Почему не было трансформирующегося рабочего движения? Почему социальный антагонизм раскалывался не по классовому, а по расовому, региональному, религиозному и идеологическому признакам? Почему произошла деволюция (например, в Шотландии), а не революция? Что заставило тэтчеризм работать? Нэйрн, Андерсон и их коллеги искали торическое объяснение успеху правого крыла в обращении к законным страхам граждан среднего и рабочего класса в условиях стагнации экономики.
Когда они перешли от выборов и институтов к культурным корням современного политического взаимодействия, ответы стали очевидны. Их исследования указывали на глубокие вопросы отношения, убеждений и идентичности – многие из них связаны со старыми привычками национального превосходства и консервативными последствиями империи. Например, Нэрн отмечает: "Непрерывность невероятного мифосознания Англии и ее политический упадок являются продуктами материальной истории – сокращающейся материальной основы империалистического порядка, все застрявшего в своих собственных исторических противоречиях". Рост Британии сделал ее богатым, но пустым центром.
В аналитической линии «Новых левых» отражены два парадокса культуры сверхдержав, которые стоит пересмотреть из-за их контринтуитивной актуальности для современной политики США. Во-первых, Британская империя культивировала идею слабого государства. Ее мифология? Свободные рынки, стабильные классовые отношения, идеология «честной игры» и огромное военно-морское превосходство – все это снижает необходимость государственного вмешательства (войн, вторжений, драконовских законов). Во-вторых, Британская империя породила слабый и гибкий, а не сильный и жесткий национализм в своей английской основе. Его мифология? Британский центр, а именно Англия, представлял собой техническую, универсальную и составную современность, а не ограниченный или узкий образ жизни. Это была скорее цивилизация, чем культура – нейтральный центр, вокруг которого можно было расположить бесчисленное множество культур-сателлитов, каждая из которых имела свои собственные регионы, языки и отличительные традиции. Национальная идентичность в центре все меньше и меньше вкладывалась в кус-томы или ценности, все больше и больше – в относительно бескровное стремление к росту как таковому. Величие определяло этот национализм. Речь шла о правящих идеях, а не о прочных традициях. В этом смысле Британия в период своего имперского расцвета была метакультурой или мультикультурой, а власть исходила из немаркированного и молчаливо белого, молчаливо английского ядра.
Оторвавшись от своей империи, Англия стала одновременно и ядром, и остатком. Новые левые связали культурные последствия империи с консервативным захватом политической энергии рабочего класса. Они начали изучать социальные последствия и проявления умаления, которое ощущали (белые) граждане Великобритании после империи. Утраченное величие стало движущей силой авторитарного популизма в преддверии правления Тэтчер. Стюарт Холл уловил эту политическую математику: "Тревоги многих оркеструются с необходимостью контроля над немногими" (35). В этой фразе слышны отголоски современной Америки. Когда даже экономически обеспеченные граждане чувствуют, что "традиционная лояльность к улице, семье, работе, местному населению" разрушается, консервативные элиты могут вербовать неэлитных, направляя в их сторону общее, но часто не поддающееся описанию чувство потери. В начале кампании Тэтчер "Сделаем Британию снова великой" Холл писал: "Властные структуры опасны, когда они восходят и когда они падают, и спорно, в какой момент они более опасны – во второй или в первый" ("Local", 25). В книге "Полицейский кризис" он и его соавторы обратились к сенсационному освещению в СМИ британских грабежей в 1970-е годы. Они утверждали, что уменьшение контуров Великобритании послужило одним из важнейших предпосылок для моральной паники вокруг городской уличной преступности. Это, в свою очередь, послужило предикатом для новой волны мышления о законе и порядке и, в конечном счете, для тэтчеризма. Средства массовой информации разжигали кризис, представляя чернокожих молодых людей как социальную угрозу, превращая их в "народных дьяволов" (161). Таковы были некоторые из расовых азбук правого популизма сорок лет назад, и Холл и его команда связали их с ростом параноидального мышления. Теории заговора кипят и бурлят в стране, находящейся на спаде. После десятилетий имперской экспансии рядовые британские избиратели научились воспринимать несогласие или диссонанс внутри Соединенного Королевства как "заговор против "британского образа жизни"" (23). Там, где цели расплывчаты и зловещи, а чувство утраты преобладает, конспирологическое мышление быстро превращается в расизм. Неудивительно, что английскость была склонна переходить в нативизм того типа, который пропагандировал Энох Пауэлл. Когда имперская миссия роста, величия и заморского владычества испарилась, национальному чувству в Англии некуда было деваться.