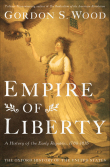Текст книги "Будущее упадка. Англо-американская культура на пределе своих возможностей (ЛП)"
Автор книги: Jed Esty
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
По этой причине американское величие остается точкой опоры. Оно по-прежнему удерживает либеральный центр. Бараку Обаме, хотя он и является поклонником неизгладимого предупреждения Рейнхольда Нибура о подводных камнях американского могущества, пришлось отказаться от относительного упадка, чтобы понравиться избирателям. Ни один президент США со времен Картера не осмеливался по-настоящему затронуть вопрос о значении или траектории постепенного заката Америки. Национальная самооценка не терпит ничего меньшего, чем первое место на мировой арене.
Когда либералы и умеренные с ужасом смотрят на силу Трампа и MAGA, они, кажется, часто не замечают долгосрочных последствий американской гегемонии. Факт американского превосходства в 1950 году породил желание американского превосходства, которое продолжает жить, набирая культурную силу, даже когда оно теряет свою экономическую основу. Язык национального превосходства обращен не только к сельским белым, оторванным от фабрик, ферм и шахт, но и к белым избирателям из среднего класса, которые чувствуют психологический укус постоянной статусной тревоги, потребительского долга и утраченной социальной мобильности. Блок избирателей Трампа, как и блок Тэтчер, включает в себя большое количество состоятельных и обеспеченных избирателей, в основном белых и непропорционально больших мужчин (Бхамбра).
Белый национализм и правый популизм – это само собой разумеется. Но это также лежит в основе неспособности политического центра осознать проблему и переписать язык американской судьбы.
Политический центр США не замечает, когда речь заходит о национальном величии, полагая, что риторику и даже практику превосходства США можно поддерживать ради политической привлекательности и экономических преимуществ без ущерба для прогрессивной и демократизирующей повестки дня. Рефлекторная ссылка на американское превосходство кажется безобидной, привычной и анодичной, но это не так. Уже нет. Левые слишком быстро отказываются от нации, а центр слишком упорно цепляется за величие. Но и тех, и других можно побудить взглянуть на эти слепые пятна, если мы сможем отказаться от деклинистского мышления. Теперь, когда США занимают второе место, становится возможным отделить американский национализм от глобального превосходства. Становится возможным переопределить коллективную судьбу без манифестации судьбы и восстановить эмоционально резонансный, широко демократический патриотизм, не основанный на насильственной исключительности.
Самое значительное и своевременное наследие проекта "Новые левые" – это метод подхода к национальной культуре, который охватывает политическую и медийную элиту, систему развлечений и искусства, а также академический мир. Культура, в широком смысле, – это информация и интерпретация – факты и истории. Университет хранит большую часть фактов. Система СМИ контролирует большинство историй. Знаниевые компоненты национальной культуры США – университеты – начинает освобождаться от решающей ориентации холодной войны на социальное равновесие и американскую исключительность. Но как быть с фантазией и развлекательным аппаратом Америки, которая огибает угол от сигнала к терминальному кризису? В следующей главе я рассматриваю возникающие нарративы и символы, которые меняют значение американской культуры в эпоху пределов и для нее.
В Великобритании культура упадка – это пережиток двадцатого века. Но в США упадок еще только формируется. 2020-е годы станут решающим периодом для американской культуры в эпоху ограничений. Что может породить в США чувство общей миссии или общей цели, если не старое видение глобального превосходства и бесконечного роста? Утверждение, что мы номер один, и в то же время беспокойство по поводу того, что мы номер два, не является стратегическим или конкурентным преимуществом. Что, если вместо погони за утраченным величием американская культура найдет способ смириться с медленными потерями и прошлыми неудачами и строить будущее, исходя из этого? Риск остаться в упадническом мышлении очевиден на примере Великобритании, которая по-прежнему погрязла в том, что Пол Гилрой назвал постимперской меланхолией. Согласно Фрейду, меланхолия берет верх, когда потерянный объект не оплакан. Меланхоличный человек – или, в данном случае, нация – не может назвать или посмотреть в лицо утраченному объекту. В результате меланхолик просто вращается в симптоматической орбите вокруг его отсутствующий центр. Гилрой предполагает, что граждане Великобритании до сих пор не смогли оплакать свою утраченную империю. Расчистить «завалы их разбитого нарциссизма», пишет он, означает научиться признавать «жестокость колониального правления, осуществляемого от их имени и в их интересах» (99). Эми Каплан в 2009 году, трогательно противопоставляя себя Гилрою, описала имперскую меланхолию в Америке с аналогичным, но оптимистичным чувством цели: «Возможно, есть возможность отказаться от имперской Америки и даже оплакать ее, а также принять несказанное будущее» (31). Для США оплакивать свое могущество означает осознать свою историю и свои «слепые пятна». Многие гуманитарные дисциплины преследуют эту цель на протяжении многих лет, но дебаты о периоде полураспада американской исключительности сегодня представляют собой серьезное общественное и политическое соревнование.
Проблема упадка в Америке – это не только проблема меланхолии в стиле Великобритании. Американцы вынуждены бороться со смешанным наследством: отчасти меланхолической привязанностью к утраченной власти, отчасти ослепляющим оптимизмом по поводу возможности того, что власть не была действительно или навсегда утрачена. Из-за этого противоречия американская культура бесконечно вращается вокруг вопроса о своем статусе и власти, вместо того чтобы просто признать, что ее гегемония реальна и огромна, но непостоянна и уже угасает.
Поскольку американский оптимизм окрашен тревогой, меланхоличные истории об осени и сумерках, упадке и крахе – или о возрождении величия – всегда занимают центральное место. Траектория упадка в США иная, чем в Великобритании, но наша версия ностальгии по сверхдержаве часто следует британскому прецеденту. Британские истории и идеи формировали популярные представления об имперской славе (утраченной или обретенной) на протяжении многих поколений. Они укоренились в английских СМИ, которые распространились по всему миру. Как отмечает Фарид Закария: "Британия, пожалуй, была самым успешным экспортером своей культуры в истории человечества. Сегодня мы говорим об американской мечте, но до нее существовал "английский образ жизни"" (187).
Другими словами, в американской культуре есть забавный парадокс. Она началась с восстания против британского суверенитета и на протяжении многих поколений определяла себя в противовес ценностям правящего класса Великобритании – короне, империи и традициям. И все же в Золотой век Голливуда, в преддверии американской гегемонии, идеология империи вновь вошла в американскую кровь, адаптированная для массового общества и технократического государства. Средневековый термин translatio imperii, который когда-то описывал божественную преемственность императоров, позже стал обозначать дрейф власти на запад. Он мутировал в доктрину "явной судьбы" для устремленных американских поселенцев (Стефенсон). В середине века американцы могли верить, что солнце заходит за Тихий океан, бросая свои последние золотые лучи на новую медиастолицу двадцатого века, Лос-Анджелес. Исторической основой голливудских жанров издавна были взлеты и падения империй, романтика завоеваний и пограничные приключения. Американцы научились представлять свое место в мире холодной войны через неовикторианское видение Голливуда. Когда я слышу, как люди жалуются на переработанные супергеройские франшизы и омерзительные фабрики сиквелов современного Голливуда, я удивляюсь вдвойне. Во-первых, потому что студийная система была построена на формулах и повторениях. А во-вторых, потому что многие формулы, особенно для боевиков, были заимствованы из повествований о героях девятнадцатого века. Вестерны пересказывали пограничные конфликты британских завоевателей по всему миру. Викторианские мифы, такие как Драк-ула, Шерлок Холмс, Человек-невидимка, Война миров и Остров сокровищ, стали движущей силой раннего Голливуда. Американская медиаимперия середины века не просто снимала сиквелы. Она была сиквелом.
Классический Голливуд расширил и адаптировал замечательную индустрию сказок поздневикторианской Британии. Эти две фабрики грез говорили по-английски со всем миром. Они разработали особый набор шаблонов повествования для глобальной аудитории (Джоши). Экономические и символические преимущества этой экспортной торговли продолжают накапливаться. «Фильм для Америки, – писал анонимный рецензент в лондонской Morn-ing Post в 1926 году, – то же самое, что флаг для Британии».1 В 1980-х годах Стюарт Холл изумлялся: «Империи приходят и уходят. Но образ Британской империи, похоже, обречен существовать вечно. Имперский флаг был спущен в сотне разных уголков земного шара. Но он все еще развевается в коллективном бессознательном» (Hard Road 68). И это по-прежнему так, сорок лет спустя. Печально известное обращение Редьярда Киплинга к американцам в 1899 году с призывом «взять на себя бремя белого человека» долгое время считалось расистским антиквариатом, но основной посыл, заключающийся в передаче превосходства от британцев к американцам, остается подтекстом в популярной культуре по обе стороны Северной Атлантики. Многие из яростно патриотических языков американского авантюризма – как сверхдержавы и, возможно, даже более токсичного как бывшей сверхдержавы – берут свое начало в бравурном языке викторианской «Большой игры». Старые британские мифы о глобальном господстве кристаллизовали формы расовой вражды – «желтая опасность», «красный испуг», «мусульманская угроза», – которые формировали не только геополитику, но и американские сюжетные конвенции в эпоху холодной войны и после нее. Старые мифы об англосаксонской христианской добродетели скрепляют британскую империю с американской гегемонией, морализируя историю завоеваний, добычи и расового капитализма. В них, пусть и негласно, прославляется превосходная способность англо-американских белых мужчин изобретать, производить, управлять и управлять природой и другими народами.
Викторианские и неовикторианские жанры заложили привычки мышления, которые укрепляют как удачу, так и добродетель белых победителей истории. Превосходство белой расы и англо-американское правление переплелись в длинной школьной программе империи и вошли в народную культуру США. Но у этих повествовательных формул есть и обратная сторона. Как триллеры, они также имеют тенденцию подчеркивать уязвимость англо-американского ядра перед вторжением и вырождением. Вспомните британские звездные франшизы последнего столетия, от архетипического вампира (Дракулы) и детектива (Шерлок Холмс) 1890-х годов, фэнтезийные королевства (трилогия Толкиена) и фэнтезийная геополитика (романы Флеминга о Бонде) середины века, вплоть до волшебного мальчика-героя Гарри Поттера 1990-х годов. В центре всех этих историй – архаичные социальные формы: кровососущая аристократия у Стокера, вырождающаяся империя у Конан Дойла, средневековая аллегория у Толкиена, глобальные приключения британцев у Флеминга и тонизирующие чары викторианской государственной школы у Роулинг. Нити успешных англоязычных масс-культурных историй сходятся на темах старых социальных иерархий, поддерживаемых разрушенной империей, социального порядка, которому угрожают коррумпированные злодеи, но который защищают маловероятные герои. Эти британские мифы перерабатывают гламур глобального правления и страх перед национальным вырождением.
Британские мифы о свободе имеют общий исторический силуэт с американскими мифами о свободе. Оба они были закреплены в те времена, когда эти близнецы-гегемоны представляли себя в качестве авангарда современности и поборников человеческой свободы. Неизменное мифическое ядро либерального империализма как в его викторианском британском, так и в американском воплощении времен холодной войны говорит о склонности белых, западных или даже конкретно WASP к свободным рынкам и честной игре, к героическим открытиям и заморскому владычеству (Грин). Как отмечает Приям-вада Гопал, эта специфическая англо-американская фантазия рассматривает свободу как дар англоязычным народам, от них и для них, а также как "франшизу, щедро распространяемую на народы по всему миру" (3). Основной парадокс – свобода, навязанная силой, – никогда не может быть полностью стабилизирован в теории или практики. Поэтому она требует мифического выражения. Ее противоречия постоянно порождают новые истории. Она породила целую англоязычную популярную культуру, сосредоточенную на том, что мы можем назвать триединой мифологией слабых государств, сильных рынков и свободных индивидов.
Мифология слабого государства/сильного героя формирует многие жанры в романтико-приключенческой традиции популярной культуры Великобритании и США. В них герои решают проблемы и спасают людей, потому что безличное, неэффективное или враждебное государство не может этого сделать.2 Миф о слабом государстве – одна из самых влиятельных британских идей, передающихся по кровеносной системе в США, и он помог увековечить представление – даже в период высокого кейнсианства 1940-1970 годов – о том, что индивиды и рынки лучше, чем коллективы или государства, делают выбор. Этот тип индивидуалистического мышления – пережиток викторианской эпохи. Либеральные гегемоны Великобритании и США создали для своих образованных элит возможность верить в то, что свободный индивид является высшим социальным актором. Фантазия об автономной самодостаточности скрывает в себе глубокую привязанность к аристократическому представлению о привилегиях и превосходстве. Ее американизированная, модернизированная версия – самодельного (белого) человека – является локусом консервативных политических желаний. Он действует как псевдопопулистская фантазия об одиноких достижениях, неотъемлемых социальных отличиях и с трудом завоеванном богатстве.
Двойная фантазия о саморегулирующихся субъектах и саморегулирующихся рынках – это воображаемый фундамент мифологии слабого государства. В реальности, конечно, Великобритания и США всегда смешивали политику свободной торговли и протекционизма. Проповедь торгового либерализма и защита экономических преимуществ привели США к огромному мировому богатству, как и Британскую империю. В условиях кризиса национального упадка утрачивается именно этот миф о свободной торговле, мифический самообраз экономического гегемона, льстиво изображаемого в качестве крестоносца за глобальный laissez-faire. Трампизм знаменует собой место крушения этого самовосприятия. Изоляционистский и протекционистский поворот в движении Трампа обнажает американскую слабость и одновременно трубит о силе.
На культурном уровне, конечно, риторика Трампа – это попытка переработать Рейгана – уже рекурсивное упражнение в ностальгии по ностальгии (по англо-американскому правлению). Источники власти Америки на спаде – финансы и вооруженные силы – мистифицировались и прославлялись в фильмах 1980-х годов, таких как "Уолл-стрит" и "Топ Ган". Но эпоха Рейгана в основном репетировала свою привязанность к западному могуществу через ностальгию по хорошей жизни эдвардианской эпохи и эпохи Эйзенхауэра. Фильмы о возрождении раджа в Голливуде 1980-х годов выражали англофильскую составляющую этого чувства. Фильм "Назад в будущее", возвращаясь к социальным формам времен холодной войны, буквализировал отечественную тенденцию. Ностальгия по сверхдержавам и сейчас вливается в те же фантастические сосуды, огибая прекрасные времена Эдварда и Эйзенхауэра. Вспомните "Аббатство Даунтон" и "Безумцы" – два популярных телешоу, которые получили широкое распространение в неопределенные годы после краха 2008 года. Элитная аудитория с удовольствием смотрела истории о последних уверенных эпохах западного могущества. Британские аристократы и американские технократы. В "Даунтоне" поднимался вопрос о том, можно ли сохранить богатство рантье в условиях упадка (ответ: да, на одно последнее поколение, с помощью импортированного капитала от американской жены). Mad Men драматизировал хрупкое создание богатства в индустриальной американской экономике, быстро смещающейся в сторону медиа-развлекательно-военно-сервисного-финансового секторов (Гудлад). Временами тревожные, но в конечном итоге обнадеживающие, эти сериалы возвращают времена славы англоязычной элиты. Они предлагают консерваторам соблазн гламурного прошлого, которое, тем не менее, скомпрометировано приниженными взглядами элиты на расу, класс и пол. Подобные фантазии льстят прогрессистам, в то же время закрепляя обратный дрейф исторических желаний. Безусловно, сериал Mad Men, завершившийся в 2015 году, проливает свет на первобытные удовольствия 1950-х годов, связанные с Дональдом Трампом – разрушителем табу, гольфом, белой уверенностью и жестоким сеньориальным чувством гетеросексуальной привилегии. Любая популярная культура может каннибализировать и смешивать прошлое, но в Великобритании и США вершинные этапы национального превосходства особенно цепко держатся за полупогребенные политические желания, которые продолжают жить в их последствиях.
Даже на пике своего развития культуры сверхдержав преследуют фобии и страшные фантазии о потере власти. Разложение внутри и враги у ворот – вот вечные призраки. Они движут сюжетами о вырождении и сценариями вторжения, давая толчок тому, что Сьюзен Сонтаг назвала «воображением катастрофы». За шестьдесят лет до этого Джозеф Конрад назвал его «защитным мандатом общества, которому угрожает опасность». И бывшие сверхдержавы представляют собой еще большую угрозу, чем либеральные гегемоны, которые описывали Сонтаг и Конрад. Может ли быть совпадением то, что британская и американская фабрики грез породили по одному характерному неживому призраку во время сползания в терминальный упадок? Миф о вампирах, созданный Брэмом Стокером в 1890-х годах, предвосхищает миф о зомби, который уверенно набирает обороты в Америке с 1970-х годов. Вампир, покрывающийся плесенью аристократ, указывает на мертвую руку старого правящего класса в Британии. Зомби, автомат бездумного аппетита, указывает на упадок общества массового потребления. Оба они укоренены в народном воображении об обществах, свалившихся с пика. Оба описывают общества, которые потребляют сами себя, становясь жертвой собственного избытка.
Америка – неживой гегемон – одновременно и вампир, и зомби: она обветшала и в то же время могущественна (Харман). Противоречие упадка – былого и будущего величия – оживает в готическом ключе в кровавых геополитических баснях нашего времени, в этих историях о воскрешении. Повальное увлечение зомби в культуре США после 2000 года – одно из проявлений расширяющегося рынка антиутопической и апокалиптической фантастики (Hicks, Hur-ley). Апокалипсические видения – это не сенсация в жанрах военных, сексуальных, экологических и ядерных катастроф, а привычный реалистический элемент в художественной литературе Кормака Маккарти, Колсона Уайтхеда, Линг Ма и многих других. Как отмечает Дэн Синикин, сказки о "неолиберальном апокалипсисе" четко соответствуют затянувшемуся спаду.
Тем временем басни о вторжении, которые когда-то выходили из британских издательств и американских студий, теперь начинают делить значительное культурное пространство с азиатской продукцией.3 Адам Туз сообщает, что китайская популярная культура последних пятнадцати-двадцати лет отличалась "массивной диетой теле– и кинопродукции, озабоченной вопросом подъема и падения великих держав" (252). Представление о том, что будущее теперь делается в Сеуле и Шанхае, несомненно, помогло проложить путь к успеху на американском рынке Лю Цысиня, чья "Проблема трех тел", казалось, была повсюду в 2015 году, и Бонг Джун-хо, чья жемчужина 2019 года "Паразит" получила "Оскар" за лучшую картину и "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах. И "Паразит", и "Проблема трех тел" используют шокирующую ценность сюжета о вторжении в дом: первый – в масштабах домашней зоны частной жизни, второй – в масштабах планетарной зоны суверенитета. Бонг обновляет основные символы классического вестерна (ковбои и индейцы сталкиваются за обладание и отчуждение земли), добиваясь поразительного и удовлетворительного эффекта в жестокой развязке своего фильма. Вестерн уже никогда не будет прежним. Между тем, "Проблема трех тел" опирается на тот самый страх, который оживил "Войну миров" Г. Уэллса в 1890-х годах (или "Человека в высоком замке" Филипа К. Дика в 1960-х). Сюжеты об инопланетном вторжении гибко накладываются на колониальную историю, и точка зрения читателя меняется между идентификацией с захватчиками и захваченными. Такие блокбастеры отмечают точки переключения между великими державами – сдвиги тектоники британского, американского и азиатского циклов накопления. В такие моменты колеса истории тяжело скрежещут, складывая судьбы старых и новых гегемонов в триллерный сюжет вторжения и обороны. Для Лю, как и для Уэллса и Дика, воображаемый прорыв – концепция успешного альтернативного мира – имеет корень, глубоко погруженный в неопределенность современной геополитики. Он превращает текучку великих держав – их изменчивое прошлое, их неопределенное будущее – в сенсационные сюжеты.
Прошло 130 лет с тех пор, как Бюро переписи населения США объявило о закрытии Запада, а Фредерик Джексон Тернер ответил на это тезисами о границах. Но с тех пор концепция американского фронтира сохраняется благодаря мощным повествованиям о расширении и росте. Сорок два штата превратились в пятьдесят. Карта США расширилась до Тихого океана. Гаити перешло под флаг США в 1915 году. Космическая эра перезагрузила манифестацию судьбы. Глобальный авантюризм в холодной войне вновь открыл экспансионистский менталитет американской политики. Даже киберпространство, похоже, вновь пробудило колонизаторское и предприимчивое воображение американского государства и американских фирм. Американская культура воспроизводит в каждом новом поколении идею о том, что американское общество – это устремленное в будущее, безграничное образование. Пограничное мышление сохраняется здесь так же, как в европейской истории сохранялся ancien régime.
Но даже продолжительная жизнь Америки как вечнозеленого и символического Пограничья меняется после нескольких десятилетий относительного экономического спада. Закрытый фронтир – в отличие от закрывающегося фронтира – принесет американцам другой вид воображаемых горизонтов. Четыре отличительных аспекта настоящего обозначают 2020-е годы как поворотный пункт между пограничным футуризмом и культурой сокращения. Первый, и самый важный, – это жесткий предел изменения климата. Изменение климата знаменует собой не только демографический предел границ США (1890) или земной предел евроамериканских исследований и поселений (1912, Южный полюс), но и внезапное и катастрофическое осознание ограниченности пространства. Планетарные пределы доминирующей природы были достигнуты, даже нарушены. Во-вторых, перенос капиталистического динамизма через Тихий океан знаменует собой иное завершение пятисотлетнего цикла вестернизации. Европоцентристская организация внешней политики с викторианской эпохи означает, что американский народ и политические деятели воспринимают азиатскую мощь как угрозу. В-третьих, проект внеземных путешествий и исследований теперь перешел от проекта национального государства к корпоративному и частному предприятию. Теперь не Британия, Америка или Китай расширяют границы, а Virgin Galactic (Великобритания), SpaceX (США), Blue Origin (США), Galactic Energy (Китай), i-Space (Китай) и Link-Space (Китай). Народные инвестиции в экспансивную миссию своей страны (патриотизм времен «Аполлона») кажутся все более и более как пережиток двадцатого века. И наконец, трампистская фантазия об обнесенной стеной Америке знаменует конец открытого фронтира иным, но столь же эпохальным способом (Грандин). Экспансивная граница американского государства – открытая и инкорпорированная, как враждующая многорасовая колония поселенцев в XIX веке и геополитический и технологический джаггернаут в XX – может закрыться для новых людей и нового роста.
Дело не в том, что инновации и динамизм в США умерли. Это далеко не так. Научные и технологические достижения поражают умы сейчас так же, как во времена Белла и Эдисона. Но по мере того как идея бесконечной экспансии США наталкивается на новые реальные и символические пределы, американская культура начинает смотреть скорее назад, чем вперед. Поворотный пункт находится здесь. Америке нужны новые истории, а не бесконечные панихиды по утраченной национальной славе. Судьба Америки как последней великой державы была мощной исторической идеей, которая лежала в основе культуры времен холодной войны. Теперь это угасающая фантазия.
В эпоху Буша II ностальгия по сверхдержаве усилилась, как и неоимперский призыв к оружию. 11 сентября усилило агрессивную защиту могущества США, а крах 2008 года обострил тревожную защиту элитного американского богатства. Главный герой романа Мохсина Хамида «Неохотный весельчак» (The Reluctant Fun-damentalist, 2007) запечатлел ускорение утраченного величия в Нью-Йорке после 2001 года:
Я всегда считал Америку страной, устремленной вперед; впервые меня поразила ее решимость оглянуться назад. Жизнь в Нью-Йорке вдруг стала похожа на жизнь в фильме о Второй мировой войне; я, иностранец, обнаружил, что смотрю на декорации, которые следует смотреть не в техническом цвете, а в зернистом черно-белом. Чего так жаждали ваши бедные соотечественники, мне было неясно – времени беспрекословного господства? безопасности? моральной уверенности? Я не знал, но то, что они спешно надевают костюмы другой эпохи, было очевидно.
Хамид показывает нам американцев XXI века, с тоской оглядывающихся на уверенность двадцатого века – власть, богатство, превосходство. Этот взгляд назад повторяет наименее продуктивные элементы британского упадка.
В романе Хамида отражено положение граждан, отчужденных от будущего коллективной ностальгией. Стремление к моральной уверенности также отдалило американцев от национального прошлого. Оно побуждает их смотреть на историю как на святыню национальной добродетели. Но американская история была местом кровавой борьбы и нестабильности, а также значительного социального прогресса.
Однако за годы, прошедшие после 2001 года и после появления текста Хамида, превосходство США становится скорее историческим объектом, чем святым Граалем. Старый военно-промышленный комплекс постепенно превращается в предмет наследия. В середине двадцатого века исторический туризм собирал воспоминания об аграрном, пограничном и доиндустриальном прошлом. Колониальный Уил-лиамсбург, ферма Нотта Берри, деревня Гринфилд – все эти додиснеевские места отдыха американцев были в полном разгаре к 1950-м годам. В наши дни, особенно для американцев, родившихся после 1975 года (две трети населения), концепция индустриального превосходства США времен холодной войны является артефактом. Сталелитейные заводы и зерновые башни превращаются в арт-лофты и скалодромы. Заброшенные военные базы и техника становятся туристическим кормом. Самый продаваемый в мире пикап Ford F-150 теперь собирают на гибридном предприятии, где проводится экскурсия по заводу Ford Rouge. Экскурсии по НАСА в Хьюстоне, на мысе Канаверал и в Хантсвилле представляют космическую программу США в виде исторического повествования.
США запечатлевают в институциональном янтаре средства производства, которые когда-то обеспечивали их богатство и престиж. Британия тоже постепенно меняла свою идентичность, превращаясь из мировой мастерской в музейную культуру. Этот процесс шел полным ходом в период между мировыми войнами и продолжался в 1970-е и 1980-е годы. Конечно, ориентация культуры упадка на прошлое может быть двоякой. Постимперская меланхолия может уступить место чему-то столь же регрессивному – стилизованному и фетишизированному представлению о прошлом страны, хранящемуся под стеклом или отлитому в пластик тематического парка. От сатирического укуса Джулиана Барнса в "Англии, Англии" (1998) до прочтения Алексом Нивеном "Альтон Тауэрс" в "Острове новой модели" (2019), путь национальной самокарикатуры должен предупредить нас об одной потенциальной опасности для Америки на склоне лет. В эпоху Тэтчер разгорелись ожесточенные дебаты о национальном наследии. В книге "Жизнь в старом городе" Патрик Райт описал захват элитой исторического воображения в Британии. Джентрифицированная ностальгия по загородным домам представляла "крайне избирательный образ британской особенности... как сущностной идентичности преданной нации, к которой мы все должны вернуться" (Райт 26). Анализ Райта предвосхищает вирусное распространение риторики "преданной нации" в современных США. Эта риторика почти всегда повторяет слабогосударственную версию истории США, в которой реальными действующими лицами являются героические личности (поселенцы, отцы-основатели, изобретатели, предприниматели). Но есть ли альтернативы мнению о том, что Америка – будь то республика героических людей или колосс капиталистической экспансии – утратила свою сущностную идентичность в эпоху относительного экономического упадка? В начале 2020-х годов может показаться, что последний редут искупительного нарратива сильного государства находится в том, что мы можем назвать инфраструктурным воображением. Инфраструктура питает правый центр консервативным видением стальных балок и бетонных пилонов в обрамлении большого неба – Америкой, которая все еще что-то строит. Но она также питает левоцентристское видение общественных работ и демократического доступа – государства, способного решать проблемы в масштабах Нового курса. Призывом Джо Байдена к новым инвестициям в инфраструктуру стала нефильтрованная ностальгия по сверхдержаве. В апреле 2021 года он назвал свой успешный законопроект "не похожим ни на что, что мы делали с тех пор, как построили систему межштатных автомагистралей и выиграли космическую гонку".
десятилетия назад".
Захватывающее государство Байдена воплощает американскую мощь в стали и бетоне, но оно также обеспечивает широкополосную связь и уход за детьми.