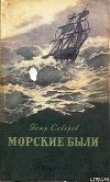Текст книги "Незабываемые встречи"
Автор книги: Иван Малютин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
АВТОР ПЕСНИ О «КАМАРИНСКОМ МУЖИКЕ»
В 1892 году я приплыл на барке с дровами в Ярославль. Я был очарован и городом с красивой набережной и Волгой, убегающей вдаль к Костроме, особенно, когда смотришь на нее с высокого берега – «Стрелки», словно с птичьего полета. Перед глазами широкие просторы Заволжья с зеленеющими рощами многочисленных дач. Смотришь на все и не можешь налюбоваться этой дивной красотой, щедро разбросанной чьей-то невидимой рукой во все стороны. «Как это несравнимо с нашей бедной деревушкой, с нашей унылой природой», – думал я. А, может быть, так особенно радостно и интересно воспринималась жизнь потому, что шел мне только 19-й год.
Все привлекало мое ненасытное любопытство: и набережная, и бульвары, богатые тенью вековых лип, и театр, который я видел первый раз в жизни. Подойдя вплотную к его небеленным каменным стенам, я с робостью и волнением прикасался рукой к этим, как мне казалось, священным камням и чувствовал усиленное биение моего сердца. Мне приходилось читать «Горе от ума», «Ревизора» и «Недоросль», но я не имел никакого понятия о том, как это представляют в театре. Все это было для меня тайной, загадкой, которая пряталась вот за этими стенами…
Я и подумать тогда не мог, что здесь, в храме Мельпомены, я встречусь с Качаловым, Орленевым, Адельгеймами и другими замечательными жрецами театрального искусства…
И вот я остался в этом городе жить. Работал я на фабрике рабочим в лесопильном отделении, получая пятьдесят копеек в день.
В первый же год я побывал в театре. Смотрел «Горе от ума». Впечатление было необычайное.
На фабрике я познакомился с одним очень культурным человеком – кузнецом Лукичом, который стал моим учителем и неразлучным другом на многие годы. Он рассказывал мне, что Ярославль богат и красив не только природой, но и людьми, которые когда-то здесь жили… Около церкви Пророка Ильи было пустое место. Тут стоял сарай, в котором Федор Григорьевич Волков начал показывать первые представления, отсюда и начался первый театр на Руси… А ближе и гимназия, в которой учился Николай Алексеевич Некрасов, недалеко от нее находился дом его брата Федора Алексеевича, в котором жили Некрасовы.
А на «Стрелке» находился Демидовский юридический лицей, профессором его был Константин Дмитриевич Ушинский – выдающийся русский ученый-педагог.
Возле Спасского монастыря, на берегу реки Которосли, освобожденный из ссылки, из Ферапонтовой пустыни, скончался на барке патриарх Никон. В этом же монастыре была найдена Мусиным-Пушкиным рукопись «Сказание о полку Игореве».
Это были захватывающие меня новизной долгие и сердечные беседы кузнеца о прошлом русского города на Волге.
– Но и сейчас, – говорил он, – есть в Ярославле интересные люди: в Казенной палате служит М. П. Чехов, еще живет в городе седенький старичок – Леонид Николаевич Трефолев, автор песни о «камаринском мужике».
Трефолев служил в земской управе и был большой охотник копаться в старых книгах на толкучке у букиниста Венечки Смирнова. И мы часто с Лукичом тоже проводили немало времени около старых книг, разрывая бумажные кучи, как два петуха, в поисках жемчужных зерен. Труды наши даром не пропадали, мы находили кое-что очень ценное. Никогда не забыть, как попалась мне книжка «Двадцать биографий образцовых русских писателей» Виктора Острогорского.
Нередко я один бывал у букинистов. И вот однажды я заметил почтенного старичка, о котором мне говорил Лукич. Он пересматривал у Венечки книги, разложенные на земле, прямо на половиках. Одет он был в теплое поношенное драповое пальто, в теплой шапочке «пирожком», в кожаных черных перчатках, с тросточкой и портфелем под мышкой. Большинство книг лежало открытыми, чтобы можно было читать их заглавия, а другие, закрытые, почтенный старичок деликатно открывал своей тросточкой. И если какая-нибудь интересовала его, наклонялся, брал в руки и рассматривал ее внимательно. Он обращал больше внимания на иностранную литературу, искал Мицкевича и еще каких-то авторов.
Венечка подозвал меня к себе:
– А знаешь ли, кто этот старичок в очках с тросточкой? Трефолев – поэт. Подойди, поговори с ним, он посоветует тебе, какие книги читать и какие покупать. Человек он интересный.
Я знал уже Трефолева по стихотворениям, часто печатавшимся в газете «Северный рабочий». Но не был знаком с ним лично. А теперь представился удобный случай подойти и заговорить с ним.
Он пересмотрел все книги и собирался уходить… Я осмелился и спросил, книги каких писателей необходимо читать в первую очередь.
– Пушкина читайте, Пушкина! Ну, а потом Лермонтова, Некрасова, но, главным образом, читайте и перечитывайте Пушкина, – повторил он, – в нем все, что нужно. Но я спешу…
Я пошел проводить Трефолева. Мы прошли квартала два и разговорились. Он спрашивал меня, откуда я, где учился, что читал, что нравится мне из прочитанного. Я охотно рассказал ему о своей жизни и работе.
Он обратил внимание на мою любознательность, привел несколько примеров из жизни своих знакомых – самоучек Ивана Захаровича Сурикова и Спиридона Дмитриевича Дрожжина.
– С них нужно брать пример: учиться и никогда в жизни не отчаиваться, – заключил Трефолев.
Я назвал его по имени.
– Вы знаете меня? – удивился он.
– Венедикт Иванович, букинист, говорил о вас. Потом я много читал ваших стихов в газете, а книг еще не встречал.
– А вы зайдите ко мне в управу, где я служу, – он назвал улицу и дом. – Там я поищу кое-что для вас, заходите…
Было уже совершенно темно, когда я простился с Леонидом Николаевичем.
Прошло много времени, пока я наведался к Трефолеву.
– Леонид Николаевич здесь? – робко спросил я у встретившего меня швейцара, перешагнув порог управы.
– Здесь, но занят. Садитесь, подождите.
Швейцар доложил, и Леонид Николаевич вышел в переднюю комнату.
– Ах это вы? Помню, помню! – и ушел обратно в кабинет, откуда через несколько минут появился с книгою в руках. Это был сборник его стихотворений, изданный в Москве в 1894 году.
– Вот вам, читайте, да не забывайте Пушкина, – и, усмехнувшись, добавил: – и меня тоже. Заходите в другой раз, – он торопился, – у меня люди…
Я поблагодарил его, и мы простились. Но он вернулся от дверей кабинета и остановил меня.
– Вот что, к следующему разу писец перепишет вам кое-что из моих стихотворений. Я скажу ему. Вы недельки через две понаведайтесь…
Я долго не заходил к Трефолеву, но все время думал, если не сходить, то, может, многое в жизни потеряю… А он такой добрый, ласковый, но все занят. У него всегда общественные дела и какое-то начальство с блестящими пуговицами на мундирах.
Наконец мне посчастливилось, Леонид Николаевич был в хорошем расположении духа, а главное, у него не было посетителей.
– Вы как-то говорили, что любите театр, помните? – спросил он.
– Да, люблю, но я смотрел только «Горе от ума»…
– Мне довелось видеть знаменитого Михаила Семеновича Щепкина. Лет сорок назад он из Москвы приезжал. Две пьесы ставили тогда с его участием: «Ревизора» Гоголя и «Скупого» Мольера.
– «Ревизора»-то я читал, а «Скупого» не знаю, – сказал я.
– А вот наше купечество, – начал он, – не уважает хороших классических пьес. Помню, как плохо встретили великого артиста. Обидно было со стороны смотреть на такое равнодушие, – и он кратко рассказал о знаменитом Щепкине и как любил его народ.
– Театр-то наш, Ярославский, интересен тем, что он самый первый в России, основан Федором Григорьевичем Волковым. Через год будем праздновать 150-летие его существования…
Леонид Николаевич передал мне переписанные писцом свои последние стихотворения, в том числе и новый «Камаринский» – памфлет на англо-бурскую войну в Южной Африке.
В 1900 году Леонид Николаевич был инициатором организации 150-летнего юбилея русского театра, который, по словам одного исследователя, «вопреки воле правительства превратился в большое событие в жизни страны и театра».
На юбилее 9 мая 1900 года Леонид Николаевич, встреченный громкими рукоплесканиями, искренне, просто и задушевно прочитал стихотворение «На родине русского театра».
На торжество, посвященное памяти отца русского театра, приехали в Ярославль лучшие артисты Москвы и Петербурга. Среди них: Южин-Сумбатов, высокий, стройный и красивый, не в меру тучный «Дядя Костя» – Варламов, солидный Давыдов, директор Императорских театров Теляковский и главный режиссер и драматург Евтихий Карпов – автор «Рабочей слободки», Сухово-Кобылин – автор «Свадьбы Кречинского», седенький восьмидесятилетний старичок.
На чествовании присутствовал низенький, но очень тучный В. М. Михеев – редактор ярославской газеты «Северный край», от которого вся извозчичья пролетка визжала, скрипела и гнулась до земли, когда он на нее садился. Много было и знаменитых актрис…
После этого торжества Леонид Николаевич стал чаще и чаще прихварывать. К тому же начальство во главе с губернатором косо смотрело на него за «неподчинение законности» в программе празднования.
Тяжел и тернист был путь Леонида Николаевича. Недаром он был таким добрым и отзывчивым к простому, забитому нуждой и бесправием русскому человеку, Касьянам и Макарам нашего далекого прошлого.
Каждый раз, когда слушаешь его «Дубинушку»:
По кремнистому берегу Волги-реки,
Надрываясь, идут бурлаки…
или «Камаринского», невольно вспоминается их автор.
Мной не забудутся его глубокая любовь к народу, вера в его будущее и надежды на силы народные… Салтыков и Некрасов признавали у Трефолева «немалый талант», Некрасову принадлежит выразительный отзыв о поэте: «Стихи Трефолева бьют по сердцу», «Это мастер, а не подмастерье». На замечание собеседника о том, что Трефолев – ученик Некрасова, последовал ответ: «Скорее последователь, но если ученик, то такой, которым может гордиться учитель».
Стремление внушить читателю отчетливое сознание права на счастье, характеризует многие стихотворения Трефолева.
Несчастный отставной чиновник, спившийся и превратившийся в шута, Касьян – «мужик камаринский» и многие другие обделённые счастьем – таковы герои Трефолева.
Большой популярностью пользовалась его «Дубинушка», «Шут», «Ямщик», «Грамотка» и многие другие стихотворения.
Песня о «камаринском мужике» в те годы пользовалась исключительной популярностью среди прогрессивной общественности и демократической молодежи. И это стихотворение следует, по всей вероятности, отнести к числу высших идейно-художественных достижений Леонида Николаевича Трефолева.
Припоминается мне еще один литературный вечер в Волковском театре. Великим постом в те времена не разрешалось «комедийное действо», это считалось грехом. Театр был свободен. Время от времени в нем устраивались по казенной программе, с дозволения начальства литературные вечера. На таком вечере я видел в последний раз Леонида Николаевича, выступавшего с новыми стихами и встреченного бурными аплодисментами. Тогда же выступал со своими рассказами Михаил Павлович Чехов – брат Антона Павловича.
С тех пор я больше не встречался с Леонидом Николаевичем.
На всю жизнь остались памятные слова Леонида Николаевича, сказанные им в нашу первую встречу, что нужно читать хорошие книги, особенно, Пушкина, брать пример с таких самоучек, как Суриков, Дрожжин, и никогда не унывать, не падать духом, а бодро смотреть вперед и крепко верить в прекрасное и счастливое будущее нашей страны и нашего великого народа.
Эти слова писателя-поэта Леонида Николаевича Трефолева я сохранил в памяти на всю жизнь.
ПРАВНУЧКА ЗНАМЕНИТОГО ЩЕПКИНА
При воспоминаниях о Татьяне Львовне Щепкиной-Куперник становится как-то хорошо и радостно на сердце, словно весной.
В те годы, когда я познакомился в журналах с ее стихами, в литературе чувствовался свежий ветер. Появились брошюры революционного содержания. В 1905 году появились издательства, выпускающие эти книжки. Особенно много было издано «Донской речью». Они, эти брошюры, словно искры, сверкали в темноте нашей жизни. Их издателей штрафовали, типографии закрывали, но книжечки вновь выходили в другом месте и под другими названиями.
Издавались и большие сборники революционных стихотворений, как, например, «Избранные произведения русской поэзии» (сборник этот составлен был В. Д. Бонч-Бруевичем) или «Русская муза» П. Ф. Якубовича. Появилось множество мелких поэтических сборников, в которых неизменно помещались «Марсельеза» и другие боевые песни и стихи.
Потом появился «Овод» Войнич, «Марсельцы», «История одного крестьянина», «Один в поле не воин», «Девяносто третий год», «Шаг за шагом», «Знамения времени» и др.
С позором заканчивалась русско-японская война. Видно было, что правду скрывать нельзя. И вот из того далекого времени особенно четко и навсегда запомнилась мне одна песня Щепкиной-Куперник:
9-е января
От павших твердынь Порт-Артура,
С кровавых маньчжурских полей,
Калека-солдат истомленный
К семье возвращался своей.
Спешил он жену молодую
И малого сына обнять,
Увидеть любимого брата,
Утешить родимую мать.
Пришел он… В убогом жилище
Ему не узнать ничего —
Чужая семья там ютится,
Чужие встречают его.
И стиснула сердце тревога:
«Вернулся я, видно, не в срок…»
– Скажите, не знаете ль, братцы,
Где мать, где жена, где сынок?
– Жена твоя… Сядь отдохни-ка:
Небось, твои раны болят?
– Скажите скорее мне правду,
Всю правду! – Мужайся, солдат…
Толпа изнуренных рабочих
Решила пойти ко дворцу:
Защиты искать – с челобитной —
К царю, «как к родному отцу…»
Надев свое лучшее платье,
С толпою пошла и она…
И насмерть зарублена шашкой
Твоя молодая жена!
– Но где же остался мой мальчик,
Сынок мой? – Мужайся, солдат…
Твой сын в Александровском парке
Был пулею с дерева снят.
– Где мать? – Помолиться в Казанский
Старушка твоя побрела,
Избита казацкой нагайкой —
До ночи едва дожила.
– Не все еще взято судьбою,
Остался единственный брат —
Моряк, молодец и красавец…
Где брат мой? – Мужайся, солдат!
– Неужто и брата не стало,
Погиб, знать, в неравном бою?
– О нет, не сложил у Цусимы
Он жизнь молодую свою.
Убит он у Черного моря,
Где их броненосец стоит…
За то, что вступился за правду,
Своим офицером убит!..
Ни слова солдат не ответил,
Лишь к небу он поднял глаза:
Была в них великая клятва
И будущей мести гроза!..
Эту песню очень любили петь в семьях рабочих, и я не раз наблюдал, как матери пели ее над колыбелью своих детей.
Но кто же была Щепкина-Куперник?
Прежде чем я познакомился с автором этой замечательной песни, прошло много времени и много перемен в моей жизни.
Реакция начала применять всевозможные меры, чтобы повернуть колесо истории обратно. Обыски, аресты, ссылки. Десятками закрывались журналы и газеты по всей России. Черная сотня разгуливала по городам, избивая революционную молодежь.
Но народная мысль рвалась на волю…
Прошло несколько тяжелых, темных лет. И опять стали встречаться в журналах стихи Щепкиной-Куперник. Особенный интерес у читателей вызывала «Песня брюссельских кружевниц».
Меня же все эти годы, как оторванный бурей челнок от родных берегов, носила по волнам житейского моря злая стихия, бросая из края в край по Восточной и Западной Сибири. Но куда бы ни забрасывала судьба мой семейный ковчег, в нем всегда жила неугасаемая вера в правду, в прекрасную будущую жизнь.
И вот в 1946 году, находясь у сына, в селе Кежме, я написал Татьяне Львовне первое письмо в Москву, сообщив ей, что за четыре десятка лет странствования по земле родной я никогда не забывал об авторе песни «9-е января»… И дети мои, ставшие учителями, директорами школ, всегда, вспоминая свое детство, связывали его с первыми впечатлениями, оставшимися после стихов Щепкиной-Куперник… Я уже знал, что она правнучка знаменитого актера Щепкина, вышедшего из крепостных. Меня очень интересовали люди, пробивающие себе дорогу в жизни, преодолевающие всякие препятствия на пути к счастью и свободе.
Написал ей о себе, о семье все как есть подробно, послал и жду… Жду с волнением и трепетом. Кто знает, как посмотрит на письмо самоучки из далекой таежной сибирской глуши эта очень образованная женщина, заслуженный деятель искусств.

Татьяна Львовна Щепкина-Куперник.
Однако волнения и тревога были напрасны. Несмотря на огромное расстояние и плохие дороги, письмо пришло довольно аккуратно.
«Простите, что несколько задержала ответ на Ваше доброе письмо: сначала хворала, потом была перегружена работой и только теперь могу написать Вам, – сообщала Татьяна Львовна. – Спасибо, что Вы поделились со мной Вашими стихами, от них на меня повеяла моей молодостью. Так тогда писали мы все, подготовляя незаметно каждой строкой, каждым словом все, что случилось в России. Спасибо и за Вашу интересную биографию. Как хорошо, что у Вас такие удачливые дети. И что Вы с Вашей старушкой гостите у сына, Вот у меня нет детей. И я, потеряв в 1939 году моего любимого мужа, с которым прожила сердечно и любовно 35 лет, осталась одна. У меня только друг[2]2
Дочь Марии Николаевны Ермоловой – Маргарита Николаевна Зеленина.
[Закрыть], с которым мы живем вместе, но она немного моложе меня, так что у меня нет молодой смены, а ее сын, которого я любила, как своего, молодой врач, погиб в Ленинграде. Вот я и могу позавидовать Вам, что Вы дали Родине столько полезных деятелей.Такие люди, как Вы и Ваши дети – это сила страны, и Вы можете гордиться этим.
Ну, дорогой, неведомый друг – читатель и сверстник, жму Вашу руку и желаю Вам и Вашим семейным здоровья, сил, благополучия».
Я снова написал ей о сибирской таежной глуши, об Ангаре и Енисее, о жизни в тех краях. И получил второе письмо.
«Простите карандаш, только начинаю приходить в себя после тяжелой болезни, но не хочу оставить Вас без ответа. Спасибо за добрые слова и за стихи, как хорошо, что Вы духа не угашаете.
Я счастлива, если за мою долгую жизнь кому-то могла дать хорошие минуты и светлые мысли… Мне сейчас даже трудно поверить этому…
Я задыхаюсь в раскаленной Москве, где кажется тихо только на кладбищах, остальное переполнено шумом, бранью, громкоговорителями, балалайками и пр. Может быть, удастся с 1-го поехать в дом отдыха, но, конечно, и там будет радио, патефон и пр. Где-то она, «возлюбленная тишина», существовавшая во времена Елизаветы?
Если осенью буду жива, напишу Вам как следует, а пока еще раз спасибо, будьте здоровы, от всей души Вам этого желаю – здоровье главное».
Летом 1947 года я был в Москве. Проходя по Тверскому бульвару, остановился у дома № 11, отворил полуоткрытую дверь и стал подниматься по лестнице, представляя, как тут, по этой крутой, узкой, каменной лестнице в течение десятков лет поднималась великая артистка М. Н. Ермолова и как теперь спускаются и поднимаются две милые «резвушки», которым вдвоем перевалило уже за полторы сотни лет. А вот и квартира № 10. Как-то робко звонить в первый раз. Но может быть, еще и дома нет Татьяны Львовны? Позвонил. Жду. Вскоре слышу, кто-то тихо подошел к двери. Старческий голос спросил:
– Кто там?
– Татьяна Львовна дома? Скажите, я из Ярославля, она знает.
Старушка пропустила меня в маленькую переднюю и пошла доложить. Потом, вернувшись, провела в кабинет, где Татьяна Львовна шла уже навстречу: живая, подвижная, маленькая седенькая женщина.
– Раздевайтесь сначала, – приветливо сказала она. Потом провела в заваленный книгами кабинет.
– Ну вот, теперь здравствуйте.
Мы обнялись и расцеловались, как старинные друзья.
Начались всевозможные расспросы, отрывочные разговоры.
Я осмотрелся. В кабинете были бюст М. С. Щепкина, Шекспира, Данте, Сервантеса и др. Все это взволновало меня до глубины души. Под маленькими, но быстрыми пальцами Татьяны Львовны, под стук пишущей машинки, оживают на русском языке бессмертные образы Шекспира, Мольера, Ростана, Лопе-де-Вега, Кальдерона. Тут не только любят и ценят, но и воскрешают культуру прошлого.
В соседней комнате послышался разговор, и вскоре вошла к нам Маргарита Николаевна – дочь М. Н. Ермоловой, такая же старушка, как и Татьяна Львовна, только повыше ростом. Поздоровались, познакомились.
– Вот это и есть мой ангел-хранитель, о котором я писала, – отрекомендовала ее Татьяна Львовна, – все время она за мной ухаживает, заботится. Без нее я давно бы пропала…
– Чересчур уж расхваливаете меня – своего ангела-хранителя, а я самый обыкновенный человек, к тому же – настоящая развалина. Да, вот что, у меня ведь кофе готов, – словно спохватившись, сказала она. – Сюда подать прикажете?
– Да, да, – сказала Татьяна Львовна и, кивнув в ее сторону, как только та скрылась за дверью, продолжала: – Вот всегда у ней так получается – в любой момент, как по волшебству, все готово!
И вслед за ней вышла в другую комнату. Через минуту обе они принесли кофе и закуски, установив их на круглый маленький столик. Маргарита Николаевна ушла, а Татьяна Львовна начала угощать меня, задавая мне всевозможные вопросы. Ее интересовала Сибирь, многолетние скитания и мое тяготение к литературе. Я рассказал про одну мою енисейскую знакомую – любительницу литературы – Нину, которая, слушая по радио передачу «Сирано», рыдала у репродуктора и несколько дней ходила, как шальная, все повторяя: «Мы сами у себя украли счастье».
Я попросил Татьяну Львовну рассказать мне о своих встречах с Горьким. Она немножко подумала и начала:
– Вот припомнила я какой случай: это было давно, полстолетия тому назад. Помню, я как-то попала в один литературный дом в Москве. Общество, что называется было избранное: писатели, адвокаты, артисты, – все нарядные, оживленные. И среди этого общества обратил на себя внимание необычайный вид одного молодого человека. Первое, что бросилось в глаза, – была его рабочая блуза и высокие сапоги, обычная одежда мастеровых. Будто пришел сюда водопроводчик или слесарь что-нибудь починить. Но нет, это не был случайно зашедший в комнаты рабочий. Его свободное поведение, смелый взгляд – все показывало, что он здесь гость. У него было некрасивое, но невольно обращавшее на себя внимание лицо, энергичный лоб, довольно длинные волосы, спадавшие вольной прядью на лоб, яркие глаза под суровыми бровями и смелый взгляд свободного человека.
Я продолжала его рассматривать, недоумевая, кто он такой и что здесь делает.
Татьяна Львовна подошла к машинке, взяла напечатанный лист и прочитала:
– В это время я поймала и его взгляд на себе, и тут же хозяйка, разговаривая с ним очень любезно, направилась ко мне, а он за ней. Она познакомила нас, как это всегда бывает в таких случаях, пробормотала что-то, вроде: «Позвольте вас познакомить». Молодой человек пожал мне руку и воскликнул:
– Чорт вас возьми!
Я испуганно взглянула на него, недоумевая, чем вызвала такое обращение, но мое удивление заняло секунду, он уже продолжал весело и добродушно улыбаться из-под суровых бровей:
– Как вы здорово перевели «Сирано»! Очень уж хорошо звучит. Я, думаю, не хуже, чем по-французски.
– Что вы, – возразила я, все еще не зная, кто со мной говорит: – Ведь Ростан такой версификатор, что с ним не сравняться переводчику.
– Ну, для русского уха, может быть, ваш перевод и приятнее звучит. Особенно это место у вас хорошо, когда «Сирано» говорит о своем полке:
Мы все под полуденным солнцем
И с солнцем в крови рождены!..
– Это солнце в крови – чертовски хорошо.
Я смешалась, улыбнулась и не решилась ему сознаться, что у Ростана никакого «солнца в крови» нет, что это моя выдумка.
Он отошел от меня, а я спросила кого-то рядом, кто этот молодой человек.
– Максим Горький! Разве вы не знаете его?
О, я ли его не знала! Давно ли появились его первые рассказы – и точно повеяло свежим ветром в нашей литературе. А ведь тогда еще были Толстой, Чехов, Короленко, Мамин-Сибиряк и многие другие. Однако появление Горького сразу было отмечено и сразу он занял свое место, как настоящий пролетарский писатель. Вот я вспоминаю его выражение, поразившее меня в рассказе «Мальва»: «Море смеялось», этих двух слов было для меня достаточно, чтобы в свое время понять его талант, как иногда довольно одного слова, чтобы определить нравственную сущность человека. Я сидела за ужином недалеко от Горького, глядела на него и невольно вспоминала того Ростана, о котором он с таким восхищением говорил.
Я спрашивала себя: а понял ли бы Горького и оценил бы его так же высоко Ростан? Какие полярные противоположности!
Изнеженный, женственный Ростан, похожий на силуэт с рисунков Гаварни, – и этот богатырь в своей рабочей блузе…
Там в начале карьеры – розы, Розмонда, изящный особняк, академия. Здесь – волжские грузчики, жизнь впроголодь, скитания. Там – поклонение Парижа, приемы, премьеры… Здесь – тюрьма, высылка, нелегальные приезды в Москву или в Петербург…
Потом вскоре после этого мне пришлось сотрудничать вместе с Горьким в газете «Северный курьер». Горький поместил там рассказ, который оканчивался строками, которых я никогда не забуду: «Литература есть трибуна для всякого человека, имеющего в сердце горячее желание поведать людям о неустройстве жизни и о страданиях человеческих и о том, что надо уважать человека, и о необходимости для всех людей свободы, свободы и свободы».
Помню, как тогда мы, студенты, устраивали концерт в честь М. Горького. Я прочла тогда с эстрады стихи, посвященные ему, и в последней строфе выражала уверенность, что Горького ждут и слава и свобода…
Жизнь Горького была горением. Но как это было не похоже на Ростана, который говорил, что жизнь надо жечь с двух концов.
Горький для нас в то время был больше, чем просто талантливый писатель. Он был живым доказательством того, на что способен русский народ даже в тех условиях.
Горький поднялся до высочайших вершин культуры и достиг этого самостоятельно, проломив всю толщу невежества, гонений и преследований. Радостно мне было видеть, – продолжала Татьяна Львовна, – что этот человек, не требовавший наград, получил их еще при жизни, увидев многие свои мечты осуществившимися.
Он дожил до славы и свободы – не только своей, но и своего родного народа, и ушел оплаканный этим народом.
А за несколько лет до того умер Ростан в одном и красивейших уголков Европы: умер в тяжелой меланхолии, уединившись на своей вилле, прячась от дневного света за спущенными драпировками, чтобы не впустить в окно той красоты мира, о которой когда-то так радостно пел…
Татьяна Львовна отложила лист и, сев рядом со мной, вдохновенно продолжала:
– Да, это верно. Вот в будущем году выйдет моя книга воспоминаний, там почитаете обо всем, где я была и что видела, – и спохватившись: – Да вы кофе-то совсем заморозили и бутерброды кушайте, как следует, не стесняйтесь. Нам сегодня их много принесли по заказу. И опять же это все мой ангел заботится, я и не знала…
– Я вас задерживаю, Татьяна Львовна. Вам работать нужно?
– Нет, нет. Ничего, успею. Ведь такая редкая встреча…
И никто из нас тогда не знал, что это была первая и последняя наша встреча.
А Татьяна Львовна была такая веселая и ласковая.
– Сколько вы пробудете в Москве-то?
– Право, не знаю, нахожусь в зависимости от литературного музея.
– А где остановились-то?
– У Короленко-Ляхович.
– Через недельку мы думаем перебраться на дачу. Пока не уехали – заходите.
Эти провожающие меня милые, добрые старушки, это книжное богатство, бюсты, портреты вскружили мне голову. Куда ни посмотришь, везде книги: в шкафах, на полках, на тумбочках, на стульях – десятки книг оригинальных произведений и переводов Татьяны Львовны.
Щепкина-Куперник дала русской сцене ряд пьес, из них самые интересные: «Одна из них», «Барышня», «Флавия», «Флавия и Тессини», посвященные печальной судьбе русской актрисы в дореволюционном театре. Великий прадед Щепкиной-Куперник был одним из тех художников театра, которые с особой силой и глубиной раскрывали на сцене трагедию маленького человека, угнетаемого тяжкой социальной действительностью. Эта щепкинская тема была основной для его правнучки в сборниках рассказов. «Ничтожные мира сего», «Незаметные люди», «Около кулис».
Многие рассказы Щепкиной-Куперник встречали высокую оценку А. П. Чехова.
Сборник рассказов «Это было вчера», правдиво отражавший эпоху первой революции, был сожжен по приговору суда. Пьеса Щепкиной-Куперник «Счастливая женщина» была запрещена для постановки в Малом театре и могла появиться только на частной сцене, да и то с переделкой последнего акта, изображающего смерть ссыльного революционера в Сибири. За эту пьесу общество драматургов, основанное Островским, присудило Щепкиной-Куперник Грибоедовскую премию.
С каким глубоким волнением и трепетом я переступал порог этого дома, словно переходил какой-то рубикон. Но там, за этим порогом, оказались самые простые человеческие сердца, все то, что я так любил, перед чем преклонялся. Артистка и поэтесса, драматург и романистка – все совместилось в этой живой маленькой женщине. Но самое ценное в Татьяне Львовне то, что она чудесный человек. А «должность быть настоящим человеком на земле – самая почетная…»
Переписка наша продолжалась. В следующем, 1948 году мы с женой переехали из Ярославля в Енисейск к дочери, и там я получил от Татьяны Львовны книгу «Театр в моей жизни».
Трудно представить, сколько радости принесла мне и моей жене эта книга.
Моя жена простая, малограмотная волжская рыбачка, сильно любила эту книгу и как-то по-особенному, по-своему. Как только откроет ее, так и пойдут у нас с ней разговоры о жизни и деятельности какого-нибудь актера. Глубокие, радостные воспоминания навевала нам эта книга в далекой сибирской таежной глуши.
В 1952 году я долго находился в Москве. Хотел навестить Татьяну Львовну, но она была больна и находилась на даче. Посещая книжные магазины, музеи, театры, я встречал своих друзей. Восхищался великолепием преобразованной Москвы с ее высотными зданиями, Ломоносовским университетом, преклонялся перед беспредельными взлетами человеческого гения.
И вот, находясь у Всеволода Вячеславовича Иванова после прогулки, я услышал о смерти Щепкиной-Куперник.
Не медля ни минуты я направился в клуб писателей и успел захватить панихиду.
Профессора и артисты сменялись друг за другом в почетном карауле… Тихо звучала траурная музыка…
Выступали ученые, писатели, перечисляли заслуги покойницы.
Во дворе я встретился с Маргаритой Николаевной. Ее вели под руки незнакомые мне женщины. Остановились, поздоровались. Она просила меня зайти к ней.
Вошли в автобус. Похоронная процессия медленно двинулась на Новодевичье кладбище. Маргариту Николаевну все время поддерживали женщины. Несколько автобусов и грузовиков с гробом и цветами остановились у открытых ворот кладбища. Могила была приготовлена между двумя знаменитыми артистками – М. Н. Ермоловой и М. М. Блюменталь-Тамариной.
На могильном холмике все росла и росла гора цветов и венков…