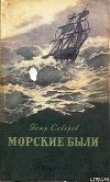Текст книги "Незабываемые встречи"
Автор книги: Иван Малютин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
ВЕСТОЧКА ИЗ БУХАРЕСТА И ПОЛТАВЫ
Однажды в библиотеке подошли ко мне школьники.
– Дедушка, расскажи нам что-нибудь про писателей, с которыми встречался, – попросил один из них.
– Читать любите?
– Любим! – дружно отвечали они.
– А Короленко знаете?
– Нет! – отозвалось несколько человек.
– Рассказ его «Дети подземелья» знаете?
Оказалось, что все они читали этот рассказ, но автора не запомнили.
И я рассказал школьникам все, что знал о Владимире Галактионовиче.
В течение многих лет светлый образ любимого человека, автора многих рассказов, которые пленили меня, жил в моем воображении, а его заманчивые «огоньки» постоянно горели передо мной в сумерках окружающей жизни и звали вперед!
В течение двух десятков лет я думал о нем. В 1910 году решился написать письмо в редакцию журнала «Русское богатство», редактором которого был Короленко.
В письмо я вложил свои стихи, о которых сейчас стыдно даже вспоминать.
Ответ на мое письмо несколько задержался. Владимира Галактионовича в Петербурге не было, он выехал в Румынию и находился в Бухаресте.
Мое письмо из «Русского богатства» переслали туда, оттуда он немедленно ответил в Курган.
Радость моя была беспредельна. Я, словно опьяненный, долго ходил по пыльным улицам Кургана. Потом я очутился на обрывистом берегу Тобола, присел там на бревно и вновь перечитал письмо.
Две недели назад оно было еще там, в далеком Бухаресте, на столе у любимого мною человека, который склонялся над ним и писал вот эти дорогие строки.
Первое письмо от Короленко обрадовало меня и огорчило: обрадовало потому, что я не ошибся в человеке, в его чуткой и отзывчивой душе, а огорчился от того, что мне было стыдно за стихи, посланные писателю.
В этом письме из Бухареста от 24 мая 1911 года Короленко писал:
«…Стихи Ваши прочел. К сожалению, ни одно для «Русского богатства» не подходит. Стихи дело очень трудное, если не смотреть на них по-дилетантски, (был бы, дескать, размер да рифма). Вы еще совершенно не владеете поэтической формой, и даже просто язык у вас очень неправилен.
«Не было в окрестности твоей кроме зверя ни построек ни людей». Так выразиться нельзя. Можно сказать не было кроме льва ни одного зверя, потому что лев тоже зверь. Но кроме зверя не было построек – совершенно неправильно.
«Кресты нанизаны на вора»? Можно нанизать что-нибудь на проволоку, на вертел, на иглу, но на вора нанизать орден нельзя. «Смерть встречают со словом», надо «со словами». «Несутся к небу стоны, не выдержав борьбу». Значит стоны не выдержали борьбу… «Лампада святого огня». Бывает огонь лампады, но не лампада огня. «Любовь к возвышенному чувству» – «Любовь к чувству»? «И к твоему бездолью любовь людей суха и холодна»; выходит, что люди должны бы любить чужое бездолье, и т. д. и т. д. Это все очень грубые промахи против языка. А для стиха мало, чтобы не было промахов, нужна еще художественная выразительность, сила, сжатость, красота.
И так рад бы сообщить более приятный отзыв, но правда прежде всего: стихи слабы и для печати не годятся».
После этого прошло несколько месяцев. Умер Якубович-Мельшин – поэт, писатель и критик, приговоренный за революционную деятельность к смертной казни, замененной по чьему-то ходатайству восемнадцатью годами каторги. Ф. Д. Крюков – сотрудник «Русского богатства» – поместил очень трогательный некролог в еженедельном иллюстрированном приложении к газете «Уральский край», издававшейся в Екатеринбурге (Свердловске).
Я отозвался на его смерть стихотворением «Памяти П. Я.» и послал его В. Г. Короленко. Он ответил через Ф. Д. Крюкова, что печатать его нельзя: «придется судиться»…
В том же году я переехал с семьей на жительство в Барнаул и отнес стихотворение в редакцию газеты «Алтайский край». Оно было напечатано 7.XII.1912 года по случаю годовщины смерти П. Ф. Якубовича-Мельшина.
Слова Короленко сбылись. Редактора газеты за публикацию этого стихотворения оштрафовали на 100 рублей.
Через девять лет после этого я, обеспокоенный тревожными слухами о Короленко, написал ему в Полтаву. Ответ последовал 10 мая 1920 года.
«Все слухи о разных со мной неблагополучиях вроде расстрела теми или другими из воюющих, разумеется, не верны, или пока во всяком случае преждевременны, как писал когда-то по поводу мрачных слухов о себе Марк Твэн, – сообщил Владимир Галактионович, – здоровьем похвалиться не могу, пошаливает сильно сердце, но пока жив, а там, что бог даст. Благодарю вас за сведения о знакомых. При случае, будьте добры, передайте мой поклон Григорию Николаевичу Потанину.
…Мне остается еще сказать два слова о Ваших стихах. Я так основательно забыл ваши прежние опыты и даже при каких обстоятельствах я знакомился с ними, что сравнивать не могу.
Стихи, теперь присланные, совершенно литературны. Но господи! – до стихов ли теперь…
Впрочем, в добрый час. Желаю вам всего хорошего.
Письмо Ваше, посланное из Омска 5 апреля, получил сегодня 10 мая н. с. Это, судя по расстоянию, еще не дурно. Письмо несколько задержалось, я был нездоров и не собрался на почту.
У нас предстоит новая перемена. Поляки взяли Киев и Гребенку. Об этом пишут уже в советских газетах…»
Следующее письмо от Короленко я получил только через год.
«…Только теперь собрался ответить Вам на Ваше письмо от 10 января 1921 н. с. с известиями о Г. Н. Потанине.
Да, прожил человек чуть не Мафусаиловы годы[1]1
По библии, самый долговечный человек на земле. (Г. Н. Потанин скончался 85 лет. – И. М.)
[Закрыть]. Вы сообщаете о лицах, которые о нем заботились в последние годы, но ничего не пишете о его жене. Она ведь была сибирская поэтесса, и мы с ним вели переписку об ее произведениях, когда она не была еще его женой.Правду сказать, произведения ее были довольно легковесные.
Получил я Ваше письмо с сильным опозданием, но все-таки уже довольно давно. Задержало мой ответ то обстоятельство, что у меня не оказалось никакой моей книги, которую я бы мог послать. Но все-таки надеюсь послать в скором времени.
То, что Вы сообщаете о своей жизни, способно возбудить зависть.
И я когда-то жил в Сибири, среди лесов и хотя это было в Якутской области, но все-таки я вспоминаю об этом, как о здоровом периоде моей жизни.
Теперь я пишу продолжение «Моего современника» и дошел до этого периода. В Москве эти очерки издает «Задруга», но мне пишут, что достать их частным лицам нет возможности.
У меня тоже будет ограниченное количество. Вышел уже второй том и, пожалуй, теперь уж и третий. Должен скоро выйти четвертый. Теперь работаю над пятым. Здоровьем особенно похвалиться не могу. Голова работает изрядно. Глаза тоже держатся хорошо (читаю и пишу без очков). Но остальное все довольно плохо. Теперь надвигается лето, и мне становится лучше.
На питание пожаловаться не могу, главным образом, благодаря сочувствию окружающих рабочих и остальной публики. На днях нашу семью постигло огромное несчастье: умер мой зять Константин Иванович Ляхович, это был превосходный человек, очень популярный в нашей Полтавщине.
Это случилось недавно, и Вы легко представите себе настроение нашей семьи.
За намерение Ваше прислать медку очень вам благодарен, но теперь это совершенно невозможно, да, пожалуй, и не особенно нужно: меня приятели-читатели и сочувствующие снабжают даже и медом, так что я пока ни в чем не нуждаюсь. Желаю и Вам и Вашей семье всего хорошего.
Письма я обыкновенно посылаю заказными и книжку пошлю так же. В свою очередь прошу уведомить меня о получении. К сожалению, ничего не могу Вам сообщить (утешительного) о лицах, о которых Вы спрашиваете; о Дрожжине ничего не знаю. Крюков умер где-то на Кубани. Это, к сожалению, не слух, который мог бы оказаться не верным, а известие несомненное. А. Г. Горнфельд из Петрограда прислал мне его некролог, напечатанный в местной литературной газете (есть такой еженедельник, издаваемый обществом взаимопомощи писателей в Петрограде).
Ну, еще раз желаю всего хорошего Вам и всей Вашей семье. Будьте здоровы.
Сколько верст будет от вашего почтового отделения до дер. Морозовки? Не слишком ли затруднительно извещение о заказных письмах!»
Затем я получил от Короленко открытку, в которой он сообщал, что здоровье его по-прежнему неважно.

Владимир Галактионович Короленко.
Положение на Украине тогда было неспокойное и не благоприятствовало нашей переписке. Письма долго задерживались в пути и совсем терялись. Да и Владимир Галактионович часто болел. И вот последнее письмо, которое шло месяца два, написано было Короленко за четыре месяца до его кончины, 25 августа 1921 года.
«Простите, что порой подолгу не отвечаю. Я теперь сильно болен. Кроме того я теперь избран почетным председателем комитета голодающим, и это помимо болезни требует у меня времени. Поэтому не имею возможности быть аккуратным в переписке, как было в старину.
Не взыщите. Желаю здоровья, сытости и вообще всего хорошего».
Это было последнее письмо от Владимира Галактионовича. В декабре в редакцию газеты «Советская Сибирь», где я работал тогда, пришла радиограмма:
«28-го декабря, в Полтаве, состоялись похороны писателя В. Г. Короленко. Этот день был объявлен траурным, занятия нигде не производились. В похоронной процессии участвовало 150 000 человек, Было много делегаций от крестьян соседних сел.
В ознаменование памяти Короленко Совнарком Украины постановил в 6-месячный срок поставить покойному писателю памятник в Полтаве…
Семья Короленко обеспечивается пожизненно пенсией от государства…»
Основоположник социалистического реализма А. М. Горький говорил, что в
«великой работе строения новой России найдет должную оценку и прекрасный труд честнейшего русского писателя В. Г. Короленко, человека с большим и сильным сердцем».
Эти слова воплотились в жизнь. Советский народ, наследник всего лучшего, передового в культуре прошлого, любит и чтит Короленко – великого художника слова, неутомимого правдоискателя, внесшего неоценимый вклад в историю русской литературы, общественной мысли и освободительного движения конца XIX и начала XX веков.
Правдивые книги писателя-гуманиста в наши дни полностью сохранили свое большое познавательное и художественное значение. Велика и воспитательная сила этих книг, прививающих ненависть к мрачному прошлому и укрепляющих в советских патриотах веру в силы человека, любовь к жизни и труду, к дружбе между народами.
Борясь за мир и коммунизм, мы бережем, как ценнейшее национальное достояние, русскую классическую литературу, неотъемлемой частью которой стало наследие В. Г. Короленко.
СВЕТЛЫЙ ОБРАЗ
В первый раз о писателе Шишкове я узнал от Григория Николаевича Потанина в 1915 году в Барнауле. Тогда же мне пришлось прочитать его рассказ «Ванька Хлюст» в «Ежемесячном журнале» за 1914 год.
Этот рассказ произвел на меня сильное впечатление необыкновенным интересом автора к жизни народа.
А потом, когда в разных журналах появились его рассказы («Краля», «Чуйские были» и «Страшный Кам»), писатель совершенно покорил меня простотой изложения, искренностью своего голоса, чуткостью к простому человеку – герою своих произведений.
Многое из того, что было передумано, написано Шишковым, как мне казалось, пережито и передумано мной и всеми, кто окружал меня, – простыми людьми.
Может показаться странным, что я подхожу к писателю с такой меркой. Впоследствии я убедился, что так относятся к творчеству подлинно народного писателя многие. Ф. В. Гладков писал мне:
«Для писателя самой лучшей наградой служит задушевный отклик читателя, и выходит, что та книга хороша, которая написана, как исповедь, как душевное откровение».
И это были справедливые слова.
Вячеслав Яковлевич, прежде чем стать писателем, двадцать лет жил и работал в Сибири среди народа, встречался с сибирскими старожилами, с переселенцами, с каторжниками, с заводчиками и рабочими, с купцами и лесорубами. В живом общении с ними писатель черпал свое знание жизни, свою веру в прекрасное будущее, свою неугасимую любовь к человеку и особое, честное, совестливое и благоговейное отношение к писательскому труду…
В 1919—1920 годы я заведовал избой-читальней в деревне Морозовой, в 40 километрах от Новосибирска. Здесь в долгие зимние вечера я читал «Чуйские были», «Ванька Хлюст», «Веселый бродяга» и другие рассказы Шишкова, проверял на слушателях, как до их сердца доходит слово писателя. С большим интересом малые и старые слушали произведения Шишкова. Они были так же понятны народу, как и произведения Чехова, Горького, Подъячева.
Позднее, уже в Ярославле, я наблюдал, как принимают рассказы Шишкова маленькие слушатели. Было это длинными осенними вечерами. За окнами шумели столетние тополи и темные косматые ели.
…Все взрослые давно уже спали. Только дети бодрствовали, поджидая, когда я кончу работу. Окончив работу, я спрашивал:
– Ну, что почитать вам, ребятушки?
– Фыфкова, дедуся, Фыфкова, – говорила бойкая Зоя, а Боря только головой кивал в знак согласия.
И вот читаем «Колдовской цветок» или про козла Ваську, или что-нибудь из «Страшного Кама». Сидят дети тихо, слушают, как завороженные, не шелохнутся, только глазенки поблескивают.
И жуткие, и смешные рассказы Шишкова нравились ребятам, были понятны им.
И сам я чувствовал, что после рассказов писателя близки и понятны лесные голоса и таежные шорохи. А рядом, за окном, шумел вековой парк и наводил на размышления. Вячеслав Яковлевич представлялся в эту минуту каким-то волшебником. Вот он подходит к спящей вековым сном красавице Тайге, взмахивает своим пером, и Тайга начинает говорить… Говорят и полудикие обитатели Тайги, загнанные и обездоленные. И в их жутких голосах слышится горькая, не отомщенная обида на своих угнетателей.
– «Старик думал о том, что есть великий, русский бог, светлый и милостивый. Но зачем он так далеко живет? Зачем он дает обижать тунгусов? Разве не видно ему сверху? Али жертвой недоволен остался. Можно еще больше дать «приклад». Возьми, только в обиду не давай». Пожалуйста, давай защиту…
И старик заплакал…
«Вот, он к Чуе-реке подошел и сказал:
– Эй, подожди, Чуя – вода холодная!
– Куда бежишь, куда по камням вскачь мчишься! Стой, Чуя! Стой! Расскажи нам вчерашние и сегодняшние были свои!»
(«Помолились»).
И, кажется, что Чуя рассказывает кровавые жуткие были.
А вот рассказ «Краля». Сколько в нем вложено обиды за русскую женщину. Сколько гибло тогда прекрасных женских душ!
А «Страшный Кам»! Какая жуткая, поучительная повесть.
Проработав много лет в Сибири, В. Я. Шишков посвятил ей многие свои произведения, от мелких рассказов до «Угрюм-реки». История роста и крушения сибирского капиталиста-золотопромышленника нарисована в этом замечательном романе.
Но я слишком далеко забежал вперед.
Начну по порядку. В 1926 году я узнал от наших студентов, приезжавших из Ленинграда, новости о Шишкове. Он тогда был председателем Союза ленинградских писателей и пользовался там большой популярностью.
Я написал ему, он вскоре ответил и пообещал навестить меня в Ярославле. С тех пор переписка наша продолжалась.
За это время три раза Вячеслав Яковлевич вместе с женой Клавдией Михайловной приезжал в Ярославль, осматривал фабрику «Красный Перекоп». Мне фабрика была очень знакома, я проработал на ней уже 30 лет… Писатель подолгу беседовал с рабочими, затем осматривал древние храмы в городе, украшенные замечательной живописью. Теперь это музей.
Однажды В. Я. Шишкова пригласили побывать на собрании ярославских писателей. Собралось человек двадцать. Вячеслав Яковлевич рассказал о работе ленинградских писателей. Встреча прошла очень оживленно.
Возвращались домой уже на рассвете, возбужденные, взволнованные.
Хорошо помню сейчас, как в первый раз Шишковы появились у меня в домике при фабрике. Привел их знакомый библиотекарь открыл дверь и говорит:
– Вот он где обитает, Вячеслав Яковлевич, получайте его!
Я был в холщовом сером фартуке, переплетал книги. Смотрю и глазам своим не верю: «Неужели это Вячеслав Яковлевич?» Стою, разглядываю его. И он смотрит на меня.
Наконец, гостя усадили к моему переплетному столу. Окружив его тесным кольцом, мы стали просить, чтобы Вячеслав Яковлевич прочитал свои рассказы, и не думал возражать.
Книга, которую читали вчера, была тут же на столе, Шишков взял ее, посмотрел:
– Ну вот, прочитаем хотя бы «Плотника».
Прочитал. Показалось мало, попросили еще. Прочитал «Кикимору» и «Шефа».
Женщины уже приглашали нас к столу, устроенному на маленькой терраске, с видом на пруд и парк, но мы так увлеклись чтением, что трудно было вытащить нас из комнаты.
Удивительно было то, что дорогой гость наш так скоро стал своим человеком в нашей семье. Никакого стеснения, никаких перегородок не чувствовалось между нами.
…Был жаркий сентябрьский день. В комнате стала душно, и мы очень утомили гостя разговорами. Все вышли на террасу. Вячеслав Яковлевич охотно пил чай, постоянно шутил и смешил ребят. Выйдя из-за стола, он достал из портфеля привезенную в подарок новую книгу веселых рассказов «Цветки и ягодки» и написал:
«Энтузиасту русской литературы, дорогому Ивану Петровичу Малютину.
С большим уважением В я ч. Ш и ш к о в.
2/IX-29. Ярославль, Петропавловский парк,
после 18-го стакана чаю с вареньем».
Потом еще преподнес книгу «Спектакль в Огрызове», написал на ней:
«Гостеприимному, любвеобильному хозяину Ивану Петровичу Малютину от бродячего человека и автора этой книги».
В я ч. Ш и ш к о в. 2/IX-29. Ярославль.
За годы нашего знакомства я получал от него все книги с автографами, за исключением «Пугачева», вышедшего после смерти автора.
В каждый приезд Вячеслава Яковлевича мы гуляли с ним по парку. Он просил меня рассказывать о парке, о строительстве первой полотняной фабрики в России, на которой вырабатывались полотна и салфетки для царского двора.
Он слушал охотно и с глубоким вниманием: писатель любил старину.
Прощаясь со мной, Вячеслав Яковлевич просил:
– Приезжайте в Ленинград ко мне! Какие дворцы там, и Пушкинский лицей и другие диковинки. Вот уж погуляем везде с вами. Приезжайте-ка!..

Вячеслав Яковлевич Шишков и Иван Петрович Малютин.
В начале мая 1932 года я очутился в Ленинграде впервые в жизни. Город произвел на меня ошеломляющее впечатление своим великолепием. Я просто растерялся, не знал, на что смотреть и куда идти. Пошел к могилам наших великих людей: Белинского, Добролюбова, Писарева, Некрасова, Тургенева.
Потом я поехал в Детское, к Вячеславу Яковлевичу.
С чувством какого-то трепета и волнения я подошел к двери, где под стеклом красовалась надпись: «Шишков».
Я немного постоял и нажал кнопку. Слышу кто-то необычно скоро спускается по лестнице и открывает дверь, На пороге Вячеслав Яковлевич. Поздоровались.
Шишковы собрались в гости.
– Вячеслав Яковлевич, вы сходите к знакомым-то, а я пока погуляю около Лицея, а потом и зайду к вам.
– Нет, нет, – горячо отвечает он, – мы успеем, заходите, раздевайтесь и отдыхайте…
Вячеслав Яковлевич нарядный, в сюртуке и шляпе, взял самовар, налил в него воду и разжег уголь. А Клавдия Михайловна, сняв пальто, хлопотала около стола и буфета.
Покончив с самоваром, Вячеслав Яковлевич стал показывать мне квартиру. Зашли в библиотеку (она же и кабинет писателя). На столе рукописи «Угрюм-реки».
– А это вот мелкие шутейные рассказы;. Для отдыха после большой работы, – пояснил он.
Потом мы прошли через столовую в большую комнату.
– Все это тяготит меня, – сказал Вячеслав Яковлевич, – куда мне такую громадину – сто пятьдесят квадратных метров!
Давно хочу уступить одну комнату художнику Петрову-Воткину, моему соседу…
Пока мы обозревали квартиру, самовар вскипел. Вячеслав Яковлевич торжественно поставил его на стол.
– Угощайтесь, пожалуйста, располагайтесь, как удобнее, а мы на какой-нибудь часок отлучимся. Как-то неловко… Обещали сходить, значит надо…
Я остался в квартире один.
Большие старинные часы редко, но четко отбивали секунды. Старинная мебель действительно как-то терялась в больших комнатах.
Пробежал беглым взглядом по рядам книг, стоящих в шкапах. Знакомые авторы…
Вышел на балкон, посмотрел в сад, на двухэтажный каменный дом, в котором жил со своим семейством А. Н. Толстой.
Стали спускаться сумерки. Я совсем забылся. Вдруг раздался звонок. Я пошел открывать дверь, но мне навстречу уже поднимались хозяева, так как у них был ключ, а позвонили они, чтобы предупредить меня о своем появлении.
Снова началось угощение. Вячеслав Яковлевич заставил зашуметь самовар.
После ужина направились опять в библиотеку и стали рассматривать разные рукописи. Среди них были рассказы, отпечатанные на машинке. Один из них Вячеслав Яковлевич тут же прочитал вслух. Помню, это был рассказ о дряхлом старике, который позабыл имя своей старухи…
– «Сначала, – говорит, – «молодухой» ее кликали, потом «Митревной», а имя-то вот и не помню… забыл…»
Все эти копии он подарил мне…
К вечеру из Ленинграда приехали мать и отец Клавдии Михайловны, которые жили там и почти всегда на праздники приезжали в Детское, чтобы помогать Клавдии Михайловне, когда соберутся гости. А гости у них были почти всегда одни и те же: живущие через улицу А. Н. Толстой и его семейство – жена Наталия Васильевна, сын Никита, дочь Марианна и мать Наталии Васильевны – Крандиевская Анастасия Романовна. В тот вечер я разговорился с нею о ее рассказах, читанных мною еще в деревне в 1905 году. Это заинтересовало Крандиевскую, но писательница была почти совсем глухая, и разговор наш не клеился. Увидев это, Вячеслав Яковлевич подошел ко мне и шепнул:
– «Погромче разговаривайте, она плохо слышит».
Помню отзыв о Крандиевской Горького в письме к Чехову.
«Видел писательницу Крандиевскую – хороша! Скромная, о себе много не думает, жаль ее – она глуховата немного и, говоря с ней, приходится кричать. Хорошая бабочка и любит Вас безумно и хорошо понимает…»
Были в тот вечер в гостях у Шишковых, кроме семейства Толстых, еще несколько человек: художник Петров-Воткин и другие.
Был уже поздний час, когда разошлись гости. Меня устроили спать в огромном, знакомом уже мне кабинете, на диване, под большим портретом Петра III.
Утром после легкого завтрака Вячеслав Яковлевич пригласил меня прогуляться по парку.
– Пока женщины готовят кое-что да управляются с домашними делами, мы погуляем…
Был ласковый весенний день, природа оживала, дышала молодостью и силой. Ее пробуждение вселяло и в нас какое-то особенно радостное и бодрое настроение.
Вячеслав Яковлевич словно помолодел, он обращал внимание на пробивающуюся из земли зеленую травку. Ходили мы от дерева к дереву и по-детски радовались зелени.
– Вспомнился мне один случай из сибирской таежной жизни… – сказал он, – я вот также засмотрелся на большую сосну, ствол которой блестел красными рубинами. Стою и удивляюсь. «Да, это комарье, – сказал мой спутник. – Пока мы ехали, они насосались крови и опьянели».
Мой спутник Бакланов нашел двух муравьев и посадил их в комариное пьяное стадо. Муравьи осмотрелись. Подбежали к комарам и осмотрели их. Потом снова сбежались вместе, лоб в лоб, словно советуясь, и спустились с сосны на землю. А через несколько минут по комариному стаду пробирались уже целые отряды муравьев. Началась горячая работа… Они попарно подползали к пьяной комариной туше, ловко подхватывали ее передними лапками и клали на загорбок третьего муравья. Тот, пыхтя и придерживая комара за лапки, тащил его вниз. Вскоре сосна была очищена. «Вот и доброе дело сделали», – сказал тогда мой спутник: – Подлый гнус умной скотине отдали – муравью»…
О многих случаях и приключениях за долгие годы пребывания в Сибири рассказал В. Я. Шишков, упомянул и о Г. Н. Потанине.
– Я многим обязан Григорию Николаевичу…
Я тоже рассказал о своих встречах с Потаниным в Барнауле.
– Да, это был большой путешественник и чудесный человек, – сказал Вячеслав Яковлевич, – его очень любил и А. М. Горький. Помню, как при первой нашей встрече с Алексеем Максимовичем, лет пятнадцать назад, Горький, расспрашивая меня о Сибири, в первую очередь спросил:
«– Ну, а как Потанин?
– А разве вы его знаете?
– Григория-то Николаевича! Отлично знаю, хотя ни разу и не встречался с ним. Такие люди, как Потанин, редки, их надо беречь и любить, – сказал Горький. – Двое таких сибиряков – Потанин да Ядринцев».
Мы много ходили по аллеям парка, и все говорили и говорили о Сибири, в которой писатель за два десятка лет приобрел много друзей. Жалко было друзьям отпускать Шишкова в столицу. Особенно опечалился его отъездом Григорий Николаевич Потанин. Но Вячеслав Яковлевич обещал ему так же горячо и неизменно любить Сибирь и работать для нее. Слово свое писатель сдержал и начал писать роман «Угрюм-река».
– Над «Угрюм-рекой», – говорил он, – я давно и напряженно работаю и молю судьбу, чтобы она дала мне возможность пожить хотя бы только для того, чтобы закончить эту вещь, как мне хочется, а не как-нибудь наспех.
Радостными были для меня эти часы, проведенные с Вячеславом Яковлевичем. Он все уговаривал меня писать воспоминания.
К вечеру опять собрались гости: Наталия Васильевна Толстая с сыном и дочерью, Петров-Воткин и другие. На другой день после обеда я стал собираться в город: хотелось посмотреть на Ленинград и посетить его интересные места.
Вячеслав Яковлевич рассказал мне, как пользоваться «Путеводителем», и обратил мое особенное внимание на исторические места, которые я должен был посетить.
– У меня есть знакомые в городе, хочется посетить и их…
– А кто же они? – полюбопытствовал Шишков.
– Шлиссельбуржец Морозов, Чапыгин и два ярославца.
– Но нас-то не забывайте, – попросил он.
Ежегодно, в конце мая, во время отпусков, я приезжал в Детское. Это было три раза, три замечательные весны.
Однажды я написал маленькое руководство о том, как переплетать книги самым простым способом. Вячеслав Яковлевич обещал мне помочь издать эту книжку, но это сделать ему не удалось. Обеспокоенный, он писал мне о хлопотах, связанных с книжкой, а потом сообщил:
«Письмо Ваше написано очень хорошо. Вам бы надо попробовать писать очерки, сцены с натуры, а еще лучше – воспоминания.
По страничке в день, вот, глядишь, и накопится. Я все еще работаю над фразой «Угрюм-река», чтобы фраза и весь роман звучал… Выйдет не раньше мая-июня.
Я вчера нашел в амбаре ту книгу, которую хотел Вам подарить «По северо-западу России», в двух томах с великолепными рисунками, но растрепанная. Пришлю ее – переплетете, будет хорошая книга, интересная. А Вы пришлите мне «Медвежье царство».
Поклон Вам и всем Вашим от всех наших».
Но дело с «Угрюм-рекой» подвигалось, по-видимому, тихо, писатель все еще отделывал свой роман. Через четыре месяца я получил от него приветливое послание:
«Спасибо за ласковое письмо Ваше. Простите, что не отвечал. Очень много разных дел и забот. Все вожусь с «Угрюм-рекой», полирую, сокращаю… Переставляю куски то сюда то туда, чтобы было стройно – легко читать. В печать еще не отдавали. Но скоро начнут набирать. Выйдет, я думаю, летом, в июне. Живем мы хорошо. Солнце гостит над землею дольше и больше, но морозы еще держатся. Но через месяц открою террасу.
«Медвежье царство» получил, спасибо за переплет. «Путешествие» все еще не собрался Вам послать в надежде, что летом заедете сами.
Поклон Тоне и всем Вашим. Скоро грачи прилетят. Вот время-то идет как быстро. Клавдия Михайловна и все наши кланяются Вам».
Потом получил еще письмо. Вячеслав Яковлевич поздравлял меня и мое семейство с новым, 1934 годом. Он сообщал:
«Жду не дождусь, когда же вышлю я «Угрюм-реку». Вот там есть, что почитать и что послушать…
Вся беда в том, что сам не могу получить из магазина, 20 заказанных экземпляров. В таком же положении многие мои друзья, которым не досталось из 25 экземпляров авторских.
Книга, как только появляется с фабрики, ее расхватывают, я опять заказываю, злюсь и т. д.
Стихотворение милой Тони очень умное, хорошее, но не по летам печальное. Рано ей размышлять на такие темы. В будущее надо глядеть бодро и не давать оседлать себя всякой хандрой. Впереди ее вся жизнь и жизнь ее должна хорошо сложиться потому, что она сама славная женщина. Поклон от всех нас».
В 1934 году, в Москве, на съезде писателей в перерыв между докладами я встретился с А. Н. Толстым около столов с газетами и журналами.
– А что же, Алексей Николаевич, не видать Вячеслава Яковлевича?
– Он должен быть непременно сегодня же, собирались ехать вместе, но его задержали какие-то дела.
– Алексей Николаевич, а как продвигается «Петр», – поинтересовался я, – когда вы его закончите?
– Сейчас занят другой работой – «Иваном Грозным», а как закончу его, и за «Петра» примусь.
Он хотел еще что-то сказать, как вдруг из густой толпы, словно поплавок из воды, вынырнул Вячеслав Яковлевич.
– Вот он! – громко сказал Алексей Николаевич.
Поздоровались мы с ним по старинному обычаю. И только Вячеслав Яковлевич стал рассказывать, почему задержался, как раздался звонок, и все заторопились в зал на свои места.
В последние дни работы съезда как-то вместе вышли с Вячеславом Яковлевичем на улицу. Было темно, холодно и поздно. Остановились около Дома Союзов, поговорили немного о жизни и Ленинграде и стали прощаться. Не думал я тогда, что расстаемся навсегда.
И вот идут годы один за другим. Многое уходит из жизни, но светлый образ родного по душе человека никогда не померкнет и не исчезнет из моей памяти, не погаснет его чистая, глубокая любовь к людям.