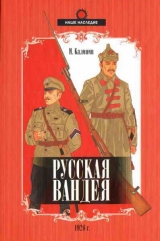
Текст книги "Русская Вандея"
Автор книги: Иван Калинин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
IV
ВЕРХИ ДОБРОВОЛИИ
Приехав в Екатеринодар с небольшим запасом денег, я, к счастью, довольно удачно нашел свободную комнату у своих знакомых, родителей уже гремевшего теперь вовсю полковника А. Г. Шкуро.
Самого препрославленного героя я еще не знал, с семьей же его познакомился в 1917 году, в самом начале революции, когда я здесь провел два месяца по своим служебным делам и когда будущая знаменитость воевала где-то на германском фронте в чине есаула.
Отец «народного героя», старый «дид», отставной войсковой старшина Григорий Федорович Шкура, личность тоже в своем роде замечательная. Он привлекал внимание всякого как своим внешним видом, так и своей, необычной для его лет, живостью манер, болтливостью языка и чисто хохлацким, лукавым юмором.
У старика, ветерана войны 1877 года, одна нога была укорочена, и он ходил, точнее бегал, на костыле. Точно так же не все обстояло благополучно с левой рукой, которую он носил на перевязи. Голый, морщинистый лоб «дида» украшала пробоина, видимо, след турецкой пули.
Этот престарелый калека всегда кипел, как щелок, и минуты не мог посидеть на одном месте. То он появлялся на базаре среди торговок, ругая дороговизну, то ловил на перекрестках молодых офицеров и держал к ним речь на политические темы. Так как его органы слуха от старости тоже имели кой-какие дефекты, то разговор с ним сразу же превращался в крик и привлекал внимание городовых, что не смущало деда и не прекращало словоизвержения.
Старый Шкура жил зажиточно. Помимо большого офицерского надела земли в районе станицы Пашковской, подле Екатеринодара, он имел приличный дом-особняк в городе, на Динской улице. Средства позволили ему выстроить два одноэтажных дома и своему старшему сыну Андрею на Крепостной улице, близ берега Кубани.
Обрадовавшись мне как новому собеседнику, старик сейчас же поспешил рассказать о своих злоключениях в период господства Советской власти в Екатеринодаре.
Он отлично владел обоими языками, русским и украинским, при чем «до революции в интеллигентном обществе говорил только по-русски. В марте же 1917 года в нем вдруг проснулся хохол-самостийник, вернее, он стал изображать из себя такового, и везде и всюду заговорил только по-украински. Теперь, когда на Кубани царило двоевластие, раздвоился и старый Шкура, то тараторя на одном языке, то на другом, сплошь и рядом вклеивая русские слова в украинскую речь и наоборот.
– Як Андрюшка начав воюваты, знакомые хлопци из Совдепа мне бачут: «Григорий Хведорович! Втикай: заберут у темницю. Я тоды узяв у сусида пипа рясу, перерядився так и сев у поезд. Ой, лихо, думаю, меня всякий чоловик знає. Дуже приметен. Тильки выручила судьба. Тоды не было фотогену, у вагонах була тьма кромешная, а жарко, як упекли. Жинки товкают меня: «У, пип, бисов сын, живодер». Мовчу. Ти още пуще. «Прошло ваше царство, долгогривые». Все время мовчу. Так и домандровал до Новороссийска.
В Новороссийске его приютил знакомый еврей-шапочник и скрывал в самых непотребных местах до конца господства большевиков.
– Почему у вас стены и пол пробиты в роде как взрывом?
– А це було прежде. Приходят до мене красногвардейци. Подавай, бачут, старый, рушници. Один дуже пьяный, в руках гранату держит. «Баламут ты этакий, брось цю штюку». Вин дурной и в самом дели бросыв на пол. Дымом заволоклась уся хата. Я вылетел на балкон як птиця.
Далее старик добавил, как он, очухавшись, бросился бежать из дому, однако прихватив узелок с золотыми монетами, как обронил в саду это сокровище и утерял его навеки.
– Скильки там було карбованцив… Прадиды копили, и диды… Усе пропали. Мабуть, красногвардейци взяли. Сто болячек им у спину.
Тут он начал весьма неискренно жаловаться на свою теперешнюю скудость.
Днем старик почти всегда пропадал из дому. Вечером он возвращался с целым ворохом всевозможных сплетен и базарных слухов, которыми угощал своих домашних.
Однажды «дид» вернулся необычайно взволнованный.
– Нет, это безобразие! – кричал он, еще прыгая по саду и приближаясь к веранде, на которой я сидел в плетеном стуле.
– Безобразие! – повторил он, тряся своей маленькой, ощипанной головой, за невозможностью размахивать руками, из которых одна действовала костылем, другая беспомощно висела на перевязи.
– Вы знаете… Нехай бис его забере. Этот наш батька атаман кубаньский, бисов сын Хвилимонов… моего Андрюшку хочет суду предать за грабежи. А? Як вы кажете?
Я сделал вид, что необычайно удивлен и даже возмущен в лучших своих чувствах, хотя о подвигах знаменитых «волков», шкуринских партизан, много наслышался еще в Закавказье.
– Нет, это я так не оставлю… Я знаю, что треба ро-быть! – не унимался «дид», усаживаясь в кресло.
– Я пийду к нему, этому… как его… Хвилимону или, мабуть, Лимону и побачу с ним. Я брехну ему в лицо: «Александр Петрович! А ты помнишь, когда ты служил у меня в сотне хорунжим и прокутил сто рублей казачьего жалованья? Я предал тебя суду али нет? Не предал, а покрыл грех. Свои карбованци за тебя выложил. А ты что теперь хочешь зробыть с моим Андрюшкой».
«Дид» на другой день исполнил задуманное.
– То-то, вражий сын, нехай знаэ старого Шкуру! – торжествующе сообщил он на следующий день мне и другому квартиранту, сербскому офицеру. – Еще ни один из нашего роду не бувал под судом от тих пор, як мои диды прийшли з Запорожья, с Сичи, на вольную Кубань.
Он вдохновился, вспомнив прошлое, и начал рассказывать нам о славе своего рода. Перед нами проносились, одна другой красочней, картины дикого Запорожья и кровавых битв казацкой вольницы с ляхами и турками, выплывали из тьмы веков величавые образы куренных, кошевых, гетманов, во всей своей дикой красоте.
– Вот она откуда, эта бешеная удаль и буйный пошиб у его Андрея! – невольно приходило в голову. – В современном казачьем офицерике проснулась кровь предков, зипунных рыцарей Дикого Поля.
В заключение старик провел нас в свою спальню. Там, над самой его кроватью, на стене, висела поверх ковра небольшая коллекция старинного оружия.
– Хочу умереть козаком, – продолжал шестидесятилетний вояка. – От цю пистоль тай цю шаблюху нехай сыны положат на мою домовину. Нехай старый Грицько Шкура предстанет пред господом с оружием, как и его диды. И Андрюшке, и Володьке даю тот же завет. Тильки воны, бисовы хлопци, оба у меня бесплодные. У Володьки жинку на походе бомбой убило. А Андрюшка… (Тут старик безнадежно махнул здоровой рукой)… Тому некогда бабиться… Воюет… Жинку с весны потерял… Мабуть, и в живых нема Тасиньки.
Тут старик счел нужным дотронуться носовым платком до своих подслеповатых глаз.
Таков был отец вождя «волков», очень больно кусавших русское крестьянство в 1918–1919 годах.
Съездив на несколько дней в Новороссийск, где у меня водились давнишние друзья-приятели, я возвратился в квартиру старого «дида» и был поражен неприятным сюрпризом. Городская комендатура предлагала мне немедленно же покинуть Кубанскую область, так как я за десять дней своего пребывания в Екатеринодаре не поступил ни в Добровольческую армию, ни в военные учреждения Кубани.
Положение мое стало затруднительное. Средства почти иссякли. Приходилось что-либо предпринимать.
Было ясно, как божий день, что раз здесь мобилизуют всех офицеров, то и мне не избежать общей участи. Но я не имел ни малейшего желания воевать, будучи в достаточной степени равнодушен к тем туманным лозунгам, которые провозглашала Доброволия.
Решив предупредить события, я отправился к генералу-от-кавалерии Абраму Михайловичу Драгомирову, только что назначенному председателем особого совещания при главнокомандующем, т. е. главой деникинского правительства. Мне хотелось узнать, будет ли в районе Добровольческой армии организован военно-окружный суд, подобный тому, в котором я привык служить за годы мировой войны.
В приемной у генерала сидело душ пятнадцать.
Мое внимание привлек бритый и наголо выстриженный господин, низенького роста, коренастый, с малоподвижным, почти деревянным лицом и с крайне неприятными лисьими глазами. На нем чернел костюм статского человека, но некоторые манеры выдавали в нем военного.
– Да ведь это Макаренко! – решил, наконец, я, всмотревшись пристально в бритого барина.
Генерал Макаренко – преемник знаменитого главного военного прокурора ген. Павлова, убитого в 1906 г. террористом Николаем Егоровым. Этот су-хомлиновский лакей, подобно своему, более талантливому, предшественнику, тоже приложил все свое старание, чтобы развратить, оподлить, деморализовать военно-судебное ведомство, чтобы превратить военный суд в послушное орудие административного воздействия. С его именем тесно связаны многие язвы нашей службы, и ни один военный юрист-практик не поминал добром главу своего ведомства.
Когда разразилась мартовская революция, Макаренко арестовали вместе с министрами. Носился слух, не знаю, насколько верный, будто царь в последний момент предполагал создать «министерство усмирения» во главе с Протопоповым, который предложил ген. Макаренко занять пост министра внутренних дел. Быстрое падение царизма разрушило всю эту затею, если она существовала в действительности.
– Скажите, – обратился я к адъютанту Драгомиро-ва, желая проверить себя, – кто этот маленький статский? Не генерал Макаренко?
– Да он, вы не ошиблись.
– Чего он тут болтается?
Адъютант удивленно посмотрел на меня. Мой непочтительный вопрос покоробил его. Чтобы нагнать на меня жару, он важно произнес:
– Его превосходительство генерал-лейтенант Макаренко назначается министром юстиции.
Тут уж я удивленно посмотрел на ротмистра. Макаренко в это время пригласили к Драгомирову.
– Как? – готов я был кричать вслух. – Это воплощение ненавистного старого режима, прогнанный в начале революции, как вреднейший для России человек, здесь будет в составе правительства и станет насаждать правосудие! Что ж это будет за обновление? Во имя чего же ведется гражданская война?
Тогда я еще плохо знал верхи Доброволии.
Тонкий светский человек, Абрам Михайлович принял меня более чем любезно. Узнав, что я профессионал военно-судебного дела, еще более усугубил свое внимание.
– Как же, как же! Нам нужны такие люди. Мы будем строить Россию на началах права и законности…
– Которые будет насаждать ген. Макаренко, – подумал я.
Меня крайне интересовало, какова же в конце концов политика Доброволии, стоит ли последняя за Учредительное Собрание, какую собирается проводить программу и т. д.
– Скажите, – задал я вопрос генералу, – какие цели преследует ваша армия?
Драгомиров иначе понял мои слова.
– Цели? Наша ближайшая сейчас цель – итти на Волгу, на соединение с Колчаком, чтобы общими силами ударить на большевиков с юга и востока.
Таков, надо полагать, был первоначальный стратегический план Деникина. Драгомиров даже не считал нужным скрывать его.
В 1918 году этому плану не удалось осуществиться из-за отсутствия достаточных сил, а в 1919 году его отвергли из нежелания делиться лаврами и портфелями с министрами Колчака.
Драгомиров отправил меня к начальнику деникинского штаба ген. Ив. Пав. Романовскому, злому гению Доброволии. Черносотенцы его считали масоном, либералы – черносотенцем. В действительности он представлял из себя тупого, недалекого солдата, притом довольно надменного, свыше меры честолюбивого. Он являлся родоначальником добровольческого сепаратизма и всегда ревниво оберегал первородные права Доброволии.
25 сентября, утром, я зашел в приемную Романовского. Там тоже сидело несколько человек, из которых иные, несомненно, только что прибыли в Екатеринодар на ловлю счастья и чинов.
Вот сырой, толстый генерал. Видно и по лицу, и по одежде, что судьба уже потрепала его, но еще не смирила. Придавила, принизила, но не укротила, не вышибла олимпийского духа. Надменный вид. Ядовитая улыбка.
Это бывший астраханский губернатор, – так он сам отрекомендовался мне.
Сидя в приемной у какого-то, едва вынырнувшего из неизвестности, генерала, этот бывший сановник старается как можно любезнее говорить с посетителями в малых чинах. Но по его злобному лицу чувствуется, что дай опять этому Юпитеру власть, и он снова начнет метать громы и молнии, сгибать в бараний рог, показывать кузькину мать.
Вот и другой тип. Тоже довольно солидный, осанистый генерал-от-кавалерии Смагин. Он величественен и невозмутим. Потому что «у дел». Он, не много, не мало, посол всевеликого войска Донского при ставке главнокомандующего. Он даже не садится, а стоит у двери кабинета, зная, что, как только явится Романовский, ему прием вне очереди.
Потрепанный, безработный губернатор смотрит на него с завистью. И с несомненной ненавистью. И, несомненно, уже готов шипеть по адресу благообразного, прилично одетого Смагина:
– Самостийники! Приструнить бы вас надо.
Через два года судьба сравняла их. Бывший губернатор сделался нахлебником сербов, ген. Смагин – болгар, которые дали ему пенсию как участнику войны 1877 года.
Романовского ждали довольно долго. Когда он наконец прибыл и увел к себе в кабинет посла войска Донского, дежурный офицер сообщил нам:
– Господа! Генерал Романовский сейчас от Алексеева. Полтора часа тому назад не стало Михаила Васильевича.
Эта новость никого не поразила. Основатель Добровольческой армии уже несколько недель находился на краю могилы.
Дождавшись очереди, я вошел к Романовскому и подал ему записку Драгомирова, который писал:
«Я полагаю, что в дальнейшем нам придется формировать военно-судебные учреждения, и такие специалисты, как предъявитель сего, нам будут крайне необходимы».
Драгомиров, чуждый «добровольческого сепаратизма», ошибся.
– Извините! Мы даем у себя места только тем, кто был с нами в походе, – холодно заявил мне Романовский, когда я сказал ему, что если Добровольческая армия требует от меня поступления на военную службу, то пусть меня назначат служить по специальности.
Ответ и тон Романовского смутили меня.
– Генерал Драгомиров сообщил мне, что правительство примет все меры к насаждению права и законности. Не будете же вы формировать суды из неюристов?
– Пока что мы довольны тем судом, который у нас есть.
Генерал был прав.
Тот военный суд, который пока что имела Добровольческая армия, вполне соответствовал ее мстительно-реставраторской идеологии. Во главе этого суда, почему-то называвшегося корпусным и действовавшего наподобие военно-полевого суда,[15]15
Корпусные суды, введенные в действие в 1914 году, в самом начале мировой войны, учреждались при частях армии и организовывались по образцу военно-окружных судов и с компетенцией последних. При них существовали военные прокуроры, допускалось участие защиты, приговоры могли быть обжалованы в кассационном порядке и т. д. Главнейшие должности в этих судах занимали военные юристы, выделенные из военно-окружных судов. Военно-полевые суды – чрезвычайные судилища, имевшие мало общего с нормальными военными судами (военно-окружными, корпусными, временными военными и т. д.). По царским законам военные юристы в них не допускались, прокуратура в них отсутствовала; защита в лице адвокатуры возбранялась; заседания происходили негласно и т. д. В мировую войну применение военно-полевых судов было чрезвычайно редко, в гражданскую же они вошли в обиход, оттеснив на второй план нормальные военные суды.
[Закрыть] стоял некий полковник Ив. Ив. Сниткин, грубый бурбон, выгнанный еще задолго до войны из военно-судебного ведомства за алкоголизм. Очутившись в корниловском отряде, он, как единственный офицер с военно-юридическим образованием, занял должность председателя корпусного суда. О том, что это было не судилище, а простая расправа, повествует А. Суворин-Порошин в своей книге «Поход Корнилова».
Еще ничего не зная о подвигах этого господина, а равно и не зная его личности, я пошел было познакомиться с этим судебным деятелем, своим коллегой, да и сам потом был не рад своему поступку.
Меня встретил здоровенный, грубый детина, который, не считая нужным предложить стул, рявкнул, узнав, что я военный юрист:
– А где вы шатались в то время, когда мы поднялись против большевиков и проливали кровь за отечество? Небось, сидели в углу и выжидали?
Я попробовал было возразить, что в тот период, когда он «проливал кровь за отечество», я еще находился в дебрях Турции с последними крохами старой Кавказской армии, до конца исполняя свой солдатский долг. Но грозный судия не дал мне договорить и в таком тоне продолжал дальнейший разговор, что я поспешил обратиться в бегство.
Благородное негодование г. Сниткина мне было понятно. Оно объяснялось очень просто: шкурным интересом, боязнью конкуренции. Моя персона при этом играла второстепенную роль. Но по моим следам из Тифлиса могло нахлынуть добрых два десятка военных юристов, притом в солидных чинах. Впоследствии так и случилось, но тогда уже Добро-волия значительно выросла и для всех находились должности.
Еще более встревожился, узнав о моем появлении в Екатеринодаре, председатель только что сформированного Кубанского краевого военно-окружного суда ст. сов. В. Я. Лукин, один из стаи щегловитовских птенцов.
Этот типичный судеец-карьерист перед февральской революцией занимал должность прокурора Усть-Медведицкого окружного суда (в Донской области) и пользовался всеобщей ненавистью за свое подхалимство в отношении начальства и за свои иезуитские замашки при обращении с подчиненными. Как ни приноравливался он после падения царизма, как ни украшал свой виц-мундир красной розеткой, его все-таки выгнали со службы как черносотенца.
Прогулка в корниловском обозе по задонским степям и уменье втираться в доверие к сильным мира сего привели к тому, что этот чиновник, не имевший понятия о военном быте, об особенностях военной юстиции и совершенно чуждый казакам, по занятии Екатеринодара добровольцами, возглавил кубанское военно-судебное ведомство.
Если недалекий Сниткин свирепствовал в силу своей солдатской тупости, то достаточно разумный ст. сов. Лукин не ограничился ролью простого вешателя. Руководя, помимо суда, деятельностью судебно-следственных комиссий Кубанского края, он с особенным смаком выискивал измену, т. е. большевизм, и смешал, таким образом, в своем лице роль и председателя суда, и утонченного охранника.
Он хватал и сажал в тюрьмы тех должностных лиц, кто не саботировал при большевиках. Мой знакомый екатеринодарский адвокат П. П. Боговский был привлечен им к ответственности и затем судим за то, что в период господства Советской власти на Кубани заведывал регистрацией браков и разводов. Он точил зубы на другого моего приятеля, тюремного инспектора Н. Д. Плетнева, исполнявшего свои обязанности и при большевиках. Сестра Шкуро, г. Л. Г. Лео, неоднократно жаловалась мне на свирепость этого служителя Фемиды, который держал за решеткой множество знакомых их семьи, в том числе и доктора Мееровича, и просила моей помощи для освобождения невинно заключенных.
Увы! Я и сам попал в число подозрительных.
Лукин как-то разведал о моей близости в 1917 году к Совету солдатских и рабочих депутатов Эрзерумско-го района. Этого ему оказалось достаточно, чтобы провозгласить меня «большевиком».
Мне приходилось уже думать о том, как бы унести подобру-поздорову свои ноги из Екатеринодара, где вообще царил крайне нездоровый дух, как в этом скоро убеждались все, не зараженные кондотьерски-ми замашками. Как-то раз я встретил на улице своего старого сослуживца по пехотному полку, где я тянул лямку до Академии, капитана Петрова, который не преминул поделиться со мною екатеринодарскими впечатлениями.
– Отправился я, – рассказывал он, – к дежурному генералу деникинского штаба и говорю ему: «Вы, ваше превосходительство, сзываете к себе на службу офицеров. Но позвольте предварительно узнать, за что же борется Добровольческая армия. Какова ее политическая программа?»– «А вы видели, – спрашивает он меня вместо ответа, – какой флаг развевается над нашим штабом?» – «Видел». – «Какой же?» – «Русский трехцветный». – «Это должно вам сказать все. Мы боремся за Россию». Мне оставалось только пожать плечами. Ведь под трехцветным флагом могла скрываться Россия и царско-самодержавная, и кадетско-конституционная, и буржуазно-республиканская и т. д.
Безвыходность положения заставила капитана Петрова, человека крайне либерального со школьной скамейки, поступить в Доброволию и служить в ней до 1920 года, когда он, с моего ведома и благословения, бежал из Крыма в Одессу на парусном судне.
27 сентября хоронили Алексеева.
Кубанское правительство, в знак признательности к организатору Добровольческой армии, освободившей Кубань от большевиков, объявило день его похорон днем траура. Воспрещалась всякая торговля, тем более увеселения. В правительственных учреждениях и учебных заведениях отменялись занятия, чтобы дать возможность каждому отдать долг усопшему, «первому добровольцу», бывшему верховному главнокомандующему и просто честному человеку.
Распоряжение кубанских властей о закрытии всех торговых заведений в день погребения вождя добровольцев плохо выполнялось. Когда я шел на похороны, кажется, по Димитриевской улице, из харчевен и чайных, окна которых прикрывались ставнями, доносились пьяные песни и звуки тальянки.
У Екатерининского собора, в котором происходило отпевание, я впервые увидел строй добровольцев. Среди них преобладали молодые офицеры. С непривычки резали глаз целые роты офицеров, в самых различных формах, с винтовками на плече. Одежда у большинства не отличалась свежестью. На ногах у многих зеленели английские обмотки.
Матерые добровольцы, не новички, носили свою «цветную» форму.
Корниловская поражала наибольшей пестротой.
Кто расписан как плакат? То корниловский солдат.
Такое двустишие сложилось про корниловцев для «Добровольческого журавля».[16]16
«Журавель» – песня, состоящая из различных двухстишных куплетов и припева.
[Закрыть]
Жур мой, жур мой, журавель, Журавушка молодой.
А. Порошин-Суворин, описывая эмблему корнилов-ских ударников, нашитую на левом рукаве, в виде щита из голубого шелка, на котором белый череп с костями и, мечи, и красная разрывающаяся граната, поясняет:
– «Череп с костями и мечами – бессмертие посредством оружия; граната – признак всех гренадеров, к которым принадлежит корниловский полк. Девиз полка, предложенный полк. Нежинцевым[17]17
Любимец Корнилова, командир ударников, убит в бою под Екатеринодаром.
[Закрыть]: «Лучше смерть, чем рабство».[18]18
См. «Поход Корнилова».
[Закрыть]
Марковцы (офицеры и солдаты полка имени ген. Маркова, быховского сидельца) блистали белыми фуражками; дроздовцы или «дрозды» (офицеры и солдаты отряда полк. Дроздовского, пробившегося на Дон с Румынского фронта весною 1918 г.) приятно щекотали глаз своей малиновой формой.
Смерть организатора Добровольческой армии не внесла никаких изменений в положение вещей на юге России.
Контр-революционное ядро было создано. В дальнейшем, благодаря политическому невежеству русского офицерства, привычке военной массы раболепно следовать за старшим в чине, а также благодаря безработице, выпавшей на долю военщины, Доброволия стала быстро пополняться и расти. Она, как ком снега, чем далее катилась, тем все более увеличивалась в размере. Правда, этот ком был рыхлый. Но его тяжесть дала себя знать русскому пролетариату.
Здесь, в Екатеринодаре, уже с очевидностью проскальзывала тесная связь Доброволии с Антантой. Краснова, который стоял во главе Дона и якшался с немцами, ругали что есть силы. Известное письмо донского атамана кайзеру о помощи против большевиков рассматривалось как изменнический акт по отношению великой и неделимой.
Доставалось и «гетману всея Украины».
– От смотрите же, ну не бисов ли сын Павло Скоропадьский! – тараторил однажды старый Шкура, показывая мне в номере одного екатеринодарского журнала фотографический снимок, изображавший прием Вильгельмом гетмана, при чем сверху красовался заголовок: «Хозяин и Работник».
В последние дни своей жизни в Екатеринодаре я был зрителем совсем диковинного судебного процесса.
Ст. сов. Лукин (кстати сказать, он носил такие широкие погоны, что репортеры считали его за военного и в отчетах титуловали генералом) судил группу кубанских офицеров, не много, не мало, за попытку отторгнуть от России часть ее территории, именно Таманский полуостров, древнерусскую Тмутаракань.
Вина этих продавцов России в розницу так обрисовывалась обвинительным актом.
Генералы кайзера, чтобы захватить возможно больший район южной России для производства реквизиций хлеба, в мае 1918 года высадили на Таманский полуостров небольшой отряд, который выбил отсюда большевиков. Под прикрытием германских пулеметов местное казачье офицерство сорганизовалось и мобилизовало казаков, чтобы оборонять пределы полуострова от советских войск. Образовался отряд, в командование которым вступил полк. Перетятько. Начальником штаба он избрал полк. Комянского. Оперативной частью ведал есаул Григорий Иванович Горпищенко, молодой, энергичный и честолюбивый человек.
В виду слабости старших начальников Горпищенко сделался фактическим хозяином отряда, подружился с немцами и весьма недружелюбно относился к войсковому правительству, болтавшемуся тогда в междупланетном пространстве. Немцы в лице Горпищенко на Таманском полуострове нашли миниатюрное подобие Павла Скоропадского.
Чтобы усилить денежный фонд своего вассального владения, Горпищенко прибег к довольно оригинальному средству. Таманская флотилия (существовала и такая!), под начальством полк. Толмазова, занялась каперством. Суда приводили в Тамань, груз реквизировали, а экипажи пассажиров передавали в распоряжение начальника контр-разведки, подозрительного «инженера» Каштанова. Последний в первую голову отбирал у пленников все ценное, иных пускал в расход, других освобождал, но, разумеется, без имущества.
В июне на полуостров прибыли уполномоченные от бродячего краевого правительства сотник Балабас и есаул Федоренко, которые начали протестовать против подобного добывания средств таманским главковерхом. Но Горпищенко сейчас же выслал их туда, откуда они прибыли. Сторонники краевого правительства собрали было станичный сбор и пытались узнать, почему высланы Балабас и Федоренко. Штаб отряда, через «инженера» Каштанова, передал им:
– Войсковое правительство гроша ломаного не стоит, так как в феврале оно позорно бежало из Екатеринодара. Войсковой же атаман – вор и мошенник, и если он сунется сюда, то тоже будет арестован.
Казаки почесали чубы и притихли.
Зато безземельное кубанское правительство никак не могло успокоиться. Ему надоела бродячая жизнь и страстно хотелось раздобыть хотя бы клочок своей кубанской земли. Освободившаяся от большевиков Тамань невольно привлекла внимание и Рады, и правительства.
На полуостров снова командировали доверенное лицо на этот раз в большом чине, генерал-майора Борисевича, с предписанием вступить в командование таманским отрядом. Думали, что этот посол подчинит себе все таманское офицерство.
Однако коса нашла на камень.
Горпищенко, сам привыкнув распоряжаться по-генеральски, не испугался генерала. Когда Борисевич, набравшись храбрости, захотел расформировать штаб, Горпищенке же приказал итти под арест, немцы схватили его самого и сплавили с полуострова.
Все пошло по-старому.
Между тем Добровольческая армия повела наступление на Кубань. Немцы всполошились. В их интересы вовсе не входило, чтобы хлебные места занимала явно враждебная им организация. Действуя через Горпищенко, они даже решили расширить это тмутараканское государство, нужное им как база для выкачивания хлеба и других плодов земных.
Во исполнение немецкой директивы штаб отряда разослал в соседние станицы, где царила анархия, воззвания, в которых станичным сборам предлагалось обсудить вопрос о призыве немецких отрядов и об изгнании как большевиков, так и уполномоченных краевого правительства. Станичных приговоров не последовало.
Штаб этим не обескуражился. Горпищенко решил пожать лавры завоевателя. Двинув свои войска во все стороны, он захватил ряд соседних станиц и город Темрюк.
Дальнейшему победоносному шествию таманского Наполеона помешала Добровольческая армия, занявшая Екатеринодар. Тщетно Горпищенко рассылал воззвания по Кубани о том, что таманский отряд поможет казакам, восставшим против советов, окончательно освободиться от большевиков, если повстанцы прервут всякие сношения с армией Деникина и прогонят правительственных агентов.
Звезда таманского главковерха догорала. Дни самостийного таманского государства были сочтены.
Колонна правительственных войск, т. е. кубанцев, подчинявшихся в военном отношении Деникину, заняла г. Темрюк. Ее вождь, ген. Карцев, созвал в этом городе казачий съезд для обсуждения вопроса об отношении к краевому правительству, уже утвердившемуся в Екатеринодаре благодаря победам добровольцев.
Горпищенко рискнул отправиться в Темрюк, чтобы изложить на съезде свою программу спасения отечества с помощью немцев. Как только он явился туда, ген. Карцев тотчас же арестовал его вместе с его телохранителем, черкесом Абдул-Земилем, который ранее состоял в той же должности при большевистском комиссаре Белякове, расстрелянном в Тамани.
Этим и закончилось трагикомическое существование таманского государства.
28 сентября есаул Горпищенко, полк. Комянский и Толмазов и унт. – оф. Абдул-Земиль предстали перед краевым военным судом, в котором председательствовал статский юрист. Г. Лукин впервые дебютировал в новой роли.
Официально дело называлось «Мятеж против краевого правительства».
После двухдневного разбирательства суд приговорил Горпищенко и Комянского к четырем годам арестантских отделений, черкеса к двум месяцам тюрьмы, Толмазова оправдал.
Вскоре атаман помиловал и первых двух.
Накануне своего отъезда из Екатеринодара я встретился на Красной с Лукиным.
– Изумительные дела творятся у вас, – сказал я. – Тут кто борется с большевиками при помощи Антанты, а кто при содействии немцев. И одни другим готовы перегрызть глотку, хотя враг общий. Ведь этак не будет добра. Далее, вы называете большевистскую власть рабством, а сами почти открыто несете России старый режим, который душил всех. Можно ли рассчитывать при таких условиях на успех?
– В вас все еще бродит 1917 год! – со сладенькой улыбочкой отвечал мне чиновный иезуит.
Но вскоре он начал косить лицо и читать мне нотации.
– И не пора ли забыть эти заезженные фразы о том, что царизм кого-то душил, пил чью-то кровь?
Разнуздалась, батенька, Россия, – мы ее опять взнуздаем. Все-то у нас пойдет по старенько-ому… Что вы думали? Мальчишки будут умнее умудренных опытом людей? Нас на свалку?
В нем заговорило служебное самолюбие, уязвленное еще февральской революцией. Во мне, молодом судебном деятеле, приветствовавшем свержение царизма, он видел почти личного врага, вследствие чего сделал особенно сильное ударение на слове «мальчишки».
– А удастся взнуздать? Как бы не ошибиться.
– А вот, – он указал на толпившиеся возле комендатуры офицерские группы, – лучшее доказательство вам.
Все едут к нам, все наши с руками и ногами. Почему? Потому что все соскучились по старой палке.
– Не увлекайтесь офицерством. Это еще не вся Россия. Царь имел очень много офицеров, а знаете, что случилось? Я, потолкавшись среди этой приезжей братии больше недели, отлично знаю, что среди них нет никакого энтузиазма. Они пойдут воевать, но из-за голода, от безработицы, а не во имя идеи. А у большевиков несомненно революционный пыл.
– О! у нас и в России много союзников. Весь народ ждет нас как избавителей, отдаст последнюю полушку для нашего дела. Мы идем к верной победе. Добровольческая армия…
Тут ст. сов. Лукин оборвал свою речь на полуслове и неимоверно побледнел, так как где-то на окраине, в стороне вокзала, прогремел пушечный выстрел.








