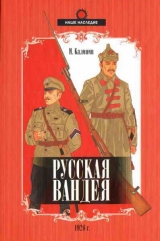
Текст книги "Русская Вандея"
Автор книги: Иван Калинин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Кой чорт! В чем дело?
– До рассвета запрещен выход.
Пароход стал на якорь. Капитан спешно отправился на шестерке к молу, где возле тусклого фонаря шевелились какие-то фантастические фигуры.
Через час он вернулся и сообщил любопытным:
– Все улажено. Можно ехать. Грузинский закон более не возбраняет.
– За какую сумму?
– Пустяки. Всего лишь двести, ихними же бонами.
– Там триста, здесь двести… Шутка ли везде так смазывать!
– Такое наше дело. Коммерция. Без накладных расходов на смазку много не наживешь.
На другой день, уже за Сухумом, Черное море демонстрировало перед нами шторм. Несчастный пароход качался, как детская люлька. Старая, туберкулезная машина едва дышала. Мы с трудом пробегали по 5 миль в час.
– Если машина остановится совсем, то мы погибли, – утешил капитан взволнованную публику. – Тогда наша скорлупка сделается игрушкой волн. Можем потонуть. Может и на берег выкинуть.
– Господи Иисусе! – истово перекрестился старый полковник, давно уже пластом лежавший на своих сундуках. – Лишь бы не прибило где-нибудь возле Сочи. Там, говорят, грузинские солдаты ген. Кониева обирают всех от темени до пяток. Пропадет последнее барахло.
– Хорошо тому, у кого оно есть. А когда в одном кармане блоха на аркане, в другом вошь на цепи, тому горя мало, – назидательно произнес мой сосед, обнищавший подпоручик, и с этими словами бухнул прямо на грязную поверхность палубы.
– Нашему брату что… Шинелью закутался, кулак в изголовье, и дуй до утра во все носовые завертки.
– Босота! – презрительно пробурчал старик, вытягивая ко мне голову, спрятанную в башлык кожана. – Ну и офицеры пошли в наше время. А бывало…
– Вы сами где служили?
– До отставки лет восемь тянул лямку воинского начальника. Служил, можно сказать, по совести. Зато именья у меня всего манишка да записная книжка…
Через трое суток наш ноев ковчег кое-как добрался до Керчи. В бухте ни одного судна. На пристани сиротливо бродит какой-то герой ранних произведений Горького.
– А тут что у вас за республика? Какая власть?
– Здесь у нас своя республика, крымская.
– А до России еще далеко?
– До России? Весь свет проедешь, – не найдешь такой. Была да вся вышла.
В порту хозяйничают немцы. Вскоре после того, как пароход причалил, на пристани появился отряд немецких солдат во главе с молоденьким, красивеньким лейтенантом. Позже я узнал, что его фамилия была Вих-ман. Просто Вихман, без фона. Германское офицерство за время грандиозной мировой войны разаристократилось.
– Вы все арестованы! – объявил нам лейтенант через переводчика – еврея.
Среди офицерства воцарилась суматоха.
– Как? За что?
– Говорили, что немцы идут против большевиков, с которыми и мы едем драться, а тут вот тебе, на тебе…
– Ловушка!
– Безобразие!
– Господа! – громко передает переводчик распоряжение Вихмана. – Согласно действующим здесь правилам вы будете обезоружены. Предъявите солдатам ваши шашки, револьверы, винтовки. За утайку оружия полагается расстрел.
Дипломатические переговоры с лейтенантом не привели ни к чему. Пришлось подчиниться приказу.
– Бэри шашку, бэри киньжал, а-аставь нажну! – протестует офицер-горец, владелец старинного кривого ятагана, украшенного серебряной резьбой.
Толстомордый ландштурмист силой вырывает у него оружие. В глазах джигита сверкают молнии.
– Каспада, запротэстуем! – апеллирует он к толпе, размахивая вокруг головы руками, словно ветряная мельница.
Предложение не находит отзвука.
– И какая же это сволочь призвала эту чухонскую мразь в Россию! – срывается только единственный протест с языка моего соседа, новоявленного Вальтера Голяка.
Солдаты кайзера с презрением прошли мимо него: у будущего «астраханца» не оказалось и шашки, которую он утратил в том же славном бою, в воротах Эрзерума.
У меня в кармане лежал крошечный браунинг, имевший свою небольшую историю. В 1915 году, в г. Карее, из него застрелилась молоденькая сестра милосердия. Военный следователь, произведя следствие и не найдя никаких признаков чьей-либо виновности в трагической смерти девушки, направил дело на прекращение, приложив браунинг в качестве вещественного доказательства. Дело прекратили. У покойной не нашлось родственников, которым можно было бы передать револьвер, и он пролежал в прокуратуре до 1918 года. При расформировании суда я был назначен председателем комиссии по сортировке и рассылке вещественных доказательств. За неимением у меня револьвера я взял эту смертоносную, бесхозяйную крошку себе.
– Zeigen sie, bitte, ihre Waffen,[9]9
Покажите, пожалуйста, ваше оружие.
[Закрыть] – просопел толстомордый немец, уставив в меня свои бесцветные глаза.
Я запустил руку в карман кителя и готов был вынуть стальное бебе, как вдруг раздался громкий окрик лейтенанта:
– Da befinden sich die Flinten.[10]10
Тут находятся винтовки.
[Закрыть]
Вихман стоял перед громадными сундуками полковника и молотил по ним своим стэком.
Солдаты, оставив меня в покое, бросились к начальнику.
Старик, перепуганный до смерти, силился заслонить от немцев свое добро.
– Я… я отставной, – жалобно лепетал он. – Еду в Ростов, чтобы купить себе, например, шубу на зиму, а не воевать… Боже упаси меня на склоне лет заниматься этакой глупостью… Я совсем статский человек.
Лейтенант, не обращая внимания на вопли старика, приказал солдатам вскрыть сундуки. Те хотели было уже ломать крышки, как полковник дрожащими руками вынул откуда-то из-за пазухи ключи и обнажил свое богатство перед изумленными зрителями. Один сундук был сплошь набит кардонками с парфюмерией, другой – бязью и сукнами. Раскрыли корзины – там всевозможные предметы роскоши, какие за бесценок сбывались в Тифлисе русскими. Среди груды безделушек белело громадное страусовое яйцо в серебряной оправе.
– Der Kaufmann?[11]11
Купец.
[Закрыть] – спросил лейтенант, всматриваясь в полковника.
Переводчик повторил вопрос по-русски.
– Что вы, что вы! Тридцать лет служил вере, царю и отечеству и ни разу не посрамил чести мундира этаким делом.
– Зачем же все это везете? У вас целый магазин.
– Видит господь бог, каюсь: думал в Ростове или на Кубани променять все это на хлеб. Семья у меня, что батальон… Внуки, племянники… Все голодают в Тифлисе.
– Спекулянт! – презрительно процедил сквозь зубы нищий подпоручик.
Презрительно махнул рукой и лейтенант.
Солдаты отошли от старика, который с необычной для его лет живостью начал перевязывать веревками свой багаж.
Я за время этой истории успел таки спрятать за голенище сапога свой миниатюрный браунинг.
Когда обезоружение кончилось, нас, офицеров, – всего набралось душ полтораста, – вывели под конвоем на пристань.
– Ein, zwei, drei… Пересчитали. Затем усадили в катера.
– Бабушка! Погадай-ка, куда нас везут? – крикнул толкавшейся на пристани нищенке «некто в белом». Так: за время пути зубоскалы прозвали одного прапора, который днем ходил в нижней рубахе, ночью – в светлой офицерской шинели.
Старуха грустно покачала головой.
– Ох, голубчики родненькие! Онодысь тоже вот этак партию увезли… Сказывают, всех застрелили супостаты. Не без того, как на расстрел вас везут.
Для усиления впечатления бабка начала вытирать слезы со своих красных глаз. Однако ни ее словам, ни ее слезам никто не верил.
– Что за чушь! За что нас на расстрел? Кажется, пока мы ничего не сделали худого немцам. И что значит вся эта глупай история?
В городе нас выстроили в две шеренги, повернули направо и повели в комендатуру. Человек шесть или семь солдат конвоировали внезапных пленников.
Из среды конвоиров выделялся один, с круглым кошачьим лицом и длинными усами. Это был поляк. Он то и дело покрикивал на офицеров без всякого повода, ругался на ломаном русском и на ломаном же немецком языках, а однажды даже замахнулся прикладом на нашего судейского генерала Забелло.
Полячок точно радовался случаю, когда он мог безнаказанно глумиться над русскими.
– Ты такой же славянин, как и мы, – сказал я ему по-немецки, – а поступаешь с нами гораздо хуже, чем немцы, общие враги славянства.
Гоноровый пан несколько утихомирился. Разумеется, не от того, что я пристыдил его за хамское обращение с беззащитными братьями по крови, а из опасения, как бы я, зная по-немецки, не пожаловался его начальству.
В комендатуре нас продержали добрых два часа, а то и более. Потом опять водворили на пароход и оставили там на ночь, воспретив выходить даже на пристань. Три часовых заняли посты у сходней. Поляк опять стоял тут. Не чувствуя низости своего начальства, он опять хамил и даже нацеливался в тех, кто свешивался за борт. – Ну и мерзавец! – возмущались пленники. – Уж пусть бы безобразничали немцы, было бы не так досадно: дрались с нами, наши враги. А этот ведь поляк! Брат по крови! Эх ты, растуды тебя славянская идея, – стоило ли сражаться во имя твое.
Утром снова мытарство через керченскую бухту в комендатуру. На этот раз все выяснилось.
Весь сыр-бор загорелся из-за «астраханцев». Узнав от капитана, что на пароходе имеется худо ли, хорошо ли организованная офицерская группа, немцы всполошились. Они боялись добровольцев, которые уже хозяйничали по ту сторону залива. Название «Астраханская армия», в которую ехала организованная группа, для керченских немецких властей пока еще не говорило ничего, так как они не совсем хорошо знали затеи Краснова и своего высшего командования.
Снеслись по радио с Киевом, с Тифлисом и, быть-может, с Новочеркасском, узнали, что за Астраханская армия, после чего разрешили всем следовать дальше. Оружия, однако, не вернули. Не вернули к себе и нашего доброго расположения, о чем немцы, наверно, мало сожалели. Беспричинный арест, унизительные прогулки по городу под конвоем, придирки поляка, наряженного в прусскую фуражку, – все это оставило после себя скверный осадок.
– Готовят мстителей! – злобствовал нищий вояка.
Богатый отставной полковник, напротив, призывал на их головы благословение, довольный, что они не реквизировали его товара.
Мы продолжали путь.
В Бердянске новая немецкая штука. С каждого пассажира потребовали по 50 копеек за разрешение сойти на берег за покупкой провизии.
А в Мариуполе, когда пароход уже поднял сходни, какая-то баба истерично вопила по нашему адресу и грозила кулаками с пустынной пристани:
– Поганое офицерьё! Сичас ваша взяла, но думаете надолго? Скоро конец вашему царству, кровопийцы… В море вас всех перетопим, ироды иродовские, анафемы анафемские.
Под аккомпанемент этого сквернословия, извергаемого Фурией, мы направились к Таганрогу.
III
СТОЛИЦА ВОЛЬНОЙ КУБАНИ
В Екатеринодаре, в столице, рожденной после февральской революции Вольной Кубани, кипела жизнь как никогда.
Полтора месяца тому назад Добровольческая армия очистила город от большевистских войск и сделала его своим временным центром.
Притиснутые к стенке в период полугодового властвования большевиков, сытые буржуазные слои населения снова начинали расцветать в лучах блеснувшего для них старого режима. Равным образом, весь громадный тыл маленькой армии Деникина, соскучившийся по городской жизни в период скитания по задонским степям и теперь обосновавшийся в жизнерадостном городе, спешил вознаградить себя с лихвою за старое, за новое, за три года вперед.
Бесчисленные обломки старого режима, – генералы, гвардейские офицеры, всевозможные администраторы, – выражаясь древне-русским языком, всяких чинов люди, – хлынули сюда волной из Закавказья, гетманской Украины и других мест, проведав, что тут может быть пожива. Территория деникинского государства пока еще ограничивалась частью Кубани (в южной ее половине еще хозяйничали большевики) и крошечной
Черноморской губернией, тоже не в полном объеме. Но всякий «бывший человек» рассчитывал здесь на то же благополучие, какое имел в старой России.
Когда я прибыл в Екатеринодар в середине сентября,[12]12
Везде в этой книге автор придерживается старого стиля, который применялся на юге России при белых.
[Закрыть] меня просто ошарашила здешняя политическая атмосфера, особенно после Закавказья.
В меньшевистской Грузии, где жизнь хотя и напоминала сплошной карнавал, где царила самая разнузданная спекуляция и где торгаши купались как сыр в масле, слово «свобода» все-таки склонялось во всех падежах и носилось, как дух божий, над бездной. В Тифлисе глаз присмотрелся и к красным флагам, и к портретам Маркса, с которыми оборванные, голодные грузинские добровольцы и милиционеры беспрерывно манифестировали, в сопровождении разнаряженных буржуазных зевак, мимо шумных ресторанов и роскошных магазинов. Там лились красивые речи с балконов, с автомобилей, с тумб, и разные Чхенкели, Гегечкори, Жордании упивались до самозабвения пышными фразами о счастии человечества под знаменем меньшевизма.
– Батюшки! Кого я вижу… Добрый день, товарищ Хейфец! – радостно закричал я, увидя на Екатерининской улице, недалеко от вокзала, своего закавказского знакомого.
Этот Хейфец, служащий одного из лазаретов Красного Креста, в 1917 году занимал пост председателя Совета рабочих и солдатских депутатов в г. Эрзеруме.
– Тсс… что вы, что вы… здесь ведь не Турция… Разве можно здесь говорить «товарищ»? Тут за этакое слово в расход выведут. Вы только что приехали сюда, что ли?
– Только что.
– Ну, так держите язык за зубами насчет того, что происходило в Эрзеруме. Тут не только мне всыплют, но и вас по головке не погладят за то, что вы, прокурор, работали в полном согласии с нами.
– Да что, разве здесь развилось такое черносотенство?
– Не приведи бог. Поживете – увидите. Все старье, вся заваль и гниль, все обиженные революцией, все выгнанные со службы еще при Керенском, тучами налетают сюда и приносят самую ярую ненависть даже к порядкам временного правительства.
– А это что за странные субъекты по той стороне улицы? Как-будто офицеры, но с какими-то двухцветными погонами и ужасающими нашивками на рукаве?
– Это корниловцы. Так сказать, Добровольческая гвардия. Половина погона у них красная. Означает, что, мол, мы – борцы за свободу. Другая половина черная. Это, видите ли, траур по свободе, загубленной большевиками. Красная шапка, надо понимать, символизирует конечную победу свободы. Так установил покойный Корнилов еще в 1917 году. Теперь же о свободе здесь не рекомендуется заикаться.
Над городской комендатурой развевался трехцветный флаг.
– Если вы, г. полковник, приехали поступать в армию, то извольте немедленно отправиться к дежурному генералу, – заявил мне комендантский адъютант, тоже в какой-то экзотической форме.
– Я пока никуда поступать не собираюсь.
– Дело ваше. В таком случае через десять дней извольте покинуть пределы, занимаемые Добровольческой армией.
– Но если я поступлю на частную службу или по ведомству просвещения?
– Главнокомандующий отдал приказ о мобилизации решительно всех офицеров.
– Позвольте, армия называется Добровольческой. По логике вещей она должна комплектоваться теми, кто добровольно поступает в нее.
– Вы – офицер и обязаны исполнить долг перед родиной, – довольно резко возразил мне поручик.
Я вышел на главную улицу, название которой за пять последних лет менялось трижды. До 1913 года она называлась Красной, но после 300-летнего юбилея Дома Романовых отцы города переименовали ее в Романовский проспект. В период революции, разумеется, ей возвратили прежнее крамольное имя.
На Красной – толпы офицерства, всех родов оружия, всех полков и всех чинов. Одни в новенькой, с иголочки, форме; они блистают, как мотыльки, на осеннем солнышке. Другие – резкий контраст. В рваных рубахах и неуклюжих интендантских сапогах с разинутыми пастями на носках.
Вся эта орава, покамест безработная, гудит, волнуется, делится рассказами о своем недавнем прошлом. Больше же всего публику беспокоит вопрос, где бы голову преклонить на ночь. Город безнадежно забит приезжим людом. Армянские беженцы, вывезенные, кажется, из Трапезунда, расположились табором возле своей церкви.
По временам в офицерских группах, которые то лавиной катятся по улице, то останавливаются где-нибудь на перекрестке, слышны довольно оригинальные разговоры.
– Вот в Астраханской платят, так платят!
– Где? Где?
– В Астраханской. Там ротный получает триста рублей.
– Но ведь она, говорят, с немецкой ориентацией…
– Господа, послушайте новость: только что вышел приказ об упразднении в Добровольческой армии под-полковничьего чина. Будет, как раньше в гвардии. Шутка ли: теперь из капитанов можно прямо махнуть в полковники.
– Так как, Женя, махнем в Астраханскую?
– Повременим. Здесь можно спекульнуть на чине. Я ведь капитан.
Патриотический порыв редко звучал среди этих практических рассуждений. Массы офицерства, не разбираясь, для чего генералы затеяли гражданскую войну, смотрели на нее как на продолжение мировой, настоящих целей и причин которой они тоже не понимали, но от которой, худо ли, хорошо ли, но кормились.
Эта безыдейность рельефнее всего сказывалась в стремлении каждого занять тыловую должность. Термин «ловчить», т. е. всеми правдами и неправдами избегать отправки на фронт, выработался в период бессмысленной мировой бойни. Теперь и здесь «ловчили» по инерции.
Только офицеры-аристократы или дети помещиков и капиталистов хорошо понимали истинную сущность гражданской войны. Под видом спасения «святой, великой России» шла борьба за их привилегии, за их земли, банки, фабрики, за их вишневые сады и многоэтажные дома. Но этот убежденный, идейный элемент давно уже привык к тому, чтобы в борьбе за его благополучие подставляла свои бока под вражеские удары голытьба, и считал себя вправе занимать должности только в штабах, комендатурах, в административных учреждениях, – словом, в безопасном тылу.
В общем, в Екатеринодаре никто из пришлого люда не рвался на фронт, к великому ужасу матерых добровольцев, уже понюхавших пороха гражданской войны.
Основание Добровольческой армии положил бывший верховный главнокомандующий генерал М. В. Алексеев. После Октябрьской революции он прибыл на Дон и 2 ноября выпустил свое воззвание к офицерству о необходимости войны с большевиками. 19 ноября на Дон прибыл бежавший из Быхова ген. Корнилов, которого донские «демократические» власти сначала встретили не особенно любезно.
– Добро пожаловать, – приветствовал его атаман Каледин, – …на два дня проездом.[13]13
«Поход Корнилова», А. А. Суворин-Порошин. г. Ростов, 1919 г.
[Закрыть]
Тогдашние руководители донского казачества, сами не признававшие Октябрьского переворота, все-таки боялись запятнать себя союзом с одиозным генералом.
Однако общая опасность большевизма сблизила Корнилова и Каледина. Началось формирование Добровольческой армии. Дело шло туго. Никому более не хотелось воевать.
В Ростов набежало до 16 тысяч одних только офицеров, но из них в армию записалось сначала лишь 200–300 человек, да и те избегали боевой работы.
– Записи есть, бойцов нет! – говорил Корнилов.[14]14
Там же.
[Закрыть] Охотнее «доброволились» юнкера, кадеты, гимназисты, студенты, все, в ком бурлила молодая кровь и чья кипучая энергия искала выхода в какой-нибудь авантюре.
Навербовав в Ростове тысячи три разного сброда, Корнилов и Алексеев предполагали было отсюда начать «освобождение России от красной нечисти». Обстоятельства сложились так, что 10 февраля им самим пришлось освободить от своего присутствия Ростов и удалиться со своим отрядом в задонские степи.
О завоевании России не приходилось думать. У добровольческих вождей одно время даже возникала мысль пробиться вдоль берега Каспийского моря в Персию. Но ее откинули, надеясь, что отрезвится от большевистского угара казачество.
Ожидая всеобщего восстания кубанцев, Корнилов провел своих добровольцев до Екатеринодара, штурмовал город, но неудачно, при чем и сам погиб во время боя. Остатки его сброда, под начальством Деникина, бежали обратно в задонские степи.
Этот набег на Кубань был окрещен «Ледяным походом» и описан A.A. Сувориным, таскавшимся в корниловском обозе, подобно куче других отребьев старого режима.
Весеннее восстание донцов и помощь, оказанная им немцами, спасли Добровольческую армию от неминуемой гибели. Дон сорганизовался под главенством Краснова в самостийное государство. Добровольцы, сидя за его спиной, отогрелись, отдохнули, подкрепились бродячими шайками партизан и летом совершили второй набег на Екатеринодар, на этот раз весьма удачный. Отрезанные от центра, благодаря восстанию донцов, красные войска, хотя и многочисленные, но дезорганизованные, без опытных командиров и руководителей, отступили к югу, ближе к Тереку.
В тот момент, когда я прибыл в столицу Кубани, Добровольческая армия упивалась своим блестящим успехом, который омрачали только козни кубанских самостийников.
Пробудившийся, в период временного правительства, казачий сепаратизм на Кубани вылился в более острую форму, чем в других местах, благодаря тому, что значительная часть кубанского казачества – малороссы. Когда в начале 1918 года волна большевизма захлестнула и Екатеринодар, кубанский атаман Филимонов, войсковое правительство во главе с эс-эром Л. Л. Бычем и правительственный отряд казаков и горцев под командой Покровского удалились из города. Вскоре эта бродячая кубанская государственность встретилась с отрядом Корнилова. 17 марта в станице Ново-Димитриевской под грохот орудий состоялось совещание кубанских и добровольческих вождей, после чего отряд Покровского влился в армию Корнилова.
Вот содержание документа, который был подписан в Ново-Димитриевской и который породил весьма сложные взаимоотношения между Кубанью и Добровольческой армией:
1. В виду прибытия Добровольческой армии в Кубанскую область и осуществления ею тех же задач, которые поставлены кубанским правительством отряду, для объединения всех сил и средств, признается необходимым переход кубанского правительственного отряда в полное подчинение генерала Корнилова, которому предоставляется право реорганизовать отряд, как это будет признано необходимым.
2. Законодательная Рада, войсковое правительство и войсковой атаман продолжают свою деятельность, всемерно содействуя военным мероприятиям командующего армией.
3. Командующий войсками Кубанского края с его начальником штаба отзываются в состав правительства для дальнейшего формирования постоянной Кубанской армии.
В минуту смертельной опасности кубанские политики вручили свою реальную силу добровольческим генералам, т. е. кастрировали себя бесповоротно. После соглашения в Ново-Димитриевской они уныло поплелись в обозе Добровольческой армии. Когда же последняя, спустя полгода, заняла, наконец, Екатеринодар, Рада и правительство въехали в свою столицу скорее в качестве трофеев Деникина, нежели в роли победителей.
Но им хотелось царствовать, устраивать свою казачью государственность, даже не взирая на то, что территория Вольной Кубани сейчас совпадала с территорией Добровольческой армии и что их войско попрежнему подчинялось Деникину. На дипломатическом языке такое соотношение двух политических организаций называлось союзом; на деле получилась конкуренция и свалка.
На знамени Добровольческой армии, в пику домогательствам окраин, красовался лозунг:
– Единая, великая, неделимая.
Кубанские казачьи политики добивались, самое минимальное, широчайшей автономии для своих областей.
В Доброволии, не взирая на показной либерализм Корнилова, с самого начала, даже среди бойцов, стало преобладать сугубо черносотенное направление.
Казакоманы, по большей части, были порождение керенщины.
Добровольцы, воспитанные во время двух походов в чудовищной ненависти к большевикам, по инерции ненавидели и «полубольшевиков», к числу которых они относили всех либерально мыслящих людей, в том числе и казачьих политиков. Последние же, как пародия на эс-эров и меньшевиков, были соглашателями по натуре, готовыми соглашаться даже и с Советской властью, если бы она обещала им княжить и володеть в своем казачьем государстве.
– Священная война против большевиков до победы! – кричали добровольцы-фронтовики.
Тыловые герои Добровольческой армии, совершившие оба похода в обозе, отличались еще большим воинственным пылом и прямо-таки зоологической ненавистью к большевикам.
Пришельцы, особенно из Закавказья, с удивлением слушали непонятные им рассказы «первопоходников» о той кровожадной жестокости, с которой армия Корнилова сражалась против красных войск.
– «По безобразной толпе большевистской сволочи… Прицел такой-то… Рота, пли!» Иначе мы, ротные, и не командовали в походе, – с нездоровым сладострастием похвалялся мне один, уже не молодой, образованный офицер, однако совсем потерявший свою индивидуальность среди этого опьяненного кровью люда.
Из уст в уста перекочевывали рассказы о подвигах во время Ледяного похода одной из многочисленных женщин-амазонок, баронессы Бодэ, которая собственноручно приканчивала решительно всех пленных красногвардейцев.
Бросалась пришельцам в глаза и другая особенность добровольцев, еще более резкая, так как задевала самолюбие новичков. Прославляемые выше меры прессою участники кубанских походов, особенно первого, уже считали себя спасителями отечества. Хотя красный медведь даже и на Кубани еще далеко не был затравлен, но эти господа уже претендовали на лучшие куски его шкуры. Наплыв пришельцев, особенно старых спецов, обескураживал их. Каждый боялся, что кто-либо из новичков, но более опытный служака, займет его место.
Больше всего дрожали за свое положение должностные лица военно-административной службы. В корниловской армии, пока она одиноко блуждала по степям, назначение на должности происходило чисто случайно. Познания, опыт, тем более нравственные качества не играли никакой роли. Надо было заткнуть дыру, и в нее совали первого попавшегося. Студент-недоучка делался старшим врачом, прапорщик из околоточных – военным следователем.
Теперь, с наплывом людей, было из кого выбирать. Поэтому добровольцы-тыловики не очень-то мило встречали новичков.
Ведь могут отбить должность. Конкуренты!
– Бог вас знает, где вы были, пока мы тут создавали русское государство! Может, вы в это время у большевиков служили, а теперь подавай вам места. Дудочки!
Так нарождался «добровольческий сепаратизм», наделавший впоследствии не мало вреда белому стану.








