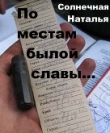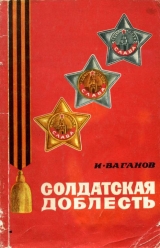
Текст книги "Солдатская доблесть"
Автор книги: Иван Ваганов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
ГВАРДИИ РЯДОВОЙ
Посохин Михаил Игнатьевич
В Магнитогорске на улице Тимирязева, 4 живет Михаил Игнатьевич Посохин, скромный, замечательный человек. Он молчалив, рассказывать о себе не любит.
– Я же солдат. Честно выполнял свой долг. Вот и все мои подвиги, – тихо говорит он.
Возможно в эту минуту вспомнил он годы, проведенные под вражеским огнем, затяжные оборонные бои, вылазки в немецкий тыл, холмики свежих могил, скупую солдатскую слезу.
…Однажды в буранный февральский день 1944 года командир роты вызвал саперов Михаила Посохина и Федора Ефремова.
– Вот что, дорогие друзья. Проход надо в минном поле проделать. Давайте к карте. Вот здесь по данным разведки командный пункт батальона, а возможно, и полка. Ваша задача – проникнуть на передний край противника, изучить систему обороны и прихватить «языка». Дело очень серьезное, но командование дивизии на вас надеется. Пойдете с опытным следопытом сержантом Кутейкиным из разведроты.
Целый день Посохин, Ефремов и Кутейкин просидели в специально оборудованном блиндаже, просматривали в стереотрубу передний край противника и ближние тылы.
«Разумеется, – думал Михаил Игнатьевич, – командир или начальник штаба день и ночь не сидят на КП. Но телефонист, радист, наблюдатель и дежурный офицер там всегда. Обязательно охрана есть. А нас всего трое. Пожалуй, на КП нападать нет смысла. Не лучше ли прорезать проход, спуститься к балочке, просмотреть хорошенько передовую, замаскироваться и выжидать. Пойдут тропкой один или два немца, тут им и кляп в рот».
Было, примерно, часа два ночи, когда Посохин откинул в сторону последнюю нитку колючей проволоки. Разведчики осторожно миновали оставленные немцами на ночь траншеи, проползли подле дзота, полежали у пулеметной ячейки. До КП оставалось не больше двухсот метров. Надо подползти к тропке, замаскироваться и ждать, ждать терпеливо, спокойно. А потом – взять «языка». Михаил не первый раз за ним охотится.
Вот и кусты тальника. Впереди тропка. Не успели замаскироваться, послышалось поскрипывание снега. Шли двое. Минута-две и – стремительный бросок. Михаил Посохин и Федор Ефремов сбили с ног немца и в один миг скрутили его. Кутейкин связал второго.
Спустя час Посохин доложил ротному о выполнении боевого приказа. Начальник дивизионной разведки приступил к допросу. Один из пленных оказался батальонным писарем, он шел на передовую с пачкой писем, приказом командира полка о разведке ближних и дальних тылов нашей армии. Он отказался назвать свою фамилию, номер части. Пытался уничтожить приказ командира полка и солдатские письма. Но Михаил мгновенно выхватил их из печки. Не так вел себя другой немец. Он то и дело вскакивал, вытягивался перед капитаном и бормотал:
– Мы арбайтен, Гитлер капут, война не карош.
На рассвете пленных отправили в штаб дивизии.
За расчистку проходов в минном поле и проволочных заграждениях врага, написано в наградном листе, за героизм и отвагу при захвате пленных солдат Посохин был награжден орденом Славы 3-й степени. Орден Славы 3-й степени получил и Федор Ефремов.
* * *
Понуря головы, медленно брели на восток пленные немцы. Мимо них на запад нескончаемым потоком шли советские дивизии. В рядах победоносной армии шагал простой советский человек солдат Михаил Посохин. Он резал проволочные заграждения, обезвреживал мины, делал проходы танкам и пехоте в минных полях противника, наводил переправы, строил мосты.
Перед Варшавой стремительное движение наших дивизий задержалось. Мощный огонь противника прижал к земле советскую пехоту. Минеры и разведчики получили задачу – изучить вражеские укрепления, сделать проходы в минных полях, взорвать доты и дзоты, навести наши пушки на вражеские огневые точки, пропустить вперед танки и пехоту.
Михаил Посохин и Федор Ефремов, два неразлучных друга, впереди. Под непрерывным огнем противника они проложили путь через минное поле, взорвали дот, забросали гранатами пулеметную точку, открывшую огонь по штурмовой роте, и вместе с пехотинцами ворвались в Варшаву.
Здесь на польской земле командир полка приколол на грудь саперу Посохину орден Славы 2-й степени. Орденом Славы 2-й степени был награжден и солдат Ефремов.
Весной 1945 года на подступах к Одеру разгорелись жаркие схватки. Гитлеровское командование, не считаясь с потерями, бросило в бой последние резервы. Противнику удалось потеснить наши полки и не дать им возможность переправиться на левый берег реки.
Несколько суток день и ночь не смолкала артиллерийская канонада. Под прикрытием огня саперам приказали навести переправу через Одер и обеспечить переброску наших батальонов на противоположный берег реки. Всю ночь работали саперы, а на рассвете рядовой Посохин переправил на левый берег реки взвод автоматчиков и вместе с ним ворвался во вражеские траншеи. Девять яростных атак отбили автоматчики. Девять раз сапер Посохин, действуя прикладом автомата и гранатами, выгонял фашистов из ходов сообщения.
За обеспечение переправы через Одер и поддержание десантников огнем из автомата рядовой Посохин был награжден орденом Славы 1-й степени.
СОЛДАТ ОСТАЕТСЯ СОЛДАТОМ
Сыпачев Василий Капитонович
1
Прошло несколько месяцев со дня начала Отечественной войны. Рабочий паровозного депо Карабашского медеплавильного завода Василий Капитонович Сыпачев получил извещение о гибели своего старшего брата Александра. В тот же день Василий Капитонович положил на стол военкома извещение о гибели брата.
– Хочу его заменить, товарищ майор. Посылайте на фронт.
Быстро пролетели три месяца учебы в школе младших командиров. Машинист паровоза Василий Сыпачев стал механиком-водителем грозного танка «Т-34».
Полк, куда попал Сыпачев, стоял в полуразрушенной деревеньке неподалеку от шоссе, что бежит от Ельца в Курск. Танкисты готовили машины к предстоящим боям. Василий Капитонович не слышал, как к нему подошли однополчане.
– Получай из Карабаша весточку, – сказал Алексей Дрозденко и протянул Василию письмо.
Жена сообщала о том, что погиб смертью храбрых его младший брат Яков. «Ну, погодите! – Василий смахнул скупую солдатскую слезу. – За братьев я с вас спрошу!».
Вскоре полк вступил в бой. В жестоких боях под Курском механик-водитель Сыпачев закалил волю, приобрел опыт, овладел военным мастерством, стал командиром танка.
Как-то на подступах к Львову командиры танков Василий Сыпачев и Алексей Дрозденко получили приказ: разведать силы врага у железнодорожной станции.
Друзья быстро привели в боевое состояние свои экипажи, заправили машины, пополнились боеприпасами. Под покровом темноты танки подошли к одинокому строению, что в 800 метрах от притихшего вокзала, и повели наблюдение.
Медленно рассеивалась утренняя дымка. Василий припал к смотровой щели. Слева от складских помещений показался вражеский бронепоезд. Оставляя за собой черную завесу дыма и набирая скорость, он торопился туда, где по дороге растянулись колонны наших войск.
Василий быстро связался со штабом батальона. Комбат внимательно выслушал его и приказал:
– Бронепоезд уничтожить!
Танки, заняв удобную огневую позицию, приготовились к бою.
– Бронебойным заряжай! Стрелять только по моей команде, – распорядился Василий.
Все ближе и ближе надвигалась стальная громада. Уже ясно виднеется нарисованный на корпусе паровоза орел с желтой свастикой в когтях.
– Огонь! – прозвучал голос Сыпачева.
Почти одновременно раздались два выстрела. Бронепоезд продолжал двигаться. Навстречу ему прогремели еще выстрелы. Паровоз вздрогнул, пронесся несколько метров и замедлил свой бег. Его орудия и пулеметы открыли по танкам огонь.
Умело маневрируя, Сыпачев вел свои танки на сближение с грозной крепостью, посылая в нее один за другим снаряды. Торопливо стреляли орудия бронепоезда. Вдруг раздался оглушительный взрыв, и стальная громада стала медленно сползать с полотна дороги.
Приказ комбата выполнен. Через несколько минут советские танкисты построили в походную колонну уцелевших гитлеровцев, чтобы отправить в тыл.
За этот подвиг Сыпачев получил орден Славы 3-й степени.
2
Танковая бригада сосредоточилась западнее Львова. Впереди раскинулось поле, вдали село. Командир бригады полковник Соколов подошел к танку Сыпачева.
– Товарищ сержант, надо бы разведать, что делается в селе. Давайте вперед, голубчик. Если все в порядке, радируйте и ждите нас.
– Ясно, товарищ комбриг, – ответил сержант Сыпачев.
Механик-водитель Сергей Черноскулов нажал на рычаги, послушная машина рванулась вперед. Полчаса – и перелески просмотрены. Вот и окраина села, освобожденная от врага. Из ограды крайнего подворья поспешно вышел полковник и засигналил танкистам. Черноскулов остановил танк.
– Ребята, – подбежав к машине, сказал полковник, – выручайте. У меня осталось от полка человек сто и ни одной пушки, а по оврагу гитлеровцы к нам подходят.
Всего одна минута потребовалась Сыпачеву, чтоб выбрать выгодную позицию.
По дну балки, не подозревая опасности, тянулась колонна вражеской пехоты и длинный обоз. Первый снаряд опрокинул две передние повозки. Вторым было отрезано отступление. А тут и полковник с пехотинцами подоспели.
Было взято двести пятьдесят повозок, заполненных военным имуществом. Около четырехсот гитлеровцев сдались в плен.
За эту разведку боем, за товарищескую взаимовыручку и проявленную инициативу Василий Капитонович получил орден Отечественной войны 2-й степени.
…Шел жаркий решающий бой. Вот уже два танка Сыпачева сожгли гитлеровцы, мужественный экипаж на новой машине устремляется в бой. В конце второй недели этого яростного сражения после часовой артподготовки, когда умолкла фашистская передовая, наши танки и пехота пошли в атаку. Гитлеровская передовая тотчас ожила. По брони танка Сыпачева будто многотонным молотом ударили. Броня не поддалась немецкому снаряду, но башня не вращалась, ее заклинило болванкой. Танк лишился возможности вести круговой огонь. Что делать? Покинуть поле боя? Но разве можно бросить товарищей, когда есть мощные гусеницы, пулемет.
Неожиданно на пути оказался «тигр». Вступить в единоборство при заклиненной башне – шансов на выигрыш нет. Отступить? Но ведь при развороте подставишь борт. «Таранить!» – решил Василий и крикнул механику-водителю.
– Сережа, идем на таран!
– Есть! – отозвался механик.
– Сергей, – спокойно приказал Сыпачев, – в лоб не лезь. У «тигра» броня прочная, да и вес больше нашего – погибнем. Бери под углом. Порвем гусеницу, выбьем ведущее колесо, тогда танк встанет.
Расчет старшины Сыпачева был точен. Удар всем корпусом танка был нанесен сверху вниз. Стальная гусеница «тигра» лопнула, ведущее колесо вылетело и грозная немецкая машина встала. А «Т-34» продолжал поливать огнем из пулемета немецкую пехоту.
Ошеломленные дерзостью русских, гитлеровцы попятились. Воспользовавшись растерянностью врага, пошли в атаку пехотинцы. Оборона прорвана. Более батальона немецких солдат и офицеров подняли руки. Взят в плен и экипаж «тигра». Немецкий капитан попросил показать ему советского танкиста, таранившего такую мощную машину.
Прошло несколько минут и перед фашистским капитаном, на груди которого красовался железный крест, остановился плечистый, приземистый старшина.
– Таран нет правил делать. Это не есть военное искусство, – сказал немец.
– А детей убивать, жечь наши села, города, угонять людей в рабство – искусство? – с гневом спросил старшина.
Гитлеровец молчал.
Орден Славы 2-й степени Василий Капитонович получил в Германии в городе Гинденбурге.
Ведя жаркие уличные бои, гитлеровцы цеплялись за каждую квартиру, подъезд, дом, улицу. Советские воины шаг за шагом продвигались вперед. И вдруг на окраине города появилось два бронепоезда. Попав под огонь вражеских пушек, советские солдаты отступили. В эту критическую минуту боя командир танкового батальона выдвинул навстречу врагу четыре танка.
…– С тех пор прошло много лет, – вспоминает Василий Капитонович. – Кое-что стало забываться. А этот бой на всю жизнь в памяти остался. Закрою глаза, и вот они – чистенькие прямые улочки Гинденбурга, сплошное море огня, несмолкаемый грохот пушек, центральная площадь города и четыре наших танка. Задача у нас нелегкая – уничтожить два бронепоезда. Решаем разделиться и взять их в клещи. Мой танк шел по центральной улице, прямо на станцию. Справа от меня – экипаж тагильчанина Николая Бедностина, слева – машина свердловчанина Алексея Дрозденко. А кто меня прикрывал, не помню, кажется, сибиряк Ончугов.
Веду я машину по улице, навстречу «тигр». Подожгли его и вперед: по раскатам орудийного грома предположили, что Бедностин уже вырвался на окраину города и открыл огонь по бронепоезду. Действительно, отстреливаясь, бронепоезд пятился к вокзалу. Тут я его двумя подкалиберными и прошил. Со вторым бронепоездом Дрозденко расправился.
– Да, – вздохнул Василий Капитонович, – вспомнишь и не верится, что это дело твоих солдатских рук.
Не сдает боевых позиций коммунист-солдат Сыпачев и сегодня. 21 его рационализаторское предложение внедрено на производстве. Большую экономию дали они заводу. Член бригады коммунистического труда, Василий Капитонович Сыпачев не раз награждался грамотами за отличный труд.
НЕСТРОЕВОЙ
Шлыков Виктор Филиппович
1
В военном билете Виктора Шлыкова, паренька из уральского села Большое Гусино, записали: «Годен к нестроевой».
– К нестроевой?! – возмутился Виктор. – Я что, винтовку в руках не могу держать или в походе раскисну? Да я по пятьдесят километров без отдыха отмахивал. Товарищ военком, зачислите меня в строевые, – доказывал он майору.
– Не могу, – твердо ответил тот. Вскоре Виктор Шлыков оказался в городе Миассе на автомобильном заводе. Но мысль о фронте не покидала его. Вот почему одним из первых он подал заявление о зачислении в Уральский добровольческий танковый корпус.
Шинель, гимнастерка с петлицами артиллериста и ушанка так ладно пришлись Виктору, что в цехе всем показалось, будто он ростом-то стал выше, и в плечах раздался. Даже мастер Павел Павлович, который частенько покрикивал на него, крепко пожал его руку и сказал:
– Стало быть, уезжаешь. Крепко держи честь уральского рабочего, бей немцев в хвост и гриву. Гони его проклятого с нашей земли.
– Не подведу, Павел Павлович, – решительно сказал Виктор. – А за рабочую выучку спасибо, многому вы меня научили.
– Ладно, ладно, – старый мастер смахнул набежавшую слезу и прикрикнул на столпившихся рабочих: – Чего вы тут стали! Ну, уезжает парень на фронт, так разве первого провожаем. Попрощались и хватит. Дело не ждет.
Нелегко давалась солдатская наука, с утра до вечера изучали винтовку и автомат, танк и пушку. Ползали по-пластунски, рыли окопы и траншеи, строили блиндажи и землянки, возводили земляные валы и противотанковые рвы, учились стрелять и маскироваться, быстро и четко менять огневую позицию. Даже в трескучие морозы частенько гимнастерка бывала мокрой, но солдаты помнили: тяжело в походе, легко в бою.
Прошло еще три месяца. Виктор Шлыков стал наводчиком. Теперь он знал, что успех боя зависит от того, как четко и умело будет выполнять свою обязанность каждый член расчета. Он помогал командиру орудия сержанту Контыреву добиться этой слаженной работы. Их расчет отличался организованностью и дисциплиной, быстрее всех строил параллельный веер, без промаха бил по мишеням.
2
Орловщина. Сожженные села, обгоревшие столбы, груды золы. Лишь кое-где, вдали от дороги, виднеются уцелевшие хатки, но не клубится над ними легкий дымок, не слышатся крики детворы, не лают лохматые дворняжки. Кажется, все вымерло.
Деревушка, в которой расположился полк, пуста. Только в ограде, заросшей лебедой и полынью, шофер Морковкин отыскал костлявого бездомного кота.
Запомнился и такой случай. Придирчивый и строгий, командир батареи старший лейтенант Кислых стал заботливо укрывать волглой землей оголенные корни яблоньки. А когда корни оказались надежно укутаны, он ласково улыбнулся, встал и, нежно погладив яблоньку, степенной походкой рачительного хозяина зашагал на окраину деревеньки.
Во многих селах и городах после этого довелось побывать Виктору. Был он в Берлине и Праге, ходил по улицам Варшавы и Будапешта, но эта маленькая орловская деревенька навсегда врезалась в память.
В сумерках отправились занимать огневые позиции. Минут двадцать с потушенными фарами продвигались по проселочной дороге, затем машины разошлись в разные стороны.
Орудийный расчет Шлыкова обосновался на пригорке. К рассвету вырыли окоп, ровики для расчета, уложили в укрытие снаряды, связались с соседями и протянули к командному пункту телефонный провод. На огневой был полный порядок: нигде не чернела земля, не краснела вынутая из траншей глина – все было умело застлано слоем дерна. Командир взвода лейтенант Хардиков отметил дружную работу расчета.
Солдаты опустились на дно окопа, извлекли из карманов кисеты, скрутили козьи ножки и задымили, но докурить так и не удалось. Справа, у линии наших окопов, взорвался снаряд, потом вздыбил землю второй, просвистел осколками третий. Стреляя на ходу, вражеские танки быстро приближались к нашей передовой. За танками шла пехота, шла во весь рост, уверенная в своей победе.
Шлыков прильнул глазами к панораме. Сделал наводку. Как будто все в порядке, цель взята, точно наведено орудие. Снаряд с воем вылетел из ствола пушки и разорвался в стороне от вражеского танка.
– Мазило! – зло крикнул командир орудия.
Но Виктор уже поправил нечаянно сбитый отражатель панорамы, сделал доводку, выстрелил – и вражеский танк вспыхнул.
И хотя долго шел поединок с вражескими танками, не раз приходилось менять огневую, усталости Виктор не чувствовал. А когда наша пехота поднялась в атаку и к пушке лихо подкатил Морковкин, Виктор, заменив раненого командира орудия, крикнул:
– Вперед!
Виктор Филиппович не подсчитывал, сколько раз потом доводилось вот так же бежать бок о бок с пехотинцами, прорывая вражеские укрепления. Разве запомнишь все атаки и контратаки. Но свой первый фронтовой день, первый экзамен, где испытывалась воля и мужество каждого бойца расчета, сохранил в памяти.
…Давно уже позади та деревенька, на окраине которой произошло боевое крещение Виктора. Пушка Шлыкова крепко вошла в боевые порядки пехоты. В одном из сражений был ранен шофер Морковкин, сгорела автомашина. Расчету пушку далеко не укатить, а без нее артиллеристу – смерть. Пришли на помощь пехотинцы, впряглись в лямки и потянули. Бригада вошла в село, расположенное на крутом берегу реки. Там, за рекой, город Клинцы. Завладеть переправой не удалось: попали под огонь противника.
Вечером разразился ливень. Река почернела, вздулась. «А если под шум дождя и свист ветра переправиться на тот берег?» – подумал Виктор Шлыков.
Своими мыслями он поделился с лейтенантом Хардиковым, тот посоветовался с командиром батареи.
К утру, разобрав амбар, батарейцы соорудили плоты, вкатили на них пушки, боеприпасы и под шум проливного дождя переправились на другой берег За артиллеристами перебрались пехотинцы.
Двадцать одно немецкое орудие, около пятидесяти пулеметов, пятьсот пленных, исправная переправа, освобожденный город Клинцы, – таковы итоги этой смелой переправы.
3
Бригада заняла огневую на подступах к городу Гомелю. Только успели окопаться, как раздался тревожный голос:
– Танки!
От окопа к окопу, от пушки к пушке торопливо пробежала команда:
– По танкам огонь!
Тотчас заухали все пушки дивизиона. Но танки, сверкая вспышками огня, все ползли и ползли вперед. Эвакуирован в тыл тяжелораненый лейтенант Хардиков, унесли в санчасть подносчика снарядов Ершова и заряжающего Приданникова. Из всего орудийного расчета осталось двое: недавно вернувшийся из госпиталя сержант Контырев и Шлыков, но пушка продолжала разить врага. Метко разили захватчиков и остальные пушки дивизиона, и враг не выдержал, отступил.
После этого жаркого боя на груди у Шлыкова появилась первая награда – медаль «За отвагу».
Трудно сказать, какой час, день или бой определили военную специальность Шлыкова. Известно одно, что после боев под Уничем Виктор Филиппович стал истребителем вражеских танков. Впервые «тигра» он увидел под Киевом на окраине Дарницы. Виктор долго ходил вокруг трофейной машины. По старой привычке слесаря ощупывал гусеницы, болты, не раз нырял в откинутый люк. Измерял толщину брони, диаметр пробоины. А вскоре расчету Шлыкова пришлось иметь дело с «тигром».
Шел февраль 1944 года. Дни стояли пасмурные. Хлопьями валил снег, налетал пронзительный ветер. На окраине села Петровка, расположенного западнее Киева, разгорелся тяжелый бой. «Тигры», не замечая пушку Шлыкова, упрятанную в бурьяне, двигались к селу.
– Шлыков, бей в борт, бей! Чего ты медлишь, – закричал старший лейтенант Кислых.
Выстрел. Танк вспыхнул. Потом черным дымом окутался второй. И совсем неожиданно два «тигра», резко развернувшись, понеслись прямо на Шлыкова. Начался неравный поединок. С первого выстрела врага по пушке замертво упали подносчик снарядов Дешовых и ефрейтор Стаценко. Выступила кровь на лбу у Виктора, но он потуже натянул ушанку, стиснул зубы и припал к панораме. Он решил стрелять с самой короткой дистанции, когда удар по танку будет смертельным.
Быстро надвигались стальные чудовища, с каждой секундой нарастал скрежет гусениц. Выстрел раздался неожиданно, «тигр» дрогнул и окутался дымом. Из экипажа никто не сумел выбраться. Остальные машины были подбиты соседними расчетами.
Прошло несколько дней, и вот на подступах к Каменец-Подольску расчету Шлыкова один на один довелось встретиться с тремя «тиграми». Крепко взяли они тогда в клещи его пушку. Но победила выдержка и хладнокровие. Когда на помощь Шлыкову пришли наши танкисты, то на склоне холма они увидели три подбитых танка и двадцать трупов немецких солдат.
За этот бой Виктор Филиппович Шлыков был удостоен ордена Славы 3-й степени.
4
Под Орлом в кустах ракитника подобрал Шлыков ржавый немецкий автомат. Часа два провозился с ним Виктор, и автомат стал как новенький.
Страсть к трофейному оружию у Шлыкова была не случайна. Еще на формировании он часами возился со своим карабином, разбирал, собирал и по нескольку раз в день чистил его. Да и пушка всегда была обласкана его умелыми руками. Не притупилась эта страсть и на фронте. Командир дивизиона не раз, просматривая пушки и личное оружие бойцов, ставил в пример сержанта Шлыкова.
Под Клинцами Виктор подобрал противотанковое ружье и к нему ящик патронов. Все это он приволок в блиндаж, а вскоре рядом с этим богатством встал ручной пулемет.
Однажды командир дивизиона заглянул в расчет Шлыкова и удивился: рядом с пушкой стояли трофейный пулемет, бронебойка и фаустпатроны.
– Что это у вас, огневая или музей трофейного оружия?
– Товарищ капитан, – взмолился заряжающий Лукьянов, – этими штучками мы глаз набиваем, как ловчее немцев разить. Вместо вечерней зарядки патрончиков по десятку выпустим – и на отдых.
– Я вот вам всыплю за расход боеприпасов, – нахмурился командир дивизиона.
– Так ведь мы не из своих автоматов палим, а вот из этих – трофейных, – оправдывался Лукьянов.
– Шлыков! Сейчас же выбрось всю эту дрянь, а то крепко накажу.
Но наказать не пришлось. Шлыковский трофейный арсенал и умение солдат владеть вражеским оружием однажды славно выручили дивизион. Случилось это в Польше. Пушка старшего сержанта Шлыкова стояла на маленьком курганчике, справа окопался расчет Мустафина, слева – взвод лейтенанта Байбакова. В тылу, на пологом берегу Вислы, раскинулась деревенька в триста-четыреста дворов. В одном из домиков разместился штаб пехотного полка, в другом – дивизиона. От штабов тянулись телефонные провода на командные пункты батальонов и к пушкам.
Было тихое солнечное утро. На командном пункте батареи собрались командиры расчетов. У телефона дежурил связист Таратенко. Заместитель командира дивизиона рассказывал о положении на фронтах.
– Товарищ капитан, из штаба сообщают: в селе немцы, – прервал его связист.
В землянку в это время ворвался сержант Мустафин и громко крикнул:
– Справа танки!
– Товарищ Мустафин, а вы их еще не видывали? – спокойно спросил замполит.
– На счету своего расчета десять штук имею.
– А у Шлыкова на пять больше. Попытайтесь сравнять счет.
– Есть сравнять счет, – ответил Мустафин и пулей вылетел из землянки.
Вслед за ним выбежал Шлыков. Вот и курганчик. Расчет в полном сборе. Наводчик Дмитрий Ершов внимательно следит за движением «пантер». Вырываясь из окружения, немецкая дивизия овладела переправой, разбила малочисленный гарнизон, оставленный в селе, и бросила на прорыв советской обороны двадцать «пантер». Заняв свое место, Виктор пристально вглядывался в лесок. Там черными пятнами выделялись немецкие пушки, на опушке копошились пехотинцы, а «пантеры» развернутым строем шли на правый фланг батальона.
– Товарищ старший сержант, не пора ли шлепнуть по головному, – не утерпел наводчик Ершов.
– Не спеши, – с расстановкой ответил Шлыков, облегченно вздохнул, привычно вскинул руку, и расчет пришел в движение. Гулко ухнула пушка, снаряд лопнул под гусеницей. Танк споткнулся, дернулся вперед и, оставив за собой широкую металлическую ленту, остановился.
– Молодец, Дима! – подбодрил наводчика Шлыков.
– Дима, садани вон того, а то прямо на нас прет, – крикнул шофер Николай Ращепков.
Ершов, во всем подражая Шлыкову, не спешил, ждал команды. А Шлыков медлил, он навалился на бруствер ровика и, не отрываясь, следил за танками.
Ращепков продолжал горячиться:
– Димка, всыпь вон тому в лоб, всыпь!
Шлыков рубанул ребром ладони воздух. Второй выстрел был так же точен, как и первый. От танка потянулся в небо густой черный дым.
До полудня кипел жаркий бой. Когда на поле боя зачадила последняя «пантера», у Шлыкова осталось всего десять снарядов. Командир батареи приказал занять круговую оборону. Вот тут-то и пригодился трофейный арсенал Виктора Шлыкова. Виктор и шофер Ращепков легли к станковому пулемету, Таратенко вооружился ручным. Гитлеровцы много раз поднимались в атаку, чтоб раздавить горстку храбрецов, но каждый раз меткие пулеметные очереди прижимали их к земле. Закончился бой так же внезапно, как и начался. Как только на переправе показались наши танки, на опушке леса взвилось белое полотнище.
После этого боя арсенал трофейного оружия Шлыкова значительно пополнился, а на груди у Виктора Филипповича появился орден Славы 2-й степени.
Последний выстрел пушка Шлыкова сделала 7 мая на подступах к Праге. Правительство высоко оценило ратные подвиги артиллериста. Три ордена Славы, два – Отечественной войны, медаль «За отвагу» – заслуженный итог боевых подвигов старшины Виктора Филипповича Шлыкова.