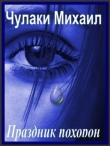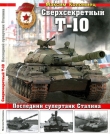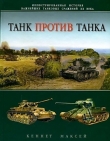Текст книги "Танки оживали вновь"
Автор книги: Иван Голушко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
Был требовательным и принципиальным. Не любил поддакивания. Хвалил за прямоту. Не пропускал даже мелочей и на все недостатки указывал подчиненным. Танкисты на него не обижались. Они знали, что он не только взыскивал, но и заботился о них.
Пожалуй, единственный был у него "недостаток" – он непременно старался быть в самом пекле боя. Так случилось и в тот раз.
В пять часов утра после короткой артподготовки бригада Хрустицкого атаковала врага, прорвала его оборону, устремилась на Волосово. Казалось, вот она, победа. Но противник ввел резервы, нанес удар во фланг бригаде. К этому времени танкисты уже понесли большие потери. Силы оказались неравными. Командир понял: настал критический момент боя. И он принял хотя и рискованное, но оправданное решение – всей бригадой "только вперед!". И сам повел танкистов на врага. Это был ожесточенный бой. Экипаж Хрустицкого, умело маневрируя, подбил несколько танков противника, раздавил противотанковую пушку, уничтожил много гитлеровцев. Сопротивление врага было сломлено. И когда бой, казалось, был уже завершен, машина комбрига загорелась. Один за другим раздались взрывы – в танке рвались боеприпасы...
Так погиб командир бригады гвардии полковник В. В. Хрустицкий. Ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
Тогда же я узнал и о смерти Миши Егорова. В ночь на 20 января 1944 года танки 220-й бригады, преследуя отступающего противника в направлении Русско-Высоцкого, наткнулись на фашистских "тигров". Один из них в упор выстрелил по ближайшему танку – танку, который вел Миша Егоров.
Почти вся бригада хоронила Мишу на братском кладбище в Русско-Высоцком.
До сих пор в моей памяти не тускнеют образы танкистов-героев, и перед глазами встают картины последнего боя полковника В. В. Хрустицкого и кладбищенский холмик Миши Егорова – мальчишки из Сиверской.
* * *
В ходе операции к концу января – началу февраля 1944 года фронт проходил от Ленинграда уже в 100– 150 км. Там находились танки, требующие эвакуации и ремонта. Задача сложная, и по этому поводу состоялось партийное собрание штаба бронетанковых войск фронта. Докладчик генерал В. И. Баранов познакомил коммунистов с общей обстановкой, подчеркнул, что войска Ленинградского фронта уже к концу января в основном выполнили поставленные задачи. Были освобождены города Пушкин, Павловск, Гатчина. Войска Волховского фронта освободили Новгород, Шимск, овладели Тосно. Теперь можно было говорить о том, что блокада Ленинграда полностью снята. Создавались благоприятные условия для разгрома 18-й армии фашистов. Наступление же Советской Армии на Правобережной Украине не позволяло врагу перебросить дополнительные силы с юга под Ленинград и Новгород.
Но противник продолжает яростно сопротивляться, и город Луга находится пока в руках немецко-фашистских захватчиков. Чувствовалось, что ему удалось создать в этом районе сильную группировку (как потом выяснилось, группировка состояла из 16 пехотных и танковой дивизий). Он рассчитывает задержать дальнейшее наступление войск Ленинградского фронта, сохранить за собой шоссе и железную дорогу Луга – Псков и отвести остатки разгромленных соединений 18-й армии на основной тыловой рубеж в районе Пскова и Острова.
Обстановка на фронте диктовала и наши конкретные задачи, изложенные командующим бронетанковыми и механизированными войсками фронта.
Коммунисты в своих выступлениях показали полное понимание обстановки и внесли ряд конкретных предложений, направленных на успешное выполнение поставленных задач. Так, учитывая большой размах операции и ограниченное количество ремонтно-эвакуационных средств, коммунисты предложили освобожденную от противника территорию, где действовали танкисты, разделить на полосы (зоны), за которыми закрепить определенные ремонтные базы, а также офицеров штаба. Высказывались и другие практические предложения по эвакуации поврежденных танков, их ремонту и доставке в части.
После собрания был составлен специальный план, распределены силы, и началась упорная, напряженная работа.
После того как Волховский фронт успешно провел Новгородскую операцию, а войска Ленинградского и Волховского фронтов овладели Лугой, командование нашего фронта ориентировало генерала В. И. Баранова о возможной передаче некоторых танковых соединений и частей Волховского фронта в состав Ленинградского. И как только дорога Ленинград – Новгород стала свободной, для решения этого вопроса в штаб бронетанковых и механизированных войск Волховского фронта выехал заместитель командующего бронетанковыми и механизированными войсками Ленинградского фронта теперь уже генерал-майор инженерно-технической службы Н. Н. Шестаков.
Путь хоть и не дальний, около 200 км, но готовились к нему основательно. В тот год зима была снежной. На дорогах часто случались заносы. Да и автомобиль наш М-1 был уже старенький. Так что запаслись горючим, деталями. С большим трудом лишь к вечеру следующего дня мы добрались до штаба генерал-майора танковых войск И. В. Кононова – командующего бронетанковыми и механизированными войсками Волховского фронта. Нас уже ожидали. Оказывается, даже навстречу выслали автомашину, но где-то мы с ней разминулись.
Трудная была дорога, но запомнилась она по иной причине. Тяжелые впечатления производили разрушения, которые остались после изгнания гитлеровских захватчиков из этих районов. Непокоренная врагом Ижора была сожжена чуть ли не полностью. Людей почти не видно. Только кое-где из землянок да редких изб поднимались столбики дыма – значит, жизнь начинается, несмотря пи на что. Та же картина при въезде в Новгород. Город казался вымершим. С трудом выбрались мы через развалины к реке Волхов, переправились на другой берег и вскоре нашли штаб генерала И. В. Кононова, который размещался в сборных полукруглых, чем-то напоминающих юрты деревянных домиках.
Очень подвижный, приветливый, небольшого роста и чуть-чуть полнеющий, с открытым взглядом веселых глаз, с располагающей к себе улыбкой, генерал встретил нас очень радушно. Пригласил перекусить. За ужином наметился и примерный план нашей работы, который был уточнен утром.
Предстояло объехать все части, которые передавались нам, ленинградцам. По списку в них имелось около ста танков на ходу. Однако первые же встречи с заместителями командиров по технической части 124-й танковой бригады инженер-майором С. И. Титовым и 122-й Краснознаменной танковой бригады инженер-подполковником Н. А. Козиным убедили нас в том, что и количество танков, и их состояние не отвечают данным штаба. И это было понятно: танкисты в последних боях понесли большие потери, действуя в исключительно сложных условиях местности и прорывая сильную, годами создаваемую глубоко эшелонированную оборону противника. Кроме того, волховчанам по-своему было очень тяжело с ремонтом танков. Они действовали в районах, где промышленных предприятий почти не было. Поэтому все работы производили в поле на подвижных фронтовых ремонтных базах. Правда, таких баз, можно сказать, было достаточно. Но ремонтировать танки в поле, в мороз, когда нет требуемого количества запасных частей, и к тому же вблизи переднего края – дело не из легких.
Объехав все части и изучив реальные возможности ремонта, мы обменялись мнением с представителями волховчан. Генерал Шестаков подробно донес обо всем своему командующему – генералу В. И. Баранову, а вскоре мы и сами выехали обратно.
В Ленинграде узнали, что штаб бронетанковых и механизированных войск переместился в Толмачево, под Лугу. Здесь нам, офицерам, занимающимся ремонтом, была поставлена задача в недельный срок закончить восстановление боевой материальной части в танковых частях, действующих на направлениях Псков, Порхово, Остров, Струги Красные.
Под Порхово и Псковом я впервые столкнулся с ремонтом танков в полевых условиях в массовом масштабе. Вот когда сказалось решение, принятое еще во время пребывания Н. Н. Шестакова в Москве, о формировании для Ленинградского фронта подвижных ремонтных баз. Именно они и обеспечивали ремонт.
Тапки, как правило, находились на большом расстоянии друг от друга, в местах, куда пробраться на ремонтных летучках почти невозможно. Тягачей недоставало, поэтому использовали боевые машины, чтобы подтаскивать к ремонтным базам поврежденные танки.
Много хлопот приносили дороги, особенно за Лугой. До Пскова все мосты были взорваны, и, чтобы их навести, требовались огромные усилия саперов, их мужество, самоотверженность.
Помнится такой случай. Инженер старший лейтенант Дмитрий Александрович Кутилов (из ленинградских ополченцев) трое суток не отходил от строящегося моста через реку. Но когда он узнал, что вот-вот должны подойти танки, вошел в ледяную воду и сам стал укреплять мост, показывая пример солдатам. И мост был построен к сроку.
Выполнив в основном задание по ремонту танков и доставке их частям Ленинградского фронта, мы получили новую задачу – организовать "прием на себя" боевых машин, идущих из-под Новгорода в направлении Медведь, Луга, затем на Псков. Дело оказалось сложным, так как ремонтные средства использовались для обеспечения передовых частей и их не хватало, чтобы расставить еще на путях движения танковых колонн волховчан. А когда началась распутица, то стало совсем тяжело.
Однако никакие трудности не остановили танкистов. Все так старались, что не надо было даже особенно проверять, подталкивать. В основном требовалось только помочь, указать, куда двигаться, где части, где противник.
С большим напряжением трудился весь штаб бронетанковых и механизированных войск Ленинградского фронта. Ни днем ни ночью не прекращалась работа. Работали с огоньком, по-боевому, всегда оказывали друг другу помощь. Необходимо отметить, что такой деловой стиль шел в первую очередь от руководства. Мы учились у начальников организации дела, решению самых разнообразных вопросов, инициативе и активности.
Инженерно-техническую службу бронетанковых и механизированных войск фронта возглавлял генерал Николай Николаевич Шестаков. Он везде успевал бывать, все знал и работал с каким-то особым, присущим ему предвидением. Каждый из нас знал о том, что Николай Николаевич все равно все проверит, во всем детально разберется. И мы не только из-за большого к нему уважения, но и, откровенно говоря, из-за боязни ошибиться старались глубже и всесторонне подготовиться к докладу, полностью выполнить любое задание. Николай Николаевич никогда не распекал подчиненных за промахи, упущения, а тактично просил еще раз уточнить, выяснить все обстоятельства дела, и этого было достаточно, чтобы человек не повторил ошибки.
Его ближайшими помощниками были инженер-полковник Д. П. Карев, инженер-подполковник Г. А. Федоров, подполковники С. М. Адливанкин, В. Д. Параничев, инженер-майор И. Л. Хмельницкий, майоры Г. А. Хапов, Б. И. Гильченок, инженер-капитан М. М. Марков, капитаны Б. И. Кольцов, И. Д. Строганов и другие. Советы друг с другом, постоянная инициатива, предельное старание каждого – это было главным в их работе, в отношении к любому делу, каким бы оно ни было: большим или малым.
Следует подчеркнуть, что всех нас как бы цементировала, целеустремляла наша партийная организация. Заместитель командующего по политической части полковник Виктор Иванович Голиков был очень уважаемым человеком. Он приходил к коммунистам не проверять, не указывать, не требовать, а обменяться мнениями. И это достигало желаемой цели. Правильные, нужные, наиболее важные идеи, мысли, предложения коммунистов он собирал по крупицам, выносил на обсуждение коллектива, внедрял опыт лучших в практику.
Нельзя не сказать доброго слова и о младших специалистах, служащих. Это они помогали нам доводить дело до конца, как говорится, до исходящих и входящих, выражать его в графиках, таблицах. А сколько печаталось срочных, несекретных и секретных, особо секретных документов! Часто товарищи просились на фронт, туда, где совершались настоящие боевые дела. И большого труда стоило их удержать в штабе. Но обязанности свои они выполняли всегда добросовестно. Такими были Валя Иммерлишвили, Зина Строганова, Антонина Яковлева и другие. В равной степени со всеми нами они делали большое и нужное дело.
* * *
С новой силой разгорелись бои на кингисеппском направлении. Наши войска овладели станцией Волосово, перерезали дорогу Гатчина – Нарва. Немецко-фашистское командование бросало свои последние резервы. Между Ропшей, Опольем и Кингисеппом появились тяжелые танки "тигры". Мы уже знали о них, знали, что все эти фашистские звери были биты на Курской дуге. Ни сверх-толстая броня, ни мощные пушки, установленные на них, ни звериные названия не устрашили советских воинов. Хваленое гитлеровское оружие не выдержало могучего удара наших войск и здесь, под Ленинградом. Немало их подбитых и сожженных – осталось на поле боя.
Для нас, эвакуаторов, "тигры" были в новинку. Мы должны были убрать их с дороги и, кроме того, попытаться завести один из "тигров" и доставить его в Ленинград для показа населению. На Дворцовой площади открывалась выставка трофейного оружия.
Разобравшись в техническом устройстве "тигра", я довольно быстро его завел. Однако через пару километров выяснил, что у машины пробит водяной радиатор. Значит, наш противотанковый снаряд пронизал "тигровую" броню! Кстати замечу, что "тигр" был очень неповоротлив и на плохие дороги совершенно не рассчитан – он то и дело тонул по днище.
Почти сутки провозился я с этой машиной. Со мной был экипаж, состоящий из ремонтников. Очень хотелось довести трофей и показать ленинградцам. Но за сутки мы прошли не более десяти километров. Было ясно: выполнить задачу в установленный срок невозможно. Я доложил об этом генералу Н. Н. Шестакову. Он тоже понял, что с "тигром" нам не справиться, и приказал доставить в Ленинград другой танк – T-III. С большим трудом, доливая через каждые 15-20 километров воду в поврежденные радиаторы, через сутки я все же пригнал его в Ленинград и установил на Дворцовой площади. Здесь уже были выставлены на обозрение многоствольные минометы, тяжелые орудия, обстреливавшие Ленинград, различные вооружение и боевая техника. На стволах пушек и на корпусе танка уже белели надписи "Смерть фашизму!", "Гитлер капут!".
Еще больше этого, теперь уже металлического лома осталось под Ленинградом. Чем ближе мы подъезжали к Кингисеппу, тем больше встречались на обочинах дороги разбитые вражеские танки, автомобили, орудия. Попытка противника прикрыть свое отступление наспех сколоченными арьергардными группами тяжелых танков с пехотой не удалась.
По этим же дорогам шли затем эвакуаторы и ремонтники, чтобы быстрее оживить наши танки. Работа спорилась. Иначе и быть не могло. Радость победы удваивала силы. Старались ремонтники, старались экипажи поврежденных машин. И это значительно сокращало сроки ремонта.
В Кингисепп я попал утром. Для города это было первое утро освобождения ночью враг бежал.
На высоком берегу реки Луга стояли наши танки. Кто-то из танкистов попытался переправиться на другой берег. Он спустил танк с крутого берега на лед, но метра через два провалился. Дал задний ход и вышел на берег. Гитлеровцы обрушили на него с противоположного берега шквал огня. Танк тоже отвечал огнем. Его поддерживали другие машины. Где-то ухнули наши пушки и полетели снаряды на другую сторону берега. Артиллерийская дуэль длилась несколько минут.
Пехота с ходу форсировала реку и зацепилась на том берегу. А вот с танками дело застопорилось, нужны были переправы...
Недалеко от реки, у разрушенной церкви, напротив взорванного моста, была назначена встреча с представителем ВТ и MB фронта на направлении действий 2-й ударной армии и других войск инженер-полковником В. И. Извозщиковым. Он прибыл сюда для того, чтобы организовать техническое обеспечение при форсировании танками реки. При нем находились два офицера. Один из них, капитан А. Я. Кумаченко, оказался знакомым по Невской Дубровке. После того как он весной 1942 года попал в госпиталь, мы с ним не встречались. Инженер-полковника Извозщикова я знал раньше, когда он был заместителем командующего БТ и MB 67-й армии. Первая же встреча с ним произвела на меня очень хорошев впечатление. По всему чувствовалось, что он большой специалист инженерно-танковой службы. До армии работал в частях, на ремонтных предприятиях. В беседе больше слушал, чем говорил. Он умел расспрашивать людей, Если говорил, то только о других. О себе – ни слова. Отвечал только на прямые вопросы. В обращении с подчиненными был очень прост, звал всех по имени и отчеству, а тех, кто помоложе, просто по имени. И выговаривал по-особому, будто успокаивал подчиненного: "Конечно, вы ведь старались. В другой раз получится лучше". И в другой раз провинившийся работал так, чтобы больше не выслушивать такого замечания, не подводить своего начальника.
Примерно в таком же духе Извозщиков сделал замечание капитану Кумаченко за то, что тот опоздал сюда, к берегу реки Луга, с тягачом и тем самым не выполнил задачу – проверить возможность прохождения по льду. Было задумано подцепить к тросу танк и подстраховать его: если лед не выдержит и машина провалится, то быстро ее вытащить на берег. Но у въезда в Кингисепп тягач был задержан, и, пока выясняли, что к чему, прошло минут двадцать. А за это время случилось то, о чем я уже выше рассказывал. И теперь надо было эвакуировать поврежденный при выходе на берег танк.
Капитан Кумаченко, опустив голову, выслушав замечание начальника, спросил разрешения идти выполнять задание. Тот кивком головы дал добро.
При нашей встрече я передал Извозщикову просьбу заместителя командующего бронетанковыми войсками фронта генерала Шестакова сообщить, куда и сколько необходимо направить ремонтных средств.
Извозщиков раскрыл карту, показал, где стоят поврежденные и неисправные танки, предложил перенести эти данные на мою карту. На ней же он обвел карандашом районы эвакуации, подчеркнул те танки, которые будут ремонтироваться на месте, и те, которые, по его мнению, фронт должен эвакуировать и ремонтировать своими средствами. Расписался на моей карте и просил доложить эти данные генералу Шестакову.
Возвращаясь в штаб, я всю дорогу думал, как и где лучше развернуть фронтовые ремонтные средства.
До Кингисеппа не было почти ни одной деревни. Все сожжено. Развертываться в лесу? Однако там еще бродили мелкие группы противника, а для организации надежной охраны мы не располагали силами. Кроме того, основной ремфонд может появиться только при форсировании реки. Да и есть ли смысл эвакуировать от реки далеко в лес за Кингисепп поврежденные танки? Не лучше ли организовать ремонт непосредственно на окраине Кингисеппа? Правда, близко от противника, но зато значительно сокращается время, необходимое для того, чтобы вернуть танки в боевой строй.
Свои соображения я доложил генералу Шестакову. Он внимательно выслушал меня и сказал:
– Предложение утверждаю. В ваше распоряжение выделяется 21-я ремонтная база.
Быстро подготовив соответствующее приказание, я выехал в район Ополье для встречи с начальником базы инженер-капитаном А. Н. Живилиным. Однако начавшаяся внезапно оттепель так развезла дорогу, что практически приходилось тащить мотоцикл па себе. Километров через пять я выбился из сил и вынужден был оставить мотоцикл в одном из разрушенных сараев. Замаскировал как мог и пошел пешком в надежде на попутный транспорт, хотя понимал, что никакая машина по такой дороге не пройдет. Часа три прошагал, как вдруг услышал шум трактора. Обернулся. Действительно, трактор шел в мою сторону и тянул за собой прицеп на полозьях. На душе повеселело.
Когда трактор поравнялся со мной, я поднял руку. Водитель выключил скорость, сбросил газ, и двигатель заработал на холостых оборотах. В кабине сидели двое в комбинезонах.
– Куда путь держите? – обратился я к ним.
– А вам что? – спросили меня.
– Может быть, подвезете?
– Садитесь. А покурить не найдется?
– Некурящий, – ответил я.
– Жаль.
– Так куда путь держите? – снова спросил я, – До Кингисеппа!
– Вот это хорошо, и мне туда, – обрадовался я,
– А кто ты будешь?
Я был тоже в комбинезоне, в солдатской шапке, а ремень, хотя и офицерский, но кто не носил его в войну?
Представился как офицер штаба фронта,
– Ого, начальство! Садитесь,
Несколько минут ехали молча. Потом тот, у кого были эмблемы артиллериста, поинтересовался, знакома ли мне дорога на Кингисепп. Я ответил, что только вчера проезжал по ней. Есть и другая дорога, получше этой.
– А нам все равно. Мы на своем "танке" хоть куда доберемся.
И только он это сказал, как в тракторе заскрежетало, и водитель, выключив двигатель, удивился:
– Что за оказия?
Он вылез из кабины, поднял капот и стал внимательно рассматривать двигатель, от которго шел пар. Я тоже присоединился к водителю.
– Надо попробовать провернуть рукояткой, – сказал я.
– Понимаете в технике? – спросил он меня.
– Немного. Вместе разберемся.
Водитель взял рукоятку и, стоя по колено в грязи, о трудом ее поворачивал. На слух я определил, что с коленчатым валом вроде все в порядке.
– Ну-ка, Володя, нажми на стартер, – вынув заводную рукоятку, крикнул водитель.
Тот нажал на кнопку. Шестеренка стартера, едва войдя в зацепление, заскрежетала и остановилась. Из стартера пошел дымок.
– Выключай! – крикнул я. – Дело ясное – замыкание в стартере! Заведем от рукоятки и проверим электросистему.
Я сел в кабину. Водитель, провернув несколько раз рукояткой, завел двигатель. Стрелка амперметра указывала на сильную разрядку.
– Что будем делать: исправлять стартер или поедем? – спросил я у водителя.
– Как, старшой? – обратился водитель к Володе.
– Если можно ехать, то надо ехать. Времени у нас в обрез, – ответил Володя.
Это решение, конечно, устраивало и меня.
До Ополья добрались во второй половине дня. На дороге мне встретились ремонтные летучки. Я догадывался, что это втягивается в лес 21-я ремонтная база. Вскоре встретился и инженер-капитан Живилин. Он обрадовался моему появлению и сразу же начал просить трактор, чтобы оказать помощь ремонтным летучкам, которые застряли в 10-15 км отсюда. Я сказал, что трактор не мой.
– Да какая разница. В общем-то он нашего фронта, – запальчиво сказал Живилин и обратился к моим спутникам с такой же просьбой.
Сержант, по имени Володя, ответил, что он обязан доставить боеприпасы, которые находятся в прицепе, и временем не располагает.
– Обождите до вечера, – предложил он. – Вот доставим боеприпасы и возвратимся.
Надежд на это мы, конечно, не питали. Дорога плохая, и куда эти боеприпасы потом повезут, тоже неизвестно. Так "Ворошиловец" и ушел, обдав нас едким дымом.
* * *
Я ознакомил инженер-капитана Живилина с приказанием генерала Шестакова. Он сокрушался о том, что не может в срок полностью развернуться в Кингисеппе.
И винить инженер-капитана Живилина тоже было нельзя. Дороги разбиты, а ремонтные летучки на стареньких ЗИСах и газиках были не в состоянии двигаться по бездорожью.
– Что же будем делать? – спросил меня инженер-капитан Живилин.
– Решение, я думаю, может быть только таким: попытаться на буксире доставить в Кингисепп хотя бы несколько специальных машин и основной состав ремонтников. Остальным на месте ждать ночи – возможно, будут заморозки. Если нет, то завтра у саперов раздобудем трактор. А работу по ремонту танков начнем немедленно. Надо также поискать в Кингисеппе мастерские и использовать их оборудование.
Инженер-капитан Живилин тут же подозвал к себе офицера.
– Командиров подразделений ко мне! – приказал он.
– Здесь только двое: командир первой и третьей рот. Остальные с машинами, в пути.
– Ко мне, кто есть.
На совещании было решено оставить по одному водителю на машину, а всех ремонтников направить в Кингисепп. Туда же во что бы то ни стало надо вывести электростанцию и сварочное оборудование. Для подстраховки выделялись еще две ремонтные летучки типа "Б", на которые грузили весь ремонтный инструмент, имеющийся на остающихся здесь машинах,
– Личный состав с лопатами и пилами, – продолжал инженер-капитан А. Н. Живилин, – пойдет за электростанцией и сварочной в готовности исправлять дорогу и восстанавливать машины.
Примерно через час колонна двинулась. Шли медленно, с большими трудностями. Лишь глубокой ночью добрались до Кингисеппа и начали сразу же искать удобное место для развертывания.
У самого въезда в Кингисепп со стороны Ленинграда находилось сильно разрушенное здание – только стены остались – бывших мастерских, которые я приметил еще раньше. Подъехали к нему. Внутри стояли какие-то станки и расположились на отдых пехотинцы. Искать старшего начальника, чтобы тот дал добро на развертывание в этом здании ремонтной базы, – дело бесполезное. А здание приглянулось многим. Вдруг появились медики с несколькими ранеными. Потом пришел какой-то офицер, кажется, артиллерист, потому что речь он вел со своим спутником о том, что неплохо было бы разместить здесь "штабеля" (так артиллеристы называли боеприпасы). Словом, кому достанется здание, трудно было сказать.
Но вопрос решился как-то сам собой. Ближе к рассвету подошел тягач, буксирующий танк. Капитан Кумаченко объявил, что по указанию инженер-полковника В. И. Извозщикова здесь будет развернут сборный пункт поврежденных машин. Это заявление особого воздействия не оказало на присутствующих. Все они остались. Инженер-капитан Живилин приказал завезти электростанцию в здание. Благо, проемы в стенах были большие. Когда машина начала вползать в помещение, пехотинцы пробудились, сержант скомандовал: "Строиться!" – и через несколько минут небольшая колонна бойцов ушла. Но девушка-медик стала строго нас отчитывать за то, что мы якобы врываемся в ее медицинский пункт.
– Так ведь его здесь нет, – возразил инженер-капитан Живилин. – Вы ведь и легкораненых куда-то уже отправили.
– Нет, так будет! – резко ответила она.
– Если будет – мы уйдем. А сейчас давайте знакомиться и мириться.
Она назвалась санинструктором танковой бригады.
– Так это совсем здорово, – сказал инженер-капитан Живилин. – Танкисты всегда между собой договорятся.
Санинструктор успокоилась и начала упрашивать Живилина выделить ей транспорт, чтобы доставить тяжело раненного офицера в полковой медпункт. Кроме единственного автотягача, мы ничем не располагали. Бережно перенесли в него раненого офицера из разведроты бригады и отправили в близлежащий госпиталь.
Через часа два своим ходом прибыл танк с заклиненной башней. Он тащил за собой другой танк с пробитым бортом. Мне вручили записку от инженер-полковника Извозщикова, в которой он разрешал мне использовать для подтаскивания ремонтных летучек тягач и даже танк, но предупредил, что, как только наладим сварочный агрегат, нужно немедленно срезать болванку, застрявшую между башней и корпусом, отправить танк в подразделение.
Я был очень благодарен инженер-полковнику Извоз-щикову за помощь. Однако использовать танк для буксировки ремонтных летучек не стал. Вместе с инженер-капитаном Живилиным мы начали готовить сварочный агрегат, и уже через час нам удалось освободить башню. Экипаж тут же уехал на передовую.
Одновременно с ремонтом второго танка мы продолжали устраиваться. Приказ к 12.00 развернуть базу в основном был выполнен. Ведь кое-что уже развернуто, один танк отремонтирован, другой в работе, а тягач пошел за остальными ремонтными средствами. Обо всем этом я доложил по телефону Н. Н. Шестакову. Звонил о командного пункта инженер-полковника Извозщикова. Генерал сказал, чтобы я принял меры для быстрейшего развертывания всех сил базы. Дело в том, что вскоре подойдут танки, которые будут форсировать реку, и поэтому надо быть в готовности оказать им помощь. Я возвратился на базу, имея от Извозщикова разрешение задержать тягач на такое время, которое потребуется для подтаскивания всех ремонтных средств.
На фронте часто бывало – рассчитываешь на одно, а получается другое. Так и тогда. Казалось, все идет нормально, но вдруг налет вражеской авиации. Видимо, противник заметил выдвижение наших войск к переднему краю. Три фугаски упали и на нашу базу. В результате появились убитые, раненые и полностью сгорели две ремонтные летучки.
Я пошел к Извозщикову, доложил ему о случившемся.
Связавшись с генералом Шестаковым и поговорив с ним, Извозщиков приказал остальные ремонтные средства размещать в лесу и тщательно маскировать. Район роща юго-восточнее Кингисеппа.
– Слушаюсь! – ответил я. А сам подумал, как это сделать, если даже с дороги невозможно съехать. Но решение было правильным, тем более что должны были помочь саперы.
Вскоре на дороге появилась первая летучка. Я остановил ее и указал рощу, где ей следует располагаться. Подошли еще несколько машин. С помощью тягача все машины были втянуты в рощу. Лишь три летучки остались где-то на дороге. Они тоже подверглись воздушному налету и требовали ремонта. Но сейчас у нас было много средств на месте. Однако главного не было: электростанции, зарядного агрегата и основного инструмента. Десять хороших ремонтников мы потеряли (три убитых и семь раненых). Инженер-капитан Живилин немного оглох после контузии, но в госпиталь не пошел.
К вечеру на базу прибыл офицер от Извозщикова. Он передал приказание от моего командования проверить и доложить состояние техники в трех полках (в двух танко-самоходных и одном танковом). В других частях эта работа должна проводиться инженер-полковником Извозщиковым.
Полки, как мне сообщили, сосредоточивались в лесах южнее и севернее Кингисеппа. Они понесли потери при налете авиации противника.
До утра мне удалось побывать в двух частях: 31-м гвардейском танковом и 397-м танко-самоходном полках. Третьего полка не нашел. Как потом выяснилось, он изменил район сосредоточения.
В этих полках вместе с техническим составом удалось в основном проверить танки, нуждающиеся в среднем ремонте. Таких оказалось двенадцать. Мелкий, текущий ремонт в расчет не брался. Это возлагалось на экипажи. Вызвал в полки четыре ремонтные бригады, и к вечеру в основном с этим объемом работы мы справились.
А в ночь уже был получен приказ о выдвижении полков к переправам.
Придя на командный пункт Извозщикова, я связался с нашим штабом и доложил инженер-полковнику Кареву о проделанной работе. То же сделал и Извозщиков.
Инженер-полковник Карев приказал нам организовать за счет 21-й ремонтной базы техническую помощь готовящимся к переправе полкам и подготовиться как к эвакуации танков, так и к переброске ремонтных групп на другой берег реки Луга. Это решение диктовалось тем, что, пока на базе нет ремфонда, ее целесообразнее использовать на маршрутах, в частях, на переправах, где ремонтные бригады могли сделать многое. Так оно и было. Уже после форсирования реки мы подсчитали, что за время наступления в течение одних только суток оказали техническую помощь и отремонтировали больше чем 60 танков. Это двухмесячная производственная норма базы! Такой объем работы стал возможен только потому, что ремонтировались машины на месте и при активном участии экипажей. Я был свидетелем, когда ремонт танков производился даже на паромах. К концу переправы мы потеряли двенадцать человек, но зато не было ни одного танка, который бы из-за неисправности не вышел на противоположный берег.