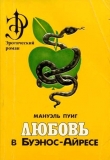Текст книги "Диктатура сволочи"
Автор книги: Иван Солоневич
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
И, вот, в зале раздается крик: «казаки!» Казаков, во-первых, не было, а, во-вторых, быть не могло – было время полной свободы словоблудия. Одна секунда, может быть, только сотая секунды трагического молчания и в зале взрывается паника. Гимназистки визжат и лезут в окна – окон было много. Гимназистами овладевает великий революционный и героический порыв: сотни юных мужественных рук тянутся к сотням юных женственных талий: не каждый же день случается такая манна небесная. Кто-то пытается стульями забаррикадировать входные двери от казачьей кавалерийской атаки. Кто-то вообще что-то вопит. А профессор, бросив свою кафедру, презирая все законы земного тяготения и тяжесть собственного сана, пытается взобраться на печку…
Я почему-то и до сих пор особенно ясно помню эту печку. Она была огромная, круглая, обшитая каким-то черным блестящим железом, вероятно, метра три вышиной и метра полтора в диаметре: даже я, при моих футбольных талантах, на нее влезть бы не смог. Да и печка не давала ответа ни на какой вопрос русской истории: если бы в эту залу действительно ворвались казаки, они сняли бы профессора с печки. Положение было спасено, так сказать, «народной массой» – дежурными пожарными с голосами иерихонской трубы. Все постепенно пришло в порядок: гимназистки поправляли свои прически, а гимназисты рыцарски поддерживали их при попытках перебраться через хаос опрокинутых стульев. Соответствующий героизм проявил, само собою разумеется, и я. Но воспоминание об этом светлом моменте моей жизни было омрачено открытием того факта, что некто, мне неизвестный сторонник теории чужой собственности, успел стащить мои первые часы, подарок моего отца в день окончательной ликвидации крестьянского неравноправия. Должен сознаться честно: мне по тем временам крестьянское равноправие было безразлично. Но часов мне было очень жаль: следующие я получил очень нескоро. Потом выяснилось, что я не один «жертвой пал в борьбе роковой», – как пелось в тогдашнем революционном гимне. Не хватало много часов, сумочек, брошек, кошельков и прочего…
Много лет спустя я узнал, что профессор скончался в эмиграции. Мне было очень жаль, я бы с ним поговорил и мог бы дать, так сказать, заключительный штрих к этой символической картинке. Вот, в самом деле, «жертвенная» молодежь, убеленный органами усидчивости профессор, пропаганда «низвержения» и революции, – и зловещие люди, кинувшие крик: «караул, революция!» Паника и в панике зловещие люди опытными руками шарящие по вместилищам чужой собственности. Профессор кидается на печку (эмиграция), гимназисты спасают своих юных подруг, но, к сожалению, пожарные в настоящей истории так до сих пор и не проявились: профессор помер на печке, крестьянское равноправие сперто вместе с моими часами, гимназисты погибли на фронтах гражданской войны, а зловещие люди и до сих пор шарят своими опытными руками по всему пространству земли русской – собираются пошарить и по всему земному шару.
Революционная деятельность профессора кончилась фарсом. Революционный фарс русской интеллигенции кончился трагедией. Да и сейчас, перековка проф. Бердяева, бывшего марксиста, бывшего либерала, бывшего богоискателя, бывшего атеиста, бывшего монархиста и нынешнего сталиниста – это все-таки фарс.
В истории германской революции фарса нет. В сущности, здесь всг безысходно трагично, как безвыходно трагична Песня о Нибелунгах и теория Дольхштосса, который один помешал великому народу выполнить свою великую миссию в этом так плохо, не по-немецки, организованном мире.
Зловещие люди в бронзе
В Германию, весной 1938 года, я приехал не при совсем обычных обстоятельствах: зловещие люди убили мою жену, сын был слегка ранен, я не находился в полном равновесии. И сейчас, восемь лет спустя, в памяти встает разорванное тело любимой жены и ее раздробленные пальчики, вечно работавшие – всю ее жизнь. Болгарская полиция откровенно сказала мне, что бомба пришла из советского полпредства, что она, полиция, ничего не может сделать ни против виновников этого убийства, ни против организаторов будущего покушения – может быть и более удачного, чем это. У нас обоих – сына и меня – были нансеновские паспорта, по которым ни в одну страну нельзя было въехать без специальной визы, и ни одна страна визы не давала. Нас обоих охраняли наши друзья, да и полиция тоже приняла меры охраны. Против уголовной техники зловещих людей, против их дипломатической неприкосновенности – эта охрана не стоила ни копейки. И вот – виза в Германию, виза в безопасность, виза в убежище от убийц. Не трудно понять, что никаких предубеждений против антикоммунистической Германии у меня не было.
Мы провели два месяца в санатории – под фальшивым паспортом, которым снабдила нас германская полиция. Потом были первые встречи с германской общественностью. Я был принят как нечто среднее между Шаляпиным сегодняшнего дня и Квислингом – завтрашнего, но тогда еще никто не знал, что такое Квислинг. Обоюдное разочарование наступило довольно скоро, через несколько месяцев. Но пока что все было очень мило. И за всем этим было что-то неуловимое, но несомненно знакомое, что-то советское, революционное, какая-то неуловимая общность человеческого типа, общность духовного «я» у людей обеих, так ненавидящих друг друга революций. Было все-таки что-то братское.
Многочисленные ходатаи по делам и безделью, посещавшие красную Москву, вероятно, помнят две монументальные статуи, украшающие портал Дворца Труда – Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов. Это – рабочий и работница, строго выдержанные в идейной стопроцентности коммунистической программы: искусство в тоталитарных странах призвано не отражать жизнь, а формулировать идею. Не фантазию художника, а социальный заказ чрезвычайки. Оно должно куда-то звать. А, при неудаче зова, куда-то волочить. Куда могли звать или волочить пролетарские Аполлон и Венера, поставленные на страже советского Дворца Труда?
Московские статуи изображали металлиста и текстильщицу, стилизованных под советскую власть. Металлист представлял собой то, что в Германии назвали бы Rassenschande – продукт кровосмесительной связи человека с гориллой. Над горильем туловищем – мощные стальные челюсти, а над челюстями – узкий медный лоб. Вся конструкция выражает предельную динамику: ублюдок куда-то прет. Все размеры мыслительной коробки не оставляют никаких сомнений в том, что ублюдок и понятия не имеет, куда и зачем ему следует переть. Но страшные руки готовы кого-то хватать и стальные челюсти – кого-то кусать. В крохотных глазках выражены поиски классового врага, выражена ненависть ко всему, что есть в мире неублюдочного. О советской Венере я уж и говорить не буду: если у ублюдка хватит мужества ее поцеловать – пусть он и целует…
И, вот, другой Дворец Труда – берлинский клуб Арбейтсфронта. И скульптурное оформление идей Третьего Рейха в этом клубе, на площадях, в парках… Все несколько у'же, несколько ниже, но, в сущности, все то же самое: сжатые челюсти, стиснутые кулаки, узкие лбы и готовность куда-то переть и что-то крушить, – переть и крушить по первому приказу, не размышляя ни о целях, ни, тем более, о последствиях. Московский ублюдок помещается в колоссальном здании, какого в Берлине вообще нет, здание было построено при Екатерине Второй для сиротского дома, берлинский арбейтсфронт занимает что-то вроде виллы. Русский питекантроп вырос на сале и черноземе, берлинский – на песках и маргарине. У русского, так сказать, «широкий размах», берлинский пахнет бухгалтерией. У русского больше силы и ярости, у берлинского больше ненависти и расчета.
Бронзовая идеализация обеих революций не совсем точно воспроизводит живых представителей двух братских партий. У живых представителей лбы, действительно, горильи, – но горильей мускулатуры у них все-таки нет. Это люди, как общее правило, наследственные обитатели тех учреждений, которые в царской армии носили название «слабосильной команды» – отбор физически неполноценных людей. Они вовсе не сильны – эти живые носители власти и никогда не смогут быть окончательными победителями – это грозило бы человечеству полным физическим вырождением. Они прорвались к власти и к крови только случайно, только потому, что мы, нормально скроенные люди что-то проворонили, прошляпили, прозевали, – по недосмотру всего нормального человечества. Но, раз прорвавшись, они, действительно, будут переть и крушить – ибо они объединены общим им всем чувством ненависти и еще чувством безысходности: от постаментов и монументов Москвы и Берлина дорога только одна – на свалку. Они как-то, вероятно, в общем смутно, но все-таки ощущают и случайный характер своей временной победы, и кровавую черту, которая отделила их от всего остального человечества – отсюда звериная настороженность горильих глазок.
Питекантропы были первым открытием, которое я сделал в Германии. Трудно доказуемым, но поистине страшным открытием, ибо оно давало совсем иной ответ на вопрос о причинах революций, чем тот, какой мы привыкли сдавать на экзаменах по истории, политической экономии, философии и другим смежным доктринам современной социальной астрологии. Этот ответ говорил, что социальная революция есть прорыв к власти ублюдков и питекантропов. Что теория, идеология и философия всякой социальной революции есть только «идеологическая надстройка» над человеческой базой ублюдков. Что «социальные условия» и социальные неурядицы не есть причина революции, а только повод, только предварительное условие: социальные неурядицы расшатывают скрепы социального организма, построенного нами, нормальными людьми для наших, нормальных людей, вкусов, потребностей и возможностей, и тогда в щели расшатанного организма врывается питекантроп. Что социальная революция устраивается не «социальными низами», а биологическими подонками человечества. И не на пользу социальных низов, а во имя вожделений биологических отбросов. Питекантроп прорывается и крушит все. Пока захваченное врасплох человечество не приходит в себя и не отправляет питекантропов на виселицу.
Это открытие было очень неуютным. Оно ставило крест над всякими разговорами о германском бруствере против коммунизма, оно делало мое пребывание в Германии бессмысленным и бесцельным, и оно определяло революцию, как вечно пребывающую в мире угрозу. Ибо, если неистребимо существует человеческий талант и гений – то, на другой стороне биологической лестницы так же неистребимо существует ублюдок и питекантроп. Если есть сливки, то есть и подонки. Если есть люди, творящие жизнь, то есть и люди ее уродующие.
Но это открытие вносило полную неясность в другой вопрос: весь гитлеровский режим, вся национал-социалистическая структура власти была точной копией с ленинско-сталинской. Что же тут было? Сознательный плагиат или бессознательное подражание? Или, просто, одинаковые люди, поставившие себе одинаковые цели, автоматически пришли к одинаковой технике власти? Обокрал ли Гитлер Ленина, или только открыл ту же Америку, но только двигаясь не с востока, а с запада?
Напомню самые основные черты ленинского патента: государственная власть в стране принадлежит единственной партии – оппозиция истребляется физически. Партия эта обладает единственно научным мировоззрением, другие мировоззрения уничтожаются. Во главе партии стоит единственно гениальный вождь – конкуренты отправляются на расстрел. Единая партия, возглавляемая единым вождем, проводит единственно возможный план спасения человечества другие планы подавляются вооруженным путем. Эта партия опирается на избранный слой всего человечества (избранную расу или избранный класс) и проходит непрерывное чистилище расстрелов. Она ведет беспощадную войну со всеми врагами само собой разумеющегося, научно-обоснованного, математически неизбежного светлого будущего. Она подавляет внутреннего врага и она уничтожает внешних врагов. Воплощая в себе лучшие мечты лучших представителей человечества, она окружена остатками отжившего строя, вредителями, предателями, саботажниками, трусами и уклонистами. Но в ее руках находится беспощадный «меч революции», и будущее принадлежит ей: только идиоты и преступники не могут, или не хотят видеть неизбежности этой победы: «революция это вихрь, который сметает всех ей сопротивляющихся». Именно для этой победы партия организует массы – работников и работниц, мужчин и женщин, детей и сыщиков. Именно она приведет человечество к окончательному социалистическому раю на нашей земле. Да здравствует наша непобедимая партия! Да здравствует наш непогрешимый вождь!
Эта схема средактирована, так сказать, алгебраически – в намеренно абстрактных выражениях. Но под любую абстракцию можно подставить конкретную величину Москвы или Берлина – и вы получите программу любой социалистической партии – и той, которая к власти уже пришла, и той, которая еще лицемерит по дороге к власти. Но в особенности той, которая к власти уже пришла и не находит нужным даже лицемерить.
…В самом начале войны знакомый немецкий художник спросил меня, как я озаглавлю ту книгу, которую я напишу, сбежав из Германии. Я сказал: – Im Westen auch nichts Neues – маленькая перефразировка заглавия когда-то знаменитой книги Ремарка против войны. Я, пока что, не успел сбежать, но обещанного заглавия не забыл. Да, собственно, нового ничего: наша железная единая коммунистическая партия – наша железная единая национал-социалистическая партия. Наша единственно научная марксистская философия, – наша единственно научная расистская философия. Наш непогрешимый Сталин – наш непогрешимый Гитлер. У нас пятилетний план, – у нас четырехлетний план. На страже плана ОГПУ-НКВД, – на страже нашего плана ГЕСТАПО и SS. У нас ВЦСПС (совет профсоюзов), – у нас Арбейтсфронт. У нас женотдел, – у нас фрауеншахт, у нас комсомол, – у нас Гитлерюгенд. Долой капиталистов! Долой плутократов! Будущее за нами! – Будущее за нами! Да здравствует Сталин! Да здравствует Гитлер! Ура! Ура! Ура! Вперед на капиталистический Лондон – по дороге через Берлин! Вперед на плутократический Лондон – по дороге через Москву! Да здравствует мировая марксистско-расистская, ленинско-гитлеровская, гестапистско-чекистская революция ублюдков и питекантропов!
Это, конечно, только схема – но это точная схема. В промежутках между ее основными линиями разместились и кое-какие индивидуальные отличия. Берлин резал евреев – Москва резала троцкистов. Москва окончательно ограбила буржуев, а в Берлине буржуи еще не догадались о том, что они уже ограблены. Красных генералов было расстреляно на много больше, чем коричневых, а русских «пролетариев» в сотни раз больше, чем немецких. Основная разница все-таки в том, что немец повиновался – и расстреливать его было, собственно, не для чего. Русский трудящийся ведет войну вот уже тридцать лет и расстреливать пришлось по необходимости. И еще, в том, что русский социализм пришел к победе на шестнадцать лет раньше немецкого. Впрочем, Берлин судорожно старался эти шестнадцать лет наверстать: «догнать и перегнать» совсем, как Сталин собирался догонять и перегонять Америку.
За одинаковым переплетом почти одинаковой тюремной решетки Третьего Рейха и СССР шел все-таки свой быт, разный в разных странах и у разных народов. Но даже и этот быт постепенно формировался во что-то до уныния похожее: так, тюремная камера постепенно сглаживает разницу характера, уровня и даже вкусов.
В Москве было издано шесть моих книг – исключительно по спорту и туризму. Каждая книга проходила пять и шесть цензур, и я до сих пор все-таки не знаю: а сколько именно цензур существует в СССР. Бывало так: все мыслимые цензуры уже пройдены, Главлит поставил свою печать, и, вот повестка: явиться на такую-то улицу, дом номер такой-то, комната такая-то. Что за дом и комната, и учреждение – понятия не имею. Иду. Какое-то вовсе неизвестное мне партийное учреждение, в нем какой-то вовсе неизвестный мне партийный товарищ, на столе у этого товарища – оттиски моей книги по боксу. «А почему вы, товарищ Солоневич, не привели здесь решения такого-то партийного съезда»? Что общего имеет бокс с решениями партийного съезда? Оказывается имеет. Нужно было указать, что такой-то партийный съезд вынес такое-то решение по поводу «последнего и решительного боя» с мировой буржуазией и по поводу соответствующего воспитания широких трудовых масс. А так как пролетарский бокс тоже должен служить свержению оной мировой буржуазии, то нужно указать на его воспитательное значение, соответствующее решениям такого-то партийного съезда.
Бывало и иначе. Сидит в каком-нибудь главлитовском закоулке пролетарская девица лет восемнадцати и говорит мне, что я, собственно, плохо знаю русский язык. Мне – за сорок лет. Я окончил старый университет, и занимаюсь литературной профессией лет двадцать. Русскую литературу я знаю, как специалист, и кроме русского языка я кое-как говорю еще и на трех иностранных – девица же спотыкается на элементарнейшей русской грамматике. Я стараюсь не скрежетать зубами и дипломатически отвожу ее поправки к моему литературному стилю. И стараюсь доказать, что в русском языке есть все-таки слова и выражения, которые, очевидно, ей, девице, по молодости лет, еще как-то не попадались на глаза. Такие беседы постепенно приводят к перерождению печени. В особенности, если каждая книга стоит полдюжины таких бесед.
Если девица находит стилистические и идеологические возражения к моей книге, посвященной технике поднятия гирь, то простор ее компетенции и ее пинкертоновских инстинктов, по понятным соображениям, ограничен довольно узкими рамками. Но что, если соответствующая девица обоего пола начнет выискивать стилистические и идеологические уклоны в художественной литературе? И как при этом будет чувствовать себя – или чувствовал бы себя, например, Лев Толстой? Совершенно очевидно, что Толстой с девицей несовместимы никак: кто-то должен уйти. Ушли Толстые.
Искусство должно «служить трудящимся», – трудящимся же принадлежит и право суда: не рыночного читательского, а, так сказать уголовного, судебного. Кроме того, в избранную категорию трудящихся попадают не все: гнилая интеллигенция СССР и Третьего Рейха, понятно, трудящимися не являются. Катясь со ступеньки на ступеньку великой социалистической лестницы, понятие «трудящийся» сейчас опустилось ниже того уровня, который в капиталистические времена определялся термином «лумпенпролетариат».
Я уже писал о тех отрядах легкой кавалерии, которые были организованы советской властью для помощи кооперации, для контроля рыбных промыслов, для поднятия производительности тяжелой промышленности, для всего вообще. До них был просто кабак, после них начался пожар в кабаке. Власть подбирала окончательный лумпенпролетариат и, как свору собак, спускала их на настоящих трудящихся. Власти на жизнь и на смерть эти своры не имели, но они имели власть на донос, что во многих случаях означало то же самое. В числе прочих разновидностей социалистической конницы были сформированы отряды «для помощи писателям». Я полагаю, что братья с сожалением вспоминали о коннице Батыя.
Влекомый недугом репортерского любопытства, я пошел на собрание, где легкая кавалерия должна была помогать писателю Пантелемону Романову. Родовспомогательная комната, где легкая кавалерия должна была помогать появлению на свет очередной новеллы П. Романова, была переполнена махорочным дымом и отбросами фабрично-заводских задворков. Какие-то безлобые юнцы, какие-то орлеанские девы русской революции, Господом Богом лишенные даже и прелестей флирта – хотя бы и фабрично-заводского. За столом, вооруженный рукописью и графином воды, сидел П. Романов и судорожно пил воду – вода уходила потом.
Новелла не блистала ничем. Это был скроенный по стандарту Главлита рассказ о том, как «мелочи быта» сбивают с революционного пути героев социалистической стройки. Это был тошный рассказ – П. Романов умел писать кое-что значительно лучшее. Легкая кавалерия слушала внимательно и настороженно. Чтение кончилось. И кавалерия пошла в атаку.
Должен сказать откровенно: более гнусной атмосферы мне, пожалуй, никогда не приходилось видеть. П. Романов, конечно, не Лев Толстой, – да и где уж тут, при Главлитах и их коннице?! Но это все-таки культурный человек с большой литературной традицией. И вот – фабричные ребята, орлеанские девы и прочая такая сволочь вцепляются зубьями в каждую страницу: а почему герой или героиня поступили не так, а вот этак, почему товарищ такая-то не пошла в партию, чем заниматься всякими там любовями, почему тут в рассказе всякие диваны понаставлены, когда пролетарии на Магнитке в бараках живут – ну и так далее в этом же стиле. Были высказаны и подозрения в «политической выдержанности» рассказа и вообще: не пытается ли автор «размагнитить» железную пролетарскую волю к стройке и борьбе? Нет ли здесь скрытого право-левого троцкистско-бухаринского уклона-загиба…
По лицу П. Романова, советскому лицу, тренированному на максимальную невыразительность, временами все-таки пробегала судорога – то ли отвращения, то ли ярости, то ли и того и другого вместе. Но он не возражал. Пытался умилостивительными оборотами речи проскочить один опасный пункт, чтобы зацепиться на другом. Как в аналогичных случаях делал и я. Я сидел, слушал и предавался сладким, утопическим мечтам: вот бы снять со стола эту рукопись, вот разложить бы на этом месте парочку орлеанских дев, да чтобы взвод казаков с хо-о-рошими нагайками – вот так, как в свое время было поступлено с аналогичной девой французской революции – Теруань де Мерикур: ее пролетарки выпороли так, что она потом окончательно с ума сошла, на горе всему прогрессивно-мыслящему человечеству: эх, хотя бы полувзвод казаков…
Во имя простой справедливости должен сказать, что никаких ни политических, ни литературных последствий эта «творческая смычка» не имела и – поскольку П. Романов «умел себя держать», – и иметь не могла. Протокол собрания вел какой-то безграмотный юнец; я потом просмотрел и этот протокол; из него совершенно невозможно было понять что бы то ни было. Творческую точку зрения орлеанских девственниц они и сами забыли на другой же день. Рассказ до появления его в печати пройдет еще полдюжины цензур – уже значительно более квалифицированных. Грядущие события бесследно сотрут из памяти благодарного потомства и творческие усилия девственниц, и судорожную благодарность писателя.
Вся эта «творческая смычка» (официальный термин) тогда казалась мне совершеннейшей бессмыслицей даже с точки зрения того сумасшедшего дома, в который социалистическое правительство посадило великую русскую литературу. Но я был не прав. Это не было бессмыслицей. Однако, смысл этого позорища я понял лет десять спустя – в Германии.
…В Германии мой дела пошли довольно плохо. Германское правительство, после некоторых обоюдных разочарований, запретило продажу моих книг. Попытки сбежать в Америку не удались. Иностранные гонорары оказались отрезанными войной. Мне и моей семье глядел в глаза наш старый социалистический знакомый: голод. Кроме того, над моим сыном – художником – висела угроза мобилизации на военные заводы. Вообще было плохо. Но был найден и некоторый выход: жена сына, тоже художница, имела перед нами целую массу преимуществ: она не подлежала мобилизации по причине внука, она была финской подданной и она была художницей-анималисткой, а что может быть аполитичнее, скажем, собачьих портретов. Собачьи портреты выходили у Инги замечательно: каждый песик имел свою собственную, неповторимую в истории мироздания, индивидуальность; время же было военное, у публики было много, а купить в подарок нечего. Словом, были развешены объявления о собачьих портретах.
Пришли первые заказчики. Но вместе с первыми заказчиками появился дядя, предъявивший удостоверение какой-то разновидности какой-то полиции и поставивший свирепый вопрос: а имеет ли фрау Золоневич право рисовать, собачьи портреты? Состоит ли она членом национал-социалистической камеры изобразительный искусств – ну и прочее в том же роде.
Дело приняло оборот, непредусмотренный даже и моим социалистическим опытом. В области «организации» немцы, оказывается, кое в чем перещеголяли даже большевиков: те до партийно-государственного контроля над собачьими портретами все-таки не додумались. Наша иностранная отсталость в деле немецких социалистических достижений несколько смягчила тон полицейского дяди. Кары не последовало, но последовал приказ: пройти испытание и регистрацию в указанной культурной камере.
Покидая берлинское заведение по контролю над искусством, мы встретили довольно древнего старичка, который с каким-то жадным любопытством спросил меня, как прошло наше дело. Я ответил, что все сошло благополучно – но не вдавался в детали. Старичок сказал жалобно: «А я, вот, хожу сколько уж раз, и все не дают разрешения»… Старичок, как оказалось, рисовал открытки, на которых слегка по-детски, акварелью, были набросаны нехитрые пейзажи в бидемайеровском стиле: тирольская избушка, горы, лес, коровы, и все такое. До вступления в законную силу партийно-идеологического плана полицейского контроля над искусством открытки эти имели сбыт, и старичок был сыт. Теперь старичок не может проникнуть в святая святых планируемого искусства и ему все говорят, чтобы он еще и еще над собою поработал, проникся партийным мировоззрением и поставлял бы идеологически выдержанные открытки.
Старичку было пора поработать над собственными похоронами: он был уж очень стар. И уж, конечно, ему не на что было дать взятку партайгеноссе Леснику, который охранял врата камеры изобразительных искусств.
Партайгеноссе Лесник, как я узнал несколько позже, был недоучившимся студентом какой-то художественной школы. Сейчас, сидя на высоком своем посту, он, надо полагать, поучал не одного старичка. И не его одного отсылал назад – по не совсем арийскому происхождению, по не совсем твердым познаниям в области гениальных мыслей фюрера, по не совсем твердо установленному отсутствию элементарного «вырождения» и по всяким другим, столь же веским поводам. Во всяком случае – какие-то немецкие художники должны были проходить через такое же социалистическое чистилище, какое проходил советский писатель П. Романов.
Московское чистилище показалось мне совершеннейшей, абсолютной бессмыслицей. Но если соответственное предприятие имеет и Берлин – то говорить о совершеннейшей бессмыслице было бы слегка легкомысленно. Повторяющиеся явлении должны же иметь какой-то смысл, какую-то общность и происхождения, и цели? Так, постепенно я пришел еще к одному открытию: легкая кавалерия Москвы, партайгеноссе Лесник Берлина, арийские удостоверения и пролетарские удостоверения – все это есть техническое орудие духовного террора.
Если НКВД в России и Гестапо в Германии призваны проводить физический террор, пятилетка в России и четырехлетка в Германии – экономический террор, то органы контроля над литературой и живописью проводят духовный террор. Они должны: а) запугать интеллигенцию и б) показать социалистической бюрократии ее власть над этой интеллигенцией. Они должны подчеркнуть грань, отделяющую победителей от побежденных, поднять у лумпенпролетария чувство самоуважения, – если здесь вообще можно говорить о каком бы то ни было уважении к чему бы то ни было. В соответствии с разной психологической структурой разных народов применяются несколько разные технические приемы: в Германии бюрократия нацеливается больше всего на взятку. В России каждый подонок больше всего хочет почувствовать свою власть, вот правительство и бросает ему обглоданную кость этой иллюзии: подонок чувствует себя участником власти, человеком, решающим судьбы, судьей в вещах, в которых он не понимает ни уха, ни рыла. На русском языке нет даже такого термина «Geltungstrieb» – стремления быть важным – тяга к некоему самоутверждению, но именно «воля к власти» выражена в русской массе гораздо выпуклее, чем в немецкой. И именно эту волю кое-как насыщают великие принципы кавалерийских налетов на литературу и рыбные промыслы. Да и не только они одни… Немецкой массе немецкий фюрер говорил прямо в лицо: ты – дура и все вы дураки, а единственный умный – это я. Русской массе ежедневно внушали чувство умственного превосходства над всем остальным миром – и русский фюрер есть только отражение бескрайней гениальности русского подонка. Легкая кавалерия не получала и не могла получить никакой взятки – ее вознаграждение оставалось, так сказать, в чисто духовной плоскости. Организация немецкой социалистической бюрократии была приноровлена главным образом, для взятки. Немецкая масса должна была повиноваться и уж никак не рассуждать. Русская масса имеет юридическое право забаллотировать товарища Сталина при любых выборах (попробуйте забаллотировать!). Советская пропаганда направлена на «революционную сознательность», немецкая – на казарменную дисциплину. Эти психологические оттенки почти не меняют структуры обоих социалистических правительств, но, мне кажется, что в конечном итоге, именно они играют решающую роль. Именно они в России вызвали и в Германии не вызвали гражданскую войну и всех тех последствий, которые были связаны и еще будут связаны с гражданской войной во всех ее разновидностях. «Масса» действует неодинаково – русская и германская. Неодинаково действуют и верхушки и отбросы этой массы – коронованные и некоронованные Романовы, коронованные и некоронованные Гогенцоллерны: совершенно невозможно представить себе русского великого князя в рядах коммунистической партии или германского «академикера» на фронте партизанской войны. Почти так же трудно представить себе русского лумпенпролетария, накапливающего награбленные деньги или немецкого, разбрасывающего награбленные кредитки в толпу завоеванного города – как делали русские красноармейцы с банковской наличностью Берлина.
Обе великие социалистические революции выросли на слишком уж разных территориях – географических и психологических. Но обе они были социалистическими. И для обеих их режим террора – физического, экономического и духовного – являлся основным условием их бытия, их побед и их гибели.