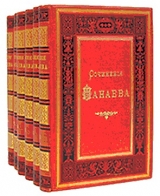
Текст книги "Очерки из петербургской жизни"
Автор книги: Иван Панаев
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)
II
Лет через тринадцать после этого я обедал в одном из самых известных петербургских ресторанов с моим товарищем по школе, с добродушнейшим и милейшим из людей, который без разбора был знаком со всею петербургскою молодежью, всем радушно жал руки, всем говорил ты и пользовался величайшею популярностью в столице.
Он был одним из неизбежных лиц на всех гуляньях, во всех театрах, маскарадах, танцклассах, везде, где проявляется публичная жизнь, и тотчас со всеми попадавшимися ему лицами заводил знакомства, не разбирая сословий и одинаково обращаясь с богатыми и бедными, с высшими и с низшими, с умными и с тупоумными. Он не имел и тени тщеславия, которым почти все мы заражены более или менее, и потому с ним всегда было легко; он сыпал остротами и каламбурами, знал все петербургские анекдоты, говорил без умолку, был постоянно в веселом расположении духа и умел смеяться не только над другими, что очень легко, но даже над самим собою, что очень трудно. Я не встречал в моей жизни человека, который имел бы такое разнообразное и обширное знакомство, какое имел он. Однажды, в маскараде дворянского собрания, он завел меня в какой-то таинственный уголок покурить. (Он знал везде все уголки и закоулки и по именам лакеев во всех ресторанах и капельдинеров во всех театрах.) В этом уголке мы нашли господина в пестром галстуке и в изношенном фраке с блестящими пуговицами, наружности весьма неблаговидной и притом полупьяного. Господин этот при виде моего товарища с увлечением бросился к нему на шею, поцеловал его и воскликнул:
– Ах, Саша, Саша! как я, братец, рад тебя видеть, то есть не поверишь, как рад.
– Давно не видались… Ну что ты поделываешь? – возразил мой товарищ улыбаясь.
– Живу, душа моя, живу! Известно, что -
Спящий в гробе мирно спи,
Жизнью пользуйся живущий!
И господин махнул при этом рукой, посмотрел на меня, пошевелил губами, облизал их и прибавил, ударив моего товарища по плечу:
– Пойдем, братец, выпьем.
Товарищ мой отказался, мы докурили папироски и вышли из угла.
– Откуда, наконец, у тебя такие знакомства, скажи бога ради? – спросил я у него.
Он захохотал.
– А что, ведь недурный экземплярчик?.. это мой друг. Я сошелся с ним на одном презабавном вечере у актера Кронидова. Я ему почему-то понравился, он и предложил мне выпить с ним на «ты». Зачем же мне было оскорблять его? я согласился. Что за беда, что прибавилось одно лишнее «ты»? К тому же он юморист, не шутя. На этом вечере черт знает что происходило и какие рылы были… Уж мне стало страшно, ты можешь себе представить, что такое там было. Я потихоньку уехал, потому что уж начиналось что-то – вроде драки между хозяином и гостем. На другой день в кафе я встречаю этого господина.
– Ну что, – спрашиваю я у него, – ты долго вчера там оставался?
– Да почти что до рассвета, – отвечал он, – после тебя там случилась маленькая неприятность.
– Что такое?
– Одному из гостей рот разодрали. Вышло между ним и другим гостем какое-то неудовольствие, уж из-за чего, не умею сказать… так, недоразумение.
– Ты не смотри на то, – прибавил мне мой товарищ в заключение, – что у него не совсем презентабельная физиономия. Он большой забавник… когда не пьян; жаль только, что он никогда не бывает трезв.
У моего товарища была, между прочим, страсть заводить кружки, во имя чего бы то ни было, и управлять этими кружками. Раз он составил театральный кружок; в другой раз, когда театральство прискучило ему, он составил что-то вроде попечительного комитета о какой-то барышне, которая, бог знает почему-то, ему вдруг понравилась, и он вербовал молодежь в этот комитет, как на дело серьезное… Деятельности-то хочется, а настоящего дела, которому бы легко и весело было отдаться, у нас нет, так поневоле даже самые лучшие из нас развлекаются пустяками, остаются долго духовно малолетними и играют в игрушки в такие годы, когда в других странах люди подвизаются уже с пользою на гражданском и общественном поприще. Оттого на всех наших лучших людях есть отпечаток, если вы вглядитесь в них близко, внутренней пустоты и легкомыслия, даже и в тех, которые почитают себя не без основания глубокомысленными. Товарищ мой, впрочем, не прикидывался ничем, он был во всякую данную минуту самим собою.
Развлекая себя разными выдумками, для того только, чтобы чем-нибудь занять себя, и отдаваясь им с увлечением, он не воображал, однако, что занимается делом, как многие…
Другую такую благородную, открытую, прямую природу, какова была у моего приятеля, мне не удавалось встречать в жизни, несмотря на то, что я прожил полжизни. Многие из глубокомысленных легкомысленно называли его пустым, добрым малым, видя его постоянно веселым; они считали его неспособным к мысли и к делу; неспособным видеть себя и задумываться над самим собою; но они жестоко ошибались. На товарища моего нередко находили минуты тяжелого и грустного раздумья, когда человек строго спрашивает у самого себя: сделал ли я хоть что-нибудь, чтобы носить имя человека не как пустое и незаслуженное титло, а по сознанию и праву? И он усиливался бороться с самим собою и с средою, тяготившею его; но эту борьбу видели только самые близкие к нему по сердцу и по убеждениям. Все слабости и недостатки этого человека прилеплялись к нему от этой среды; все прекрасное, благородное и светлое выходило из его чистой и прозрачной натуры, и часто, глядя на него, я думал, что из него мог выйти дельный и серьезный человек, если бы он родился в другой, более широкой среде, в другом, более серьезном обществе…
Увлекшись моими воспоминаниями, – а товарищ мой принадлежит к лучшим моим воспоминаниям, – я, может быть, вдаюсь в излишние подробности, ненужные для этого рассказа. Впрочем, что за беда? Листок из воспоминаний – не художественное произведение. Я пишу, как пишется, не имея ни малейшей претензии на художественность, на чистое искусство, на творчество и тому подобное.
Говоря откровенно, я даже не совсем понимаю, из чего так хлопочут защитники чистого искусства и художественности? Сколько бы они ни заботились об нас, по доброте души своей, они из нас, простых писателей, не сделают художников, и как бы мы сами ни желали угодить им, как бы мы ни усиливались превратиться в творцов, все наши усилия останутся не только тщетными, но и смешными…
Мы с товарищем начали наш обед вдвоем, но скоро к нам присоединились еще два наши приятеля, или, вернее, приятели моего товарища: полный, высокого роста адъютант, говоривший густым басом, страстный любитель цыган, лошадиный барышник, выпивавший баснословное количество вина, и молоденький кавалерийский офицер, с маленькими усиками и с несколько изысканными манерами, военный фат. Товарищ мой, как магнит, привлекает к себе; все так и льнули к нему, зная, что где он, там всегда весело.
Своим добродушием и симпатичностию он смягчал самых гордых и недоступных господ и заставлял смеяться людей, которые никогда не улыбаются. Обед наш был по милости его очень жив и весел. Из отдельной комнаты, рядом с нами, к концу нашего обеда послышались веселые восклицания, крики и, наконец, женский голос, напевавший всем очень хорошо известные французские куплеты, которые обыкновенно поются, когда общество доходит до известной степени веселости.
– Мишка! кто тут в комнате рядом с нами? – спросил адъютант у служившего нам молодого татарина.
– Заказной обед, ваше сиятельство, – отвечал татарин.
– Тебя, дурак, не спрашивают, какой обед, а кто обедает? – возразил адъютант.
Татарин улыбнулся.
– Господин Пивоваров с приятелями, – сказал он после минуты нерешительности.
– И с приятельницами, – прибавил адъютант.
– Это, наверно, Луиза, это ее голос, – сказал изнеженный офицер, поводя рукой по своим усикам.
– Что это за Луиза? – спросил грубо адъютант, искоса взглянув на изнеженного офицера.
– Как будто вы не знаете? – отвечал он по-французски, – та, которая жила с Границыным.
– Я, батюшка, с вашими француженками знакомства не веду. Черт бы их побрал!
Этой сволочи здесь много… А этот Пивоваров, кажется, уж начинает покучивать на будущие блага, на капиталы бородача – своего дедушки!
"Э! – подумал я, – да это должен быть мой старый знакомый Вася".
– Терпеть не могу, – продолжал адъютант, – этих купчиков-франтов… Саша, ты знаком с ними? Ведь ты со всем миром знаком?.. а?
Адъютант обратился к моему товарищу.
– Это мой друг, – отвечал он улыбаясь.
– Ну уж коли твой друг, так должен быть хорош. Знаю я твоих друзей-то! У него, я вам скажу, такие друзья, – продолжал адъютант, обращаясь ко мне, – с которыми ночью не дай бог встретиться. А майор Астафьев что?
– Что же, – ничего. Он не друг мой, а только protege.
– Хорош протеже! Из кабака не выходит!.. Полно скрываться-то, признайся, ведь вы кутите вместе.
И адъютант при этой шутке любезно улыбнулся.
– Ты не смейся над майором Астафьевым, – возразил мой товарищ, – это милейший и забавнейший из людей; в свое цветущее время он был седюктёром и франтом, у него еще и теперь остались следы этого; несмотря на то, что у него вся физиономия отекла и налилась, он все еще иногда завивает виски и фабрит усы; манеры у него до сих пор, когда он не очень пьян, самые галантерейные, он беспрестанно отпускает французские фразы: экскюзе пур деранже или вроде этого, носит фуражку набекрень и выставляет локти вперед, словом, он мил необыкновенно. Ты бы посмотрел, как он расшаркивается перед дамами!..
– И он этому пьянчужке, за то что он дамам хорошо раскланивается, пенсию выхлопотал! – перебил адъютант, посмотрев на нас.
– Что ж такое? Я и тебе выхлопочу пенсию, когда ты сопьешься, – возразил мой товарищ.
Адъютант захохотал, ударил его по плечу и воскликнул: "Ах ты, Сашка!" – вероятно, за неимением более остроумного восклицания.
– А знаете, – сказал изнеженный офицер, прищуривая глазки, – у этого господина, который возле нас обедает… как вы его зовете?..
Офицер остановился, как будто вспоминая фамилию. Адъютант сурово посмотрел на него и сказал:
– Пивоваров… К чему перед нами тону-то задавать: ведь вы очень хорошо помните его фамилию.
Изнеженный офицер несколько смутился.
– Pardon, я, право… – отвечал он, запинаясь, – в самом деле я забыл его фамилию… да… так у него… вы видели, серый рысак, чудо! первый в городе!
– Точно, что лошадь добрая, – возразил адъютант, – я его по этой лошади-то и знаю.
Да что, он охотник, что ли, до лошадей? Ты, Саша, должен это знать в качестве его друга.
– Какое – охотник! Он, кажется, столько же толку знает в лошадях, сколько я…
– Ну, это немного, – перебил адъютант.
– Ему сказали, что первый рысак в городе продается, – продолжал мой товарищ, – так он сейчас и купил его для того, чтобы весь город кричал, что у него первый рысак и чтобы прохожие по Невскому разевали рты от удивления, когда он летает на нем сломя голову, а кучер его как безумный кричит во все горло: "Пади! пади!" Все это, батюшка, делается из тщеславия. Какая-нибудь Луиза сделает ему или его рысаку глазки – он на целый день и счастлив. Ему хочется во что бы то ни стало, чтобы его замечали и чтобы об нем говорили. Хоть он мой друг, но я должен по справедливости заметить, что из него большого толку не выйдет. Из него выработывается настоящий тип и в огромном размере, – потому что он наследует миллионы, – этих кутил-купчиков, которых развелось у нас так много. Они все воображают, что их деды и отцы наживали и скопляли капиталы для того только, чтобы они их глупо проматывали, и что они умнее и образованнее своих отцов и дедов, потому что одеты по последней парижской картинке.
– Ты меня, братец, познакомь с ним, – перебил адъютант, – не продаст ли он эту лошадь? я бы у него, пожалуй, купил ее, или, пожалуй, мы променялись бы; я бы дал ему славного рысака, не хуже его… так же бы разевали рты, когда бы он на нем прокатывался по Невскому… А что, он любит выпить?
– Пьет сильно и также из хвастовства.
– Ну, это хорошо, – заметил адъютант, – пошли-ка за ним Мишку… пусть он его вызовет оттуда на минутку от твоего имени, а как он придет сюда, ты его познакомь со мною.
– Пожалуй.
Мишка был послан за Пивоваровым.
Господин Пивоваров не заставлял себя долго ждать.
Я не без любопытства посмотрел на него, когда он вошел в нашу комнату. Ни одной черты от детства не осталось у него. Он был худощав и бледен, все лицо его было в угрях, глаза, которые были голубыми в детстве, побледнели и превратились почтя в серые, они были выпуклыми и имели мало выражения; белокурые его волосы были завиты и тщательно расчесаны, точно как будто сейчас выскочил из парикмахерской; одет он был франтовски, но без вкуса: в бархатном клетчатом пестром жилете и в пестром галстуке, на одном из его пальцев было колечко с большим брильянтом; он казался очень занятым своею особою и как будто постоянно думал о том, какое впечатление он производит на зрителей: понравился ли им его жилет? обратили ли они внимание на его брильянт?.. нашли ли хорошими его манеры? и прочее. От этого он был не совсем ловок и как-то стеснен в своих движениях.
– Я узнал, что ты здесь, и хотел тебя видеть хоть на минутку, – сказал мой товарищ, – извини, что я тебя вызвал.
– Помилуй… ничего… я очень рад, – отвечал внук миллионера, охорашиваясь и поглядывая на нас.
– Хочешь шампанского?
Товарищ мой налил бокал и поднес ему.
– Мерси… – Внук миллионера взял бокал и прибавил: – я, впрочем, уж так много пил! Мы здесь обедаем вчетвером и уж выпили бутылок восемь.
– Ничего, это не вредно! – заметил адъютант.
– Ах, кстати, – сказал мой товарищ, указывая на адъютанта, – вот князь Ртищев. Он желает с тобою познакомиться… – Пивоваров, – прибавил он, указывая на внука миллионера.
Адъютант протянул ему свою широкую руку. При имени князя лицо внука миллионера вдруг просветлело.
Он произнес не без волнения: "Очень рад, очень рад!" – и поспешил вложить свою руку с брильянтом в руку адъютанта с ощущением наслаждения, которое выразилось во всей его фигуре и бросилось бы в глаза даже и не наблюдательному человеку.
– Посидите-ко с нами, – сказал адъютант, слегка придвинув к себе стул и указав на него внуку миллионера.
Он сел.
– Бутылку редерера и чистый стакан! – крикнул адъютант.
Он налил полный стакан ему и себе и сказал:
– Ну, чокнемтесь.
Внук миллионера взял стакан, чокнулся с адъютантом, отпил немного и поставил стакан на стол.
– Это что! – воскликнул адъютант, – со мной эдак не пьют, батюшка, нет! этого я не люблю.
Внук миллионера начал извиняться и отговариваться восьмью бутылками, выпитыми вчетвером.
– Мне до ваших восьми бутылок никакого дела нет. Я предлагаю вам выпить со мной.
Внук миллионера выпил стакан.
Через десять минут в бутылке не оставалось ни капли, хотя ни я, ни товарищ мой, ни изнеженный офицер не пили. Глаза у внука миллионера совсем посоловели, он уж совершенно дружески разговаривал с адъютантом и, кажется, даже выпил с ним на ты.
Адъютант ловко завел с ним речь о лошадях. Внук миллионера начал хвастать своим рысаком, адъютант возражал, что действительно это лошадь хорошая, но вовсе не из первых в городе; что у него есть гнедой рысак, который не хуже, если не лучше, и в заключение пригласил к себе внука миллионера на другой день посмотреть его.
Внук миллионера вышел от нас, кажется, совершенно счастливый мыслию, что известность его растет с каждым днем и что им даже начинают интересоваться князья, и совершенно пьяный, потому что он даже спотыкался и пошатывался.
Через два дня после этого я и товарищ мой встретили на улице адъютанта.
– А знаете ли, господа, что пивоваровский-то серый рысак уж мой. Я применялся, отдал ему своего гнедого да еще придачи взял. Этот франт просто ничего не смыслит в лошадях, а туда же прикидывается знатоком, хвастает и порет такую дичь, что уши вянут.
Он глуповат немножко, а малый добрый!..
III
После этого я несколько раз встречал внука миллионера в ресторанах, на улицах, на гуляньях; моему товарищу вздумалось раз как-то при удобном случае представить нас друг другу, но я не счел нужным воспользоваться его любезным приглашением. Наше знакомство ограничивалось только поклонами и иногда несколькими словами при встречах. Товарищ мой также был у него всего раза два или три, не больше, но мы знали все подробности его жизни, все его приключения, как коротко знакомые. Вот каким образом: к моему товарищу захаживал очень часто некто Иван Петрович Подшивкин.
Этот Иван Петрович, – человек лет сорока, маленького роста, с беглыми, небольшими, двусмысленными глазками и с вечно угодливой и заискивающей улыбкой на губах, был сын обанкротившегося богатого купца; Прохор Кононыч похоронил его отца на свой счет, потому что у покойника не оказалось ни полушки, дал у себя в доме комнатку его вдове и определил ее сына, которому было уже лет двадцать пять, к себе в контору. Но сын этот оказался к делам совсем неспособным и из рук вон ленивым: он даже в контору никогда и не показывался. Прохор Кононыч знал все это, но он махнул рукой, произнес: "Ну, бог с ним", – и велел продолжать выдавать ему жалованье. Таким образом Иван Петрович прожил пятнадцать лет у Прохора Кононыча, получая небольшое жалованье по его милости и снисходительности. Он всякий день шлялся по гостям, потому что сохранил связи со всем петербургским богатым купечеством, ел, пил, веселился на чужой счет и отплачивал за это шуточками, прибауточками и балагурством, смешанным с низкопоклонством. На всех купеческих именинах, свадьбах, крестинах, похоронах, рожденьях, банкетах он был непременным лицом; он забавлял бородатых миллионеров разными паясническими выходками; переносил сплетни их женам; был на посылках у их дочерей; пил с их сынками и оказывал им различные услуги, особенно по части прекрасного пола, и умел везде поставить себя хотя невидным, но необходимым лицом.
Таким образом, Иван Петрович жил припеваючи, получая от всех подачки чем ни попало: деньгами и вещами.
Где и каким образом познакомился с ним мой товарищ, я не знаю, только он удостоивал его своего расположения, потому что считал его забавным, хотя я, признаться, ничего не находил в нем забавного. Иван Петрович рассказывал обыкновенно моему товарищу различные анекдоты из купеческого быта, с ужимками и прибаутками, а товарищ мой слушал его, лежа на диване с сигарой, и хохотал от всей души. Вася Пивоваров был главным его героем. Он благоговел перед ним.
– Ну что, Иван Петрович, скажите, – бывало, спрашивал его мой товарищ, – занимается ли ваш Вася хоть сколько-нибудь коммерческими делами? понимает ли он в них хоть что-нибудь?
– Помилуйте, – отвечал Иван Петрович, – зачем же нам этим заниматься-с? Мы рождены, собственно, для того, чтобы по Невскому на рысачках кататься! Впрочем, это я только так, для рифмы соврал, а мы все знаем, всем занимаемся-с, кассирские должности исполняем и дедушке в глаза пыль пускаем. Старик-то нам немножко мешает, а то бы мы такого форсу задали, что…
Иван Петрович сжал губы и свистнул.
– Что ж, впрочем – и теперь об нас все говорят – куда ни обернешься, только и слышишь: какой рысак у Василья Прохорыча! Какая коляска!.. какая мебель!.. – и точно что… (он взглянул на меня и указал на моего товарища) вот они видели нашу мебель: пате, консольки, козеточки, эдакие, натощак и не выговоришь такие названия; ковры, шелки, бронзы – есть от чего ахнуть. А вина-то какие, – а метресочки-то! Господи, боже мой! Я прошедший раз гляжу на Луизу Карловну… она эдак лежит на диване, как султанша какая, да ножкой болтает, – просто чудо! – "Позвольте, я говорю, Луиза Карловна, мне, недостойному рабу, хоть к башмачку-то вашему или к чулочку моими грешными губами прикоснуться…" А она, знаете, спрашивает по-французски: что, говорит, он врет? – а сама смотрит на меня, улыбается, да еще пальчиком грозит, – такая, ей-богу! то есть, кажется, прилег бы к ее ножке щекой, замер и испустил бы тут же дыхание, и в голову бы не пришло, что другие женщины существуют на свете, а мы – нет-с, как можно! Нам одного цветочка мало; мы, как пчелы, с цветка на цветок перелетаем, никаким не пренебрегаем, и на чертополох садимся, отовсюду медок высасываем, а из нас денежки высасывают… Да что! нам деньги нипочем! У нас деньги, как щепки. Хоть у нас-то их и не слишком многос, да ведь мы наследники, а у дедушки-то у нашего подвалы чистым золотом завалены…
Нам не то, что другим-с; в случае нужды деньги достать все равно, что стакан воды выпить. Отовсюду сбегутся благоприятели… сейчас сколько угодно достанут, благодетели, пятьдесят на сто; деньги нам дают да еще нам же в пояс кланяются. Экая жизнь-то подумаешь – блаженство! Намедни утром лежит на диване в турецком халате, халат-то из тысячной шали скроен, шелковые шаровары, – потягивается, позевывает да лениво покуривает. Головка-то в тумане еще… всю ночь напролет прожуировал, а я смотрю на него да улыбаюсь.
– Чего, говорит, ты смеешься?..
– На вас, говорю, Василий Прохорыч, радуюсь. В сорочке, я говорю, вы родились.
– В самом деле?.. – и сам улыбается… – а что, говорит, я думаю, точно, многие мне завидуют?
– Да как же не завидовать-то! Кому же завидовать, как не вам?
– Это, говорит, все вздор; теперь мне завидовать еще нечему, а вот как я буду сам себе господин, так уж тогда я покажу себя; весь Петербург, говорит, ахнуть заставлю. Вот ты увидишь!
И точно: вы посмотрите, как мы тогда заживем. Уж никто так, как Василий Прохорыч, не сумеет пыль пустить в глаза: умница-то ведь какой! ловкий, молодец!..
Посмотрите, как в театр войдет, или в коляску сядет – подумаешь, что князь какой. Я из нашего-то сословия почитай что всех богачей знаю, из молодых-то, да нет-с, куда им! далеко до нашего Василья Прохорыча! тех же щей, да пожиже влей. Супротив него у нас никого нет. Вот кричат про Мыльникова, сына Петра Касьяныча – да ничего в нем особенного нет и по-французски не говорит, даром что француженку содержит, пантомимой с ней объясняется, как в балете, ей-богу, смех смотреть… Она ему просто вот какие, оленьи рожищи подставляет и смеется еще над ним, а он ничего не понимает, напьется, глаза, знаете, эдак посоловеют, станет перед ней на колени, мычит что-то и сердится, что она его не понимает, бьет себя в грудь, плачет… Куда ему против нашего! Я его часто вижу вместе с Васильем Прохорычем. Говорить ли о чем начнут – уж наш непременно его забьет, пить ли – ваш перепьет, на рысаках ли перегоняться вздумают – наш обгонит. А вот теперича он съездит за границу-то, да вернется назад. Форсу-то там еще более понаберется, тогда и не подходи к нему; пожалуй, Что еще и на княжне какойнибудь женится. Англичанин будет настоящий. Ведь правду я говорю, Александр Григорьич?..
– Правду, правду, – отвечал, смеясь, мой товарищ, – ну, а скажите, Иван Петрович, дедушку-то своего он любит?
– Господи боже! да как же такого золотого дедушку не любить. Да и дедушка-то в нас души не слышит, только старики-то ведь ворчуны, ну и наш ворчит, что мало делом занимаемся. Он умница, даром что с бородой и сапоги сверх панталон носит, но бедовый старик!.. у него все по струнке ходят, пискнуть перед ним никто не смеет, а уж к внучку слаб, больно его любит, потому что он у него один наследник, сквозь пальцы смотрит на него, да еще старик-то, признаться, и мало знает наши проделки… Если б он все узнал, просто, как ни любит, а беда бы была… А что, на прощальном-то обеде вы у нас будете, батюшка Александр Григорьич? Через месяц уж Василий Прохорыч непременно уедут за границу. Теперь начинаем приготовляться к отъезду. Приезжайте, приезжайте: обед будет на славу, пожалуй, и птичьего молока для вас достанем, это нам нипочем… А скучно будет без Василья Прохорыча!
Иван Петрович вздохнул.
Через месяц, на другой день после этого прощального обеда он прибежал к моему товарищу в ту минуту, когда я только что вошел к нему. Иван Петрович был в восторженном настроении.
– Ах, боже мой! Александр Григорьич, скажите, как это вам не грешно, вчера-то вы у нас не были! Как же это можно! – восклицал он, с сверкающими глазами и размахивая руками…
– Что делать? не мог, я был не очень здоров.
– Да что не здоровы! как не могли, помилуйте! Ведь что было, то есть, этого и представить себе невозможно! Для такого банкета со смертного одра можно было встать, ей-богу… Вот я вам принес списочек блюд… вот извольте… прочтите… это на удивленье!
А десерт-то какой!.. Клубника, земляника, малина в полпальца величины – теперь-то вы можете себе вообразить! Вин – это просто разливанное море… обедало всего человек двадцать, а выпито пять дюжин одного шампанского; после обеда пошли ликеры, заварили жженку с ананасами… Я, знаете, в свою жизнь часто бывал на парадных, хороших банкетах, а уж ничего подобного не видал… Теперь воображению представится, так слюнки потекут. Право. Много было из знатных особ, – вот князь Ртищев… Уж как он всех распотешил нас. Эдакий молодчина! Наш-то насчет выпивки мало кому уступает, а уж против их сиятельства – пас… Ну, да и то сказать, куда же с ними тягаться: в плечах косая сажень, рост какой, как заговорят, так своим голосом всех и покроют, пляшет как! – нечего сказать: настоящий князь! Взгляд эдакой, жест повелительный, орел, да и только, и не нужно говорить, что князь… Стоит посмотреть на него, сейчас догадаешься. После жженки как закричит: "К цыганам! слышите? Сейчас же все до единого!" Я было хотел улизнуть да прикурнуть где-нибудь в уголку, потому что ноги-то у меня уж, знаете, подкашивались, а он ведь, подите, какой! сейчас заметил, да за шиворот меня.
– Куда? – говорит, – не сметь отсюда выходить, все к цыганам!
Как он схватил меня, я, признаться, и испугался; эдакий силачина, ведь меня просто, как комара, придавить может.
– Помилуйте, я говорю, ваше сиятельство, куда прикажете, я, говорю, везде за счастье почту быть с вашим сиятельством.
А он, знаете, эдак посмотрел на меня с ног до головы, изволил улыбнуться и говорит:
– Ну, то-то же, смотри, никуда отсюда, все к цыганам, и за другими смотри, чтобы никто не смел улизнуть. Ты мне за всех отвечаешь…
Такой шутник, право!
Вот мы таким манером и нагрянули к цыганам в Новую деревню… Уже первый час был. Все спят. Его сиятельство идет впереди всех предводителем, и кричит: "Эй, вы! вставайте, гости приехали!.." Сам изволил стащить с постели цыганочек-то, которые помоложе… Они кричат, пищат… "Ваше сиятельство, оставьте, мы сейчас…" Шали на себя, платки накидывают, а он-то хохочет… "Живо! говорит… Где, говорит, Матрена! подавайте мне Матрену!" Цыгане-то заспанные, знаете, из угла в угол мечутся, как угорелые, видно уж знают князя. "Сейчас, говорят, ваше сиятельство, все будет готово… не извольте беспокоиться". Начинают помаленьку собираться. Является Матрена… идет, знаете, эта жирная, старая рожа, переваливаясь, да как увидала князя… "А это ты, говорит, забулдыжная голова, спать-то нам не даешь!" Ей-богу, так-таки и говорит… А князь-то ей:
"Ах ты, старая, говорит, ведьма, чего разоралась-то! Ну, обними меня и поцелуй". Та обняла его и давай целовать; мы так все и покатились со смеху. – "Ну теперь, говорит, пошла, довольно", – и рукой ее эдак, знаете, взад… и потом обернулся к цыганам. "А вы, говорит, чего смотрите? Шампанского подавай!.." Господи! я думаю про себя, да что ж это? Уж, кажется, пили, пили, а теперь еще! что же это будет с нами! Князь-то шутить не любит… Вот-с началась попойка и песни… Маша заливалась, как соловей, весь хор пел на славу, Матрена просто выходила из себя; видно, что они все из кожи лезли, чтобы отличиться перед такими гостями: ведь наш-то и на них сажал деньги, они его знают, да и кто ж, правда, его не знает?.. Вдруг как князь-то вскочит, да как закричит: – "Ну веселую, плясовую – да живо! Матрена, пройдемся-ко", – и мигнул Матрене. А сам с себя сюртук долой и пошел, пошел: ногами семенит, плечами поводит, да потом вдруг вприсядку, гикает, кричит, размахивает руками, а пот-то с него так градом и льет.
– Ну, говорит, черт возьми, довольно с вас! Устал как собака, – и вытерся рукавом рубашки, – теперь, говорит, пойте что хотите, – и лег на диван. А там и пошла песня за песней, и после каждой песни разливка, вино-то теплое, в душу не лезет, и смотреть-то на него гадко: вспенится и польется через на жестяной поднос, и поднос и стол-то грязный такой, и грязь кругом. А князь – ничего… Ну знаете, к концу-то он поосовел немножко, призамолк богатырь, сидит, обнявшись с Груней и покачивается, а все еще, как нальют бокалы, кричит «пей», но уж не таким твердым голосом – и сам пьет. Потом пошли эти величанья… Маша сама обходила с подносом. Как дошло до нашего-то, как Маша остановилась перед ним, кланяясь и желая ему счастливого пути (уж они, шельмы, проведали, что он едет за границу), он кивнул мне головой…
– Ваня, говорит, – уж язык-то у него чуть ворочается, а я-то, знаете, уж пить тут не мог, возьму, знаете, бокальчик да в горшок с еранью, благо князя-то нечего бояться было, ну так я был потрезвее, – Ваня, отыщи, говорит, у меня бумажник в кармане, вынь пятьсот рублей, положи на поднос.
Вынул, положил, так нет! не унялся – видите, еще мало показалось – вынимает из кармана лобанчики и кидает, а ведь они такие жадные, ненасытные. Им сколько ни давай, все мало. Домой-то мы воротились часов в семь. Уж я сокровище-то наше всю дорогу держал на руках, он совсем ослабел, я берег его, как сосуд какой-нибудь хрустальный.
Нельзя же: ведь он у нас избалованный, изнеженный такой.
Смотря на этого балагура и слушая его рассказ, я был убежден, что он выпустил из него некоторые подробности, касающиеся до себя, а именно, что часть денег, назначенных ненасытным цыганам, он, пользуясь удобным случаем, перевел в свой карман. По крайней мере он производил на меня своею особою такое впечатление. Я сообщил это замечание моему товарищу, но он по доброте сердца никак не соглашался с этим и уверял, что господин этот хотя и шут, но малый честный…
На пароходе, на котором отъезжал за границу внук миллионера, отправился, между прочим, один мой знакомый. Я провожал его до Кронштадта и был невольным свидетелем проводов внука миллионера. Его провожали наш знакомый – Иван Петрович; купеческий сын Мыльников – франт, кутила и лихач, явно усиливавшийся во всем тянуться за Пивоваровым; толстый господин, очень важно державший себя, имевший тип биржевого маклера; еще другой господин с выверченными ногами, неопределенных лет от пятидесяти пяти до шестидесяти пяти, всем известное в Петербурге лицо – нечто вроде ублюдка от жида с обезьяной, говорящее на всевозможных языках и исправляющее всякие факторские обязанности, и, наконец, Луиза, вся обернутая в драгоценную турецкую шаль.








