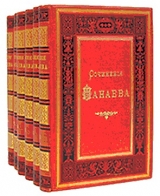
Текст книги "Очерки из петербургской жизни"
Автор книги: Иван Панаев
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)
Я и не подозревал, что эти карточки окончательно вооружат против меня его превосходительство, потому что, как уже мне растолковали впоследствии, несмотря на мои преклонные лета, в слабом чине я не мог оставлять ему карточки (карточки только оставляют равные равным), а должен был расписываться на листе, который лежал в торжественные дни в передней его превосходительства. Эти карточки и еще то, что я никогда не поздравлял ни его превосходительство, ни ее превосходительство с днем их ангела и рождения, утвердили окончательно, кажется, его превосходительство в неисправимости моего вольнодумства…
– Жаль, жаль мне молодого человека, – говорил он про меня одному моему знакомому с карьерой, – душевно жаль… Я не ожидал этого от него… Он с этакими какими-то идеями… не служит, отпустил усы, у него какие-то развязные манеры… он вовсе некстати, говоря со мной, размахивает руками… Жаль, очень жаль молодого человека!
Молодой человек! Я грустно вздохнул, выслушав это. Увы! кроме его превосходительства, меня уже никто не называет молодым человеком.
В первый раз, когда его превосходительство увидел меня с усами, он взглянул на меня с благосклонной, но иронической улыбкой и, покачав головой, изволил заметить: "К чему это? это уж напрасно". Но потом, видя мое упорство, ничего никогда более не говорил мне об усах и только смотрел на меня с снисходительным сожалением, постепенно переходившим в некоторую суровость.
Таковы были мои отношения к его превосходительству до той минуты, когда случай заставил меня явиться к нему в виде просителя…
Круг деятельности его превосходительства все расширялся, и он, кроме прежних своих назначений, получил еще новое назначение. В числе новых его подчиненных находился один пятидесятивосьмилетний чиновник-труженик, кормивший многочисленное семейство и старуху мать. Чиновник этот сорок лет служил на одном месте и занимал лет пятнадцать должность столоначальника. Я знал давно и его и его семейство. Он не отличался ни образованием, ни глубиною взглядов, но был трудолюбив, честен, строго исполнял свою обязанность и, по единогласному отзыву всех своих сослуживцев, был весьма полезным чиновником… Прежнее начальство дорожило им. Он получал почти ежегодные вспомоществования из так называемых остаточных сумм, но несмотря на это и на пособия своих дочерей, которые занимались шитьем по заказам, очень нуждался, особенно в последнее время, при увеличившейся дороговизне петербургской жизни. Его звали Кондратием Иванычем Кондратьевым. Кондратий Иваныч никогда не жаловался на свое положение, не ханжил, не заискивал. Честолюбие его не простиралось выше занимаемого им места, и он был в полной уверенности, что умрет на этом месте.
Но его превосходительство, приняв на себя новые обязанности, вознамерился все изменить и переделать в своем новом управлении, не столько по желанию действительных улучшений, сколько потому, чтобы показать миру, что предшественник его был не так деятелен, как он, и не имел таких широких воззрений и соображений, какие имеет он.
Ломка началась страшная. Несколько десятков чиновнических существований вздрогнули за себя и за свои семейства. Его превосходительство беспрестанно изволил говорить: "Я не потерплю этого"… "У меня это не должно быть"… А что такое разумел он под этим, никто не знал… С высоты своей он обратил свое начальническое внимание даже на Кондратия Ивановича, призвал его к себе и лично изволил объявить ему, что по его столу большие упущения. Кондратий Иваныч очень изумился этому, потому что он по совести не знал за собою по службе никаких упущений и с почтительною робостию осмелился заметить это его превосходительству, поставив на вид, что он служит сорок лет в одном ведомстве, пятнадцать лет занимает должность столоначальника и был всегда аттестован с хорошей стороны начальством… Но его превосходительство изволил вскрикнуть: "Мне нет никакого дела до того, как было прежде, но я, сударь, не потерплю никаких упущений, примите ваши меры…" И задал бедному Кондратию Иванычу в три месяца окончить такую работу, которую едва можно было исполнить в полгода. Кондратий Иваныч не спал ночи – и окончил заданную работу к сроку, сдал ее начальнику отделения и ожидал с трепетом решения его превосходительства, скрыв от своего семейства свои служебные неприятности. Начальник отделения через месяц объявил Кондратию Иванычу, что все сделано им не так, как ожидал его превосходительство и что его превосходительство очень недоволен им. У Кондратия Иваныча помутилось в глазах, когда он выслушал свой приговор: он побледнел как смерть…
– Что же это значит? – спросил он у начальника отделения, заикаясь. – Я все исполнил так, как мне было приказано.
– Мне очень больно огорчить вас, – отвечал начальник отделения, – но, кажется, любезный Кондратий Иваныч, его превосходительство прочит кого-то другого на ваше место. Вы должны принять меры.
– Какие же меры? – произнес Кондратий Иваныч, совершенно потерянный. – У меня шесть человек детей, жена, мать… Какие меры?
Кондратий Иваныч в первый раз в течение своей сорокалетней службы произнес перед начальством имя жены и детей.
– Ну, уж как вы там знаете, – пробормотал начальник отделения, – поверьте, я вхожу в ваше положение… Мне вас очень жалко… но…
– Господи! да что же это? – вскрикнул Кондратий Иваныч, схватив себя за голову, и выбежал вон из департамента.
В это утро солнце против обыкновения ярко освещало Петербург. Невский проспект имел вид совершенно праздничный; в цельных стеклах магазинов светились и играли бронзы, хрустали, драгоценные камни; роскошные экипажи быстро летали по торцовой мостовой; тротуары были полны гуляющими; устрицы только что привезли – и привоз был отличный: устричные раковины валялись у дверей Милютиных лавок для соблазна прохожих; в окнах этих лавок в стеклянных шарах плавали золотые рыбки; грудами были наложены только что привезенные из-за границы чудовищной величины груши и прохладительные освежающие гранаты, на полках расставлены были раздражающие вкус страсбургские пироги; за дверьми болтались на гвоздиках вестфальские окорока; на каждом шагу встречались пушистые бобры с удивительною проседью, темные, мягкие соболи, драгоценные шелковые ткани на кринолинах, кружева, блонды, цветы, перья… и вся эта роскошь, освещенная солнцем, действовала на глаз еще раздражительнее, чем когда-нибудь.
Но Кондратий Иваныч не видал ничего этого, в глазах бедного чиновника была ночь, непроницаемый, безвыходный мрак, перспектива скорби и голода… Нестерпимая тяжесть гнула его к земле: на плечах его было восемь существ, требовавших одежды, пищи и теплого угла, а пенсион при отставке едва достанет только на одну пищу такого многочисленного семейства… Кондратий Иваныч переходил через улицу, шатаясь, как пьяный; ноги его подламывались; блестящий экипаж Шарлоты Федоровны обрызгал его грязью, а огнедышащие рысаки ее чуть не задавили его. Он еле добрался до дому и слег в постель. Жена его узнала обо всем случившемся с мужем на другой день и прибежала ко мне. На этой бедной женщине лица не было. Она, заливаясь слезами, передала мне постигшее их несчастие и, зная о моем знакомстве с его превосходительством, умоляла меня съездить к нему и заступиться за ее мужа, упросить его превосходительство, чтоб он не лишил его места.
– Но что же я могу сделать для вас? – возразил я. – Я, точно, знаком с его превосходительством, но неужели вы думаете, что мое ходатайство, как бы оно ни было горячо, может на него подействовать? В глазах его превосходительства я человек ничтожный, незаметный.
Но бедная женщина не слушала моих возражений. Она твердила одно, задыхаясь от слез:
– Съездите, батюшка, попросите, заставьте за себя вечно бога молить! Ведь его превосходительство человек… он отец семейства… расскажите ему о нашем положении, неужели он не войдет в наше положение, не сжалится над нами…
Я был уверен, что не помогу ее горю, но дал ей слово ехать к его превосходительству и употребить все от меня зависящие средства, чтобы возбудить участие его превосходительства к ее мужу. Я тотчас поехал к его превосходительству и не застал ни его, ни ее превосходительства; в другой раз они меня не приняли. Я решился, не откладывая в дальний ящик, отправиться к нему в то утро, когда он принимает просителей. В первый раз с трепетом я входил в переднюю его превосходительства и в первый раз стоял между его просителями в приемной, вздрагивая каждый раз, когда отворялась заветная дверь в его кабинет.
Дверь эта отворялась и затворялась несколько раз. В нее входили и из нее выходили озабоченные господа с бумагами и портфелями в руках, не без любопытства поглядывая на нас; не раз раздавался звонок из кабинета, и мы думали: "Вот, вот наступает минута…" – но этот звонок призывал какого-нибудь подчиненного; подчиненный вбегал, скрывался за дверью, и снова водворялась тишина… У меня делалось волнение от нетерпения, даже биение сердца; я вставал, прохаживался по комнате, подходил к окну, глядел в окно, садился на стул, снова вставал и прохаживался, но его превосходительство не появлялся.
– Видно, вы еще новичок, батюшка? – сказал мне со вздохом и с улыбкой один из просителей, сморщенный старичок, заметив мое нетерпение, – а мы уж привыкли к этому, обтерпелись… Его превосходительство изволит назначать прием в десять часов, а раньше двенадцати никогда не выходит. Что ж делать? занят, видно… дел много.
Наконец из кабинета послышался шум отодвигавшегося массивного кресла. На таком кресле никто не мог сидеть, кроме его превосходительства. При этом шуме курьер и чиновник, находившиеся в приемной, пришли в движение. Затем снова раздался звонок, курьер вошел в кабинет и тотчас же вышел, отворяя дверь и взглянув значительно на просителей. Все просители вскочили с своих мест, обдергиваясь. На пороге дверей показался его превосходительство с своим возвышенным челом и орлиным носом.
Я первый раз видел его превосходительство в такую официальную, торжественную минуту. Он был прекрасен. Горделивая осанка, приподнятая голова и несколько надвинутые на глаза брови выражали глубокомыслие и чувство собственного достоинства и внушали в просителях невольное ощущение страха, а несколько нервические, нетерпеливые движения его показывали, что его превосходительство занят важными делами и что ему долго выслушивать просителей нет времени… Изредка он повторял, не глядя, впрочем, на просителя:
– Покороче, покороче, – в чем дело?..
К просительницам он был вообще внимательнее и, выслушивая просьбу одной молодой дамы в прекрасной лиловой шляпке, даже очень приятно улыбнулся.
Когда очередь дошла до меня, его превосходительство, бросив на меня взгляд, в первую минуту обнаружил как будто изумление, потом произнес:
– А, это вы?.. И вы имеете какую-нибудь просьбу?.. Уж не на службу ли определиться хотите?
И при этом его превосходительство изволил улыбнуться иронически.
Я просил его превосходительство о дозволении мне сообщить ему мою просьбу наедине и прибавил, что я не более как на десять минут обеспокою его.
Его превосходительство немного нахмурился, однако, по мгновенном размышлении, произнес:
– Очень хорошо-с. Пойдемте ко мне в кабинет.
Я, сколько мог, кратко, но в то же время горячо и убедительно изложил дело, представил ему бедственную картину положения Кондратия Иваныча и в заключение обратился к его великодушному сердцу, к которому ни один страждущий не прибегал тщетно. Это я, впрочем, прибавил только для смягчения его превосходительства и для красоты слога.
В продолжение моей речи его превосходительство несколько раз неприятно подергивало. Когда я кончил, он сказал:
– Все это прекрасно, всему этому я верю, но что же вы хотите?
И, не дав мне рта разинуть, продолжал, постепенно разгорячаясь:
– Чтобы я оставлял у себя бестолковых и негодных чиновников потому только, что они народили кучу детей?.. Я не председатель благотворительного общества, и мое ведомство не богадельня! В службе человеколюбие неуместно. Мне нужно не трутней, а деловых людей. Я не потерплю, чтобы под моим ведомством был хотя один винтик слабый или негодный. Вы не служили. Вы этого не знаете… один негодный винтик может повредить действию всей машины. Тут, любезный мой, не фантазии, а дело, практика. И к тому же, признаюсь вам, я не люблю, чтобы вмешивались в мои распоряжения. Я знаю, что делаю… Извините меня, я тут ничего не могу сделать.
Его превосходительство кивнул мне головой в знак того, что он более уже ничего не намерен выслушивать от меня. Несмотря на все мое уважение к званию его превосходительства, при слове любезный мой кровь бросилась мне в голову, и я едва удержался, чтобы не заметить, что такого рода эпитеты он может, если ему угодно, раздавать своим канцелярским служителям и курьерам, а я, как человек, нимало от него не зависящий, не желаю со стороны его превосходительства такого фамильярного обращения, но удержался от такого неуместного замечания и, молча поклонись, вышел из кабинета его.
Участь семейства бедного Кондратия Иваныча сильно тревожила меня, и я, подавив собственное самолюбие, решился сделать еще попытку и отправился к ее превосходительству.
Ее превосходительство приняла меня с свойственною ей сухою благосклонностию и, по обыкновению, спросила о здоровье маменьки.
Я изложил перед нею бедственное положение семейства Кондратия Иваныча, попросил о ее заступничестве у супруга за бедного чиновника и в заключение прибавил, что решился беспокоить ее потому, что мне известно ее нежное и доброе сердце и горячее, христианское участие, которое она принимает в бедных и страждущих. Ее превосходительство отвечала мне, что она очень сожалеет об этом несчастном семействе, что она готова с своей стороны оказать ему пособие по мере сил своих, но что его превосходительству она говорить ничего не будет, ибо положила себе за правило не вмешиваться в служебные его распоряжения.
Вознамерясь испытать все средства, я отправился к старым друзьям его превосходительства, Нефедьеву и Прокофьеву, думая, не возьмутся ли они ходатайствовать за бедного чиновника.
Но г. Нефедьев просвистал мне, по своему обыкновению, что хотя он и пользуется исстари лестным для него благорасположением их пре-ства, но обеспокоивать их пре-ства не решится, ибо их пре-ству неприятно, чтобы вмешивались в его дела, беспокоили их и прочее.
Прокофьев сказал мне с ударениями, с возвышением и понижением голоса:
– Я с удовольствием взялся бы за это, но его превосходительство человек несовременный, он характера упорного и придерживается служебной рутины; у него свои взгляды на все, совершенно несообразные с нашим образованным девятнадцатым веком.
С ним не сговоришь. Он нашего брата, который, так сказать, отрешился от всех этих формальностей, и слушать не захочет…
А Брусков, находящийся тут, перебил его, обратившись ко мне:
– Да вы уж лучше отложите попечение, ничего тут сделать нельзя, я вам скажу наотрез. Вы еще больно горячи и прытки, жизнь-то, милостивый государь, вы мало знаете.
Уж на место вашего протеже определен другой… так, какой-то свистун, похожий на парикмахерскую вывеску, женин племянник… Это место-то для него и очищено…
Известное дело: нельзя не порадеть родному человечку… А вы тут лезете ему в глаза с вашим человеколюбием и правосудием!..
Г-н Брусков был прав. Действительно, как я узнал впоследствии, на место Кондратия Иваныча был определен родной племянник супруги его превосходительства, которому еще при этом дана казенная квартира с отоплением, чем не пользовался Кондратий Иваныч…
Некто, оправдывая его превосходительство в моем присутствии, заметил, что нельзя же держать на службе бесполезных чиновников, принимая только в соображение их престарелые лета и многочисленные семейства, что необходимо сокращать штаты и бесполезную переписку, что это теперь a l'ordre du jour. Это совершенно справедливо, а между тем бедного Кондратия Иваныча, который содержал семь душ, – не существует на свете, и чем будут питаться теперь эти семь душ, – неизвестно…
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОМЫШЛЕННИК
Э! помилуйте, какие литературные промышленники, – перебил я моего знакомого… (Мой предшествовавший с ним разговор не может быть интересен читателям, и потому я не сообщаю его). – Что вы разумеете под литературным промышленником? Все издатели газет и журналов, по-вашему, литературные промышленники, потому что все они рассчитывают на возможно большее число подписчиков и завлекают их перед подпиской различными заманчивыми объявлениями, разумеется, в надежде больших барышей. В каждом, самом идеальном литературном предприятии есть сторона материальная, промышленная, коммерческая…
– Я это очень хорошо знаю, – перебил меня мой знакомый, – я очень хорошо понимаю, что, может быть, самый честный издатель журнала или газеты, человек с благородными убеждениями, с умом, знаниями, желает получить наибольшее вознаграждение за свой труд, – это дело понятное; но такой господин не может назваться литературным промышленником, потому что он не загребает жар только чужими руками, не обсчитывает и не обманывает своих талантливых сотрудников, не эксплуатирует ими.
– Поверьте, в настоящее время, – перебил я, в свою очередь, – торговать чужим умом невозможно, даром теперь никто не работает, эти идеальные времена безвозвратно минули, – теперь литературный труд оценяется не дешево… Нет-с, теперь эксплуатировать не только талантливыми, но и бесталантными сотрудниками трудно…
– Тем лучше, – сказал мой знакомый, – но тем не менее литературные промышленники и эксплуататоры существовали и существуют, только теперь они обезоружены, с прекращением журнальных монополий. В старые годы бывало не так, в старые годы малосовестливый журнальный монополист что хотел делал с своими сотрудниками, потому что от него им уйти было некуда… Да вот я лучше передам вам некоторые материалы для биографии одного из таких монополистов, – я его коротко знаю.
Из этого вы увидите, что такое я разумею под литературным промышленником.
Я назову его хоть Петром Васильичем, из скромности, потому что надобно же какнибудь называть человека. Я познакомился с Петром Васильичем через год после приезда его в Петербург. Петр Васильич находился тогда на службе и пользовался уважением нескольких тупоумных господ, которые без уважения к кому бы то ни было существовать не могут… Эти господа говорили про него: "У! да какой он умница, какой ученый!..
Какую он, говорят, статью написал!" Петр Васильич действительно перевел с французского какую-то статейку о каком-то слабом французском философе и долго возился с ней, придавая ей огромное значение и читая ее своим знакомым – имевшим вес в литературе, которым он был представлен именно вследствие этой статейки. В ту эпоху еще литературные, поэтические и ученые репутации доставались у нас очень легко, так что вследствие своей переводной статейки Петр Васильич прослыл чуть не мудрецом.
Надобно заметить, что этому немало способствовала наружность Петра Васильича.
Выражение лица его было постоянно глубокомысленное, а густые брови несколько надвигались на большие глаза, в которых, казалось, так и сверкал ум. Наружность его была до того обманчива, что, признаюсь, в первые минуты моего знакомства с Петром Васильичем я был также уверен, что он человек глубокомысленный и ученый… Меня вводили в заблуждение именно эти чудно сверкавшие глаза и эта густая, оттенявшая их бровь… К тому же Петр Васильич, по своей натуре, принадлежал к так называемым медным лбам, которые этим лбом всегда удачно пробивают себе дорогу; он говорил отрывисто и резко, задумывался, покачивал строго головою, нередко значительно мычал, словом, имел что-то внушающее и действовал сильно, в особенности на прямые, открытые, но слабые характеры. Даже впоследствии, когда Петр Васильич совсем обнаружился, он внушал нечто вроде страха людям очень умным и образованным, но робким.
После своей переводной статейки, более или менее сблизившись с известными литераторами, Петр Васильич, делавшийся все смелее и смелее, уже попробовал сочинить статейку и назвал ее "Взгляд на Россию". В этом новом произведении своего пера он доказывал, что Россия – шестая часть света, не имеющая ничего общего с пятью остальными и долженствующая управляться собственными законами, не имеющими ничего общего с общечеловеческими законами. Такая оригинальная мысль, несмотря на свою нелепость, понравилась некоторым. Один из этих некоторых, человек очень почтенный и имевший в то время литературное значение, страстный охотник до всего оригинального, хотя бы во вред здравого смысла, взял Петра Васильича под свою протекцию. Этот почтенный и необыкновенно добродушный господин был первою ступенью к возвышению Петра Васильича. Перешагнув ступенью выше и не имея более надобности в добродушном господине, Петр Васильич взглянул на своего благодетеля свысока и с насмешкою отвернулся от него. Известно, что литературные промышленники – люди без сердца. Но под защитою его авторитета Петр Васильич начал издавать литературный листок. О цели, о мысли, о направлении издания в то время мало заботились, да, признаться, и заботиться-то об этом было бесполезно. Сам Петр Васильич не знал, во имя чего он будет подвизаться на журнальном поприще, потому что, кроме остроумной мысли, что Россия шестая часть света, и прочее, у него никакой другой мысли в голове не было, да и эта мысль вовсе не была его убеждением, а так, через других, как-то случайно забрела к нему в голову, и он поспешил воспользоваться ею, собственно, для того, чтобы обратить на себя внимание.
Увидев перед собою впервые кучи денег при подписке и груды пакетов с пятью печатями, Петр Васильич затрепетал от внутреннего удовольствия. Мысль нажиться посредством литературы сознательно блеснула перед ним, когда он подрезывал пакеты и жадными, многовыразительными глазами своими пожирал увеличивающуюся кучку ассигнаций. Как человек аккуратный и положительный, Петр Васильич устроил отлично бухгалтерскую часть, сам вел приходные и расходные книги, не упуская ни одной копейки, и, испытав на опыте прелесть получения и горечь уплаты, мало-помалу начал удерживать от своих сотрудников в пользу собственного кармана сначала копейки, потом рубли, а потом и десятки рублей. Он смотрел на своих сотрудников с некоторым ожесточением и завистью: с ожесточением, потому что им надо было платить деньги; с завистью, потому что его внутренний голос иногда нашептывал ему, что голова его тупа и туга и не способна ни к какому умственному труду. Заглушая этот неделикатный голос, который часто тревожит самые свинцовые натуры в начале их поприща, Петр Васильич в утешение называл своих сотрудников презрительным именем борзописцев, что не мешало ему иногда приписывать себе те из статей борзописцев, которые обращали на себя особенное внимание публики. Удерживать себе частички из вознаграждения, следующего за чужой труд, – дело, конечно, непохвальное и недобросовестное, – но присваивать себе чужую мысль, чужой труд, посягать на ум и познания ближнего, рядиться в чужие блестящие перья, как ворона в басне, – еще недобросовестнее, и я упоминаю об этом грустном для человечества факте только потому, чтобы несколько оправдать человека и показать, до чего иногда может довести его несвойственный ему путь и ложное положение, в которое он по необходимости ставит себя на таком пути. Петр Васильич родился для счетов, для ведения конторских книг, для занятия винными откупами или чем-нибудь подобным. Вся цель его жизни, все его убеждения заключались в деньгах.
Какой-то остроумный англичанин уверял, что весь нравственный катехизис американцев заключается в следующем:
Что такое жизнь? – Определенное время для приобретения денег.
Что такое деньги? – Цель жизни.
Что такое человек? – Машина для приобретения денег.
Это был также нравственный катехизис Петра Васильича. Подобно очень многим, он считал только тех людей гениальными и умными, которые приобретали или составляли себе капиталы какими бы то ни было средствами. Такого рода людей он уважал и внутренне преклонялся перед ними как перед авторитетами. Талант, ум, образование, мысль, без денег и без уменья приобретать, он явно презирал бы, если бы не попал случайно на литературную стезю, где и с огромными капиталами, но без таланта, ума, образования и мысли существовать нельзя. Он понимал это; он чувствовал, что ему надобно было какими-нибудь средствами держаться на высоте своего редакторского величия, что для удержания равновесия ему недостаточно было переводной статейки о французском философе и оригинальной о том, что Россия шестая часть света… и он прибегнул к присвоению чужой невещественной собственности – средство печальное и ненадежное, потому что ведь правда рано или поздно должна была открыться…
Но не бросайте в него камня, читатель. Он нес тяжкое нравственное наказание. Вы не знаете, какая страшная пытка без знаний, даже без простой начитанности, без всякого эстетического вкуса, с одними конторскими способностями, разыгрывать роль литературного судьи, иметь беспрестанные сношения с людьми более или менее талантливыми, начитанными, мыслящими, прикидываться всепонимающим, всезнающим, литератором между литераторами, ученым между учеными и трепетать каждую минуту, чтобы не обнаружить своего безвкусия и невежества; не иметь возможности поддерживать никакого продолжительного серьезного разговора и только от времени до времени повторять с важным видом знатока и с нахмуренными бровями: "Ну да, разумеется, так" или даже просто глубокомысленно мычать!.. Самолюбие, уязвляемое каждую минуту, терзало бедного литературного промышленника и раздражало его желчь, которая, не выливаясь из-под пера, потому что пером он владел плохо, только пятнами выступала на его лице. И какие жалкие меры употреблял, бывало, Петр Васильич для прикрытия своего ничтожества!.. Он заказал себе огромный стол, целое здание необыкновенного устройства с закоулками, башенками, полками, ящичками, и на верхней полке поставил бюст какого-то немецкого философа, но увы! и это остроумное изобретение принадлежало не ему, – он видел подобный стол в кабинете какого-то литератора или ученого; в подражение этому ученому или литератору он заказал себе также какой-то необыкновенный домашний костюм, вроде того, который носили средневековые ученые и алхимики; окружил себя различными учеными книгами, которых он никогда не раскрывал и среди такой обстановки с необыкновенною важностию принялся… исправлять грамматические ошибки в корректурных листах!.. Уродливый стол, алхимический костюм, ученые книги, звание редактора и строгий таинственный и глубокомысленный вид, данный ему природою как бы в насмешку, наводили в первое время некоторый страх на литературных новичков, и Петр Васильич, замечая это, успокоивал на время свое самолюбие. Иногда он решался вступать в краткие и неудачные споры с известными литераторами о каких-нибудь литературных явлениях.
– Это славная вещь, что вы ни толкуйте, серьезное произведение, – говорил он, – тут виден и талант, и наблюдательность, и поэзия… Славная, славная вещь!
– Ничего тут нет, – возражал ему хладнокровно литератор, – произведение это самое посредственное, – и доказывал ему очень ясно, что в этом произведении нет ни таланта, ни наблюдательности, ни поэзии…
– Нет, нет, как можно, – повторял Петр Васильич, – полноте – это прекрасная вещь…
Но обыкновенно через месяц, а иногда и ранее, нимало не смущаясь, об этом самом же произведении и тому же самому литератору слово в слово повторял его мнение, выдавая его за свое собственное.
Такие комические сцены повторялись беспрестанно.
Приобретя чужим умом и собственною аккуратностию небольшие средства, некоторую внешнюю опытность для журнального дела, литературные связи, кредит типографщиков и бумажных фабрикантов и увлекаемый все более и более жаждою приобретения, Петр Васильич затеял обширное издание и вознамерился превратить свой листок в журнал. Он сообщил мне свои планы.
– Все это прекрасно, – сказал я, выслушав его, – но для этого вам необходимо прежде всего приобрести серьезного и дельного человека, с талантом и убеждениями, который мог бы дать цвет и жизнь вашему журналу. Для такого предприятия недостаточно одного громкого объявления с обещаниями и с бесчисленными именами…
– Да, да, да; это правда, – сказал Петр Васильич, нахмурив брови и кивая головою. – Но я, право, не знаю, кого бы пригласить для этого дела?
Я назвал ему человека, обращавшего на себя в то время всеобщее внимание своей умной, энергической и смелой критикой, своим свободным и самостоятельным взглядом и горячими убеждениями, в короткое время приобретшего жарких защитников и ожесточенных врагов.
Петр Васильич замотал с неудовольствием головою и воскликнул:
– Полноте, как вам не стыдно. Что за охота связываться с мальчишкой, не имеющим никакого прочного знания, с пустым крикуном…
Этим и кончился наш разговор. Разуверять Петра Васильича было бы бесполезно…
Он начал свое новое издание, выписав для заведования критическим отделом, который считался тогда самым важным отделом в журнале, своего старинного приятеля, писавшего водевили, куплетцы, повести, стишки и рутинные статейки по части теории словесности, которые Петру Васильичу казались серьезными и учеными статьями.
Петр Васильич принял его с чувством и чуть не со слезами, как будущую подпору своего издания, как средство для увеличения своих подписчиков и доходов, и потому с нежностию прижал его к груди своей.
Прошло несколько месяцев: я уехал из Петербурга… Вдруг совершенно неожиданно в один прекрасный день получаю письмо от Петра Васильича…
Знакомый мой остановился на минуту, достал из своего портфеля письмо и подал мне его.
– Вот прочтите, если хотите, – сказал он, – это материал для истории русской журналистики. Я хотел его отослать к M. H. Лонгинову. В этом письме вы познакомитесь с слогом литературных промышленников. …"Христа ради, писал Петр Васильич, хлопочите сами и подбейте H* и П*, чтобы вырвать у Г* (писатель, пользовавшийся в то время огромным успехом) статью для моего журнала. С* сказывал мне, что Г* через месяц будет в Петербурге. Его статья необходима; надобно употребить все средства, чтоб получить ее. Не пишу к нему сам, потому что эти вещи не делаются через письма, особенно с ним. Растолкуйте ему необходимость поддержать мой журнал всеми силами. Если же он сделался равнодушен к судьбам "российской словесности", чего я и ожидаю, покажите ему вперед за статью хорошие деньги, в которых он, верно, очень нуждается. Если ж ничто не возьмет, то надо дождаться приезда его сюда и напасть на него соединенными силами…








