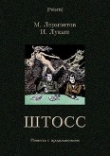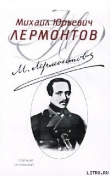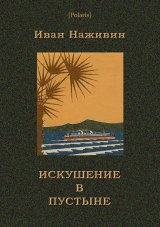
Текст книги "Искушение в пустыне"
Автор книги: Иван Наживин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
– Я должен идти, но… но… я не могу уйти… – очень волнуясь, проговорил Рейнхардт. – Раз навсегда я должен выяснить…
– Я вам все выяснила… – нетерпеливо прервала его Ева. – Я из чувства простой гуманности сдерживалась, но раз дело зашло так далеко, то и скажу вам совершенно определенно: вы внушаете мне непреодолимое отвращение… Вы осквернили невинною кровью самую чистую, самую святую мечту мою, вы… О, Макс, как вы долго!.. – радостно устремилась она навстречу вошедшему Максу.
– Я готовился к завтрашней лекции о Веданте… – отвечал он, здороваясь с ней. – Но мне не хватало несколько книг, – в библиотеке нашей ужасающий беспорядок… Здравствуйте… – не подавая руки, сказал он Рейнхардту.
– Здравствуйте… – сухо отвечал тот. – А о беспорядках это в мой огород?
– Причем тут ваш огород? – пожал плечами Макс. – У нас во всем страшный беспорядок. Несколько ящиков с очень ценными книгами совсем пропали, например. То, что я предсказывал вам, случилось…
– Я что-то не помню никаких ваших предсказаний… – раздраженно отвечал Рейнхардт.
– Я говорил, что палкой прекрасной жизни не творят, что для того, чтобы поднять людей на великую созидательную работу, надо заразить их энтузиазмом и тогда они сделают чудеса, а вы…
– Если бы нам не мешали такие фантазеры и болтуны, как вы, так у нас тоже давно свершались бы чудеса… – запальчиво перебил Рейнхардт. – Вы думаете чрезвычайной комиссии не известно, какую агитацию ведете вы с Арманом против нас? Вы думаете, мы не понимаем, кто поднял движение этих голых идиотов, нарушившее весь хозяйственный строй жизни коммуны? Пожалуйста, пожалуйста, не отрицайте фактов!.. – крикнул он в ответ на протестующий жест Макса. – Я отлично понимаю, что не вы подсказали им эти дикие, истинно-русские формы протеста, но вы заразили этих дураков духом анархизма и презрения к созидательному труду… Но помните: шутить с собой мы не позволим никому!..
– Это что такое? Угрозы?… – вся вспыхнув, воскликнула Ева. – Идите вон!.. Сейчас же…
– Уйду, но… но помните меня… – глухо сказал Рейнхардт, вставая. – Мы не остановимся ни перед чем, раз в наших руках власть…
Ева как бы невольно прикрыла собой Макса и, вся горя негодованием, снова повторила:
– Идите вон!..
Рейнхардт, весь бледный, большими шагами вышел из сада… Ева на мгновение закрыла лицо руками и тихонько проговорила со страхом:
– Да, они способны на все…
– Ну, стоит обращать внимание… – сказал Макс и вдруг, увидав на ее рабочем столике камни, воскликнул: – Что это у тебя? О, какая прелесть…
– Это из пещер горы Великого Духа… – отвечала она, успокаиваясь. – Посмотри, какая прелесть… Какой-то волшебный каменный огонь… Макс?…
– Что, милая?
– Отчего ты не говоришь мне никогда, что ты любишь меня?
– Да зачем же говорить это бледными словами? Разве ты не чувствуешь и так, что вся душа моя, все мысли, вся жизнь – одна сплошная молитва тебе? – отвечал он, опускаясь к ее ногам и целуя ее руки.
– Но сколько сладкой музыки в этих бледных, по-твоему, словах!.. – лаская его, говорила она. – О, говори, говори мне миллионы раз, что ты любишь меня…
– Люблю, мое солнце, люблю, люблю… – блаженно повторял он, ненасытимо любуясь ею и целуя ее руки, колена, платье.
– Максик, не суди меня строго, но я, кажется, очень слабая женщина… – тихо, все лаская его, говорила Ева. – Я должна признаться тебе в очень грешных мыслях… Если бы ты знал, как хочется мне улететь с тобою с этого неуютного острова далеко, далеко… Не сердись, милый, но здесь мы с нашей любовью точно в стеклянной банке какой выставлены… точно мы с обнаженными душами стоим на базаре… Там, в старом мире, можно было быть одиноким и среди миллионов, как в пустыне… Это очень нехорошо, что я говорю, милый?
– Нехорошо… – сказал Макс. – Разве ты думала, что пред тобою легкий путь?
– О, да!.. – воскликнула Ева. – Мне наша новая жизнь представлялась триумфальным шествием среди цветов, – с гимнами, смехом, поцелуями, – помнишь, как тогда, на палубе, в океане?…
– То был момент, прекрасный порыв… Нет, наше дело эго подвиг, тяжелый подвиг…
– О, какой тяжелый!.. – вздохнула Ева. – Эта борьба самолюбий, эти низкие интриги, это деление на повелителей и повинующихся, это приниженное искательство у сильных, как у этого противного Гольдштерна… И посмотри, что я на днях заметила: девушки пошли за цветами и любовно украсили ими свои уголки, и ни одной из них, ни одной не пришла в голову мысль пойти и украсить так нашу общую столовую, так, без всякого повода только от переполненного любовью сердца… И угнетает меня страшное убожество нашей жизни, – не та добровольная, прекрасная простота ее, о которой всегда говоришь ты, а какое-то роковое убожество, какое-то отсутствие таланта прекрасной жизни… Мы много говорим все о каком-то творчестве, но творчество это никогда не начинается. Милый, мечта умерла и что делать, я не знаю…
– Бороться еще… – сказал Макс. – Надо усвоить себе твердо, что пред нами не готовая Земля Обетованная, а тяжкое созидание веси Господней… И те темные явления, которые пугают тебя, родная, это как раз те пропасти, из которых поднимается в лазурь гордая, прекрасная, белоснежная вершина. Пойми и не забывай: нет пропастей, нет и вершин.
– Может быть, это и так, – печально сказала Ева и, оживляясь, мечтательно продолжала: – Но… мне хотелось бы сесть с тобой в маленькое суденышко под белым парусом и по мелким веселым волнам, в которых играют солнечные зайчики, плыть молча, плыть и смотреть в ласковое небо, далеко, далеко плыть… А потом приплыли бы мы – куда, не знаю… – и был бы у нас в горах, среди лесов, свой маленький, беленький, веселенький домик, но свой, свой… И ты писал бы свои стихи, свои прекрасные книги… И было бы хорошо, если бы это было там, на родине, в Европе, – я так люблю ее, и горы ее, и развалины замков, порос-шия барвинком и плющом, и шумные сельские ярмарки с веселой музыкой, и Большую Медведицу над снежными полями, и седые сказки о былом… И были бы мы вдвоем, только вдвоем и ты миллионы раз говорил бы мне: люблю, люблю, люблю тебя…
В сад быстро вошел комиссар с красной перевязью на рукаве и трое конвойных.
– Товарищ Макс, по постановлению чрезвычайной комиссии вы арестованы… – твердо сказал он и, обратившись к конвойным, прибавил повелительно: – Возьмите его…
Голос с далекого севера
Профессор Богданов работал в своей комнате. Пред портретом красавицы благоухали свежие цветы. В океане дремлет крейсер…
В дверь постучали.
– Войдите… – отозвался профессор.
В комнату быстро вошел лорд Пэмброк.
– А-а, милости просим… – приветствовал его хозяин.
– Садитесь… да что с вами? Вы расстроены?
– Да тут черт знает что делается!.. – садясь, воскликнул Пэмброк. – Ваше предсказание сбылось: Рейнхардт арестовал Макса. Ко мне прибежала вся в слезах Ева и сообщила эту новость, умоляя спасти его. Я тотчас же, конечно, отправился к этому негодяю, чтобы потребовать освобождения Макса: в конце концов он ведь германский подданный и…
– Ого, о чем вспомнил, анархист!.. – засмеялся профессор.
– Да ведь нельзя же, в самом деле, рассматривать этот остров, как какое-то суверенное государство, а Рейнхардта и его сообщников, как правительство! Все-таки это только место деликатной ссылки.
– Ошибаетесь, горячий друг мой… – возразил профессор. – С их точки зрения это фундамент, преддверие новой эры, с нашей – лечебница для душевнобольных…
– Во всяком случае одни больные не могут присвоить себе права казнить других больных только потому, что они им чем-то мешают или не нравятся!.. – воскликнул англичанин.
– Да разве не везде так делается? – усмехнулся профессор. – Но скажите между прочим, друг мой, чистосердечно: была ли бы ваша защита так же горяча, если бы… нос Евы был несколько подлиннее?
– Не знаю… – смутился немного Пэмброк. – Но к делу… Прихожу я, взбешенный, туда, – никого!.. Вся шайка куда-то исчезла…
– Уже? – усмехнулся профессор. – Значит, в пещеры устремились…
– А вы разве были там?
– Был… Мы хорошо выпили со жрецами, а потом, когда действие рома повергло их с непривычки в прах, я пробрался в пещеры… Первые две, маленькие, совсем пусты, – только кости каких-то животных белеют на полу, – а в третьей, большой и красивой, сидят три каменных изображения божества, – так, грубое подобие человека с невероятно зверским выражением лица… А пред ними – три больших камня, вероятно, жертвенники… На эти камни я и насыпал алмазов и сапфиров, а потом разбросал их и по земле, по направлению к дальним пещерам, куда ведет очень узкий проход… Ну, а затем вернулся домой…
– Слухи о сокровищах взбудоражили весь остров… – сказал, поблескивая очками, Пэмброк. – Точно что-то темное и пьяное ползает теперь среди людей. Но что нам здесь делать? Еве и Максу помочь надо.
– Торопиться некуда, мой друг… – возразил профессор. – Тем теперь не до Макса. А Максу посидеть за решеткой и Еве поволноваться немножко только полезно – ведь, это и есть курс их лечения. Для чего же мешать ему? А потом мы, конечно, постараемся освободить его… Да, вы знаете, на днях прибывает из Европы пароход? Я вот готовлю отчет за первое полугодие…
– Очень интересно, как вы это написали… – сказал лорд.
– Да так, как есть… – пожал плечами профессор. – Полный развал хозяйственной жизни, грызня разных котерий[4] между собою за власть и не только впереди не видать никаких гордых завоеваний, но и то добро, которое привезли с собою, разматывается и топчется под ноги без всякой пользы для кого-либо. Я сам не ожидал, что результаты скажутся так быстро. Лечение идет настолько энергично и успешно, что значительную часть пациентов можно была бы выписать теперь же и возвратить в обычные условия жизни, но я хочу, чтобы они сами сказали это слово…
– А знаете, мне все кажется, что вы что-то слишком уж холодно относитесь к вашим… пациентам… – заметил Пэм-брок. – Ведь, многие из них искренне и глубоко страдают…
– Дорогой друг мой, я спокоен потому, что знаю, что другого выхода для них нет… – твердо сказал профессор.
– Они должны испить чашу священного безумия до дна и только там, на дне кубка, они увидят простую, казалось бы, истину, что они только неудавшиеся обезьяны, а совсем не боги-олимпийцы, какими они себя вообразили, совсем не Прометеи… Чем жестче опыт, тем скорее выздоровление… И мне иногда даже жаль, что вы здесь, – право, иногда вы очень мешаете им выздороветь…
– Я не такой объективный профессор, как вы… – улыбнулся Пэмброк, вставая. – Ну, до вечера…
– До вечера… – пожал ему руку профессор. – И не очень утешайте прекрасную Еву…
Лорд Пэмброк вышел, но только что профессор взялся снова за перо, как в дверь опять легонько постучали и в комнату вошел Петр.
– Извините, барин, что помешал… – сказал он. – Я хотел только спросить вас, правда ли, говорят, что скоро с родины пароход прийти должен?..
– Да. А что? – спросил профессор.
– Сделайте божескую милость, барин: отправьте меня домой… – сказал Петр. – Сил моих больше нету…
– В чем дело, голубчик? – ласково отозвался профессор, отодвигая отчет. – Зачем тебе домой?
Петр молчал в тяжкой борьбе с чем-то.
– Барин, да ведь вы… ничего не знаете… – едва выговорил он, наконец. – А я… я ведь… убивец… Ведь меня мать-сыра-земля не носит. Вся душа моя выболела…
– Постой, брат… Так волноваться не годится… – сказал профессор. – Давай говорить спокойно и толком… Можешь быть уверен, что никто, кроме меня, беды твоей знать не будет… Кто там? – крикнул он, отвечая на новый стук в дверь. – Войдите… А-а, пожалуйте… – поднялся он навстречу вошедшей в большом волнении Еве.
– Простите… – сказала она, взглянув на сильно взволнованного Петра. – Я, кажется, не вовремя…
– Мне, барышня, ничего… – волнуясь, отвечал Петр. – Я хошь на площади все скажу… И давно сказал бы, да ведь не поймут здесь этого… Здесь еще в ладоши хлопать будут: я убивец, а по-ихнему выходит, что я святое дело изделал…
– Ну, хорошо… Барышня добрая и поймет все, как нужно… – сказал профессор, подставляя стул Еве. – Садитесь… И ты садись… Вот так… – сказал он, сажая Петра за плечи на стул. – Не волнуйся и рассказывай все по порядку…
– Я, барин, из Екатеринбурха сам… – совладав немного с собой, тихо начал Петр. – И в солдатах там служил. А когда матросы царскую семью туда привезли, в караул к ним сколько разов я ходил. Да… И, Господи, что там только делалось!.. И что ни день, то страшнее, – бывало, волосы на голове от страху шевелятся, а отставать от других не моги!.. И поместили их под конец в каморку маленькую, в одно окошечко, и на всех семерых кроватку одну дали по-ганенькую, о трех ножках, железную. Царица-то совсем больная была, так те кровать-то ей отдали, а царь с наследником и дочерьми на полу спал, на грязной соломе, все в одной куче… А мы это за столом сидим, у окошка, махоркой дымим, в карты дуемся, матершинничаем, а как полночь, подымаем всех, быдто, проверку делать и объискивать: и царя самого, и наследника сонного, и царевен… И погано так шарим, нехорошо, чтобы обидно было, горька чтобы было, а в особенности царевен, девушек… Иной раз какая так вся и вспыхнет… Да… И оборвались все они, загрязнились, исхудали, и глаза у всех сделались страшные-страш-ные, большие такие… А потом… велели там… енти… прикончить чтобы всех совсем… И должно быть, почуяли они конец свой… Смотрю, царевна Ольга… вся исхудалая, точно насквозь вся светится… достала откуда-то клочок бумажки и на коленках пишет что-то, – подумает, подумает и еще попишет, а у самой слезы из глаз катятся… И на меня посмотрела этими глазами своими, – не выдержал я, отвернулся… Ну, велели всех их в подвал вести. Да. А вокруг это солдатня пьяная, похабство… Государь, видно, понял, побелел весь, прижал мальчика к себе… и тот беду чует, так весь и трепыхается… а царь гладит его по головке, целует, говорит что-то тихонько… царица на грязном полу бьется… волосы седые на себе рвет… царевны трясутся, плачут… Господи, Господи, сил моих нету!.. И давай те… из левольвер-тов… всех, в упор… Да… А потом свалили всех… на телегу… увезли за город… на пустырь… и… жечь давай… Прибежал я, себя не помню, назад – зачем, уж и не знаю… ополоумел… – смотрю, бумажка ее в соломе запуталась… Поднял я ее и… и… вот… – едва выговорил он и подал профессору клочок мятой бумаги.
Профессор заглянул в написанное. Лицо его омрачилось. Петр, закрыв лицо руками, трясся, не в силах выговорить ни одного слова.
– Вся душа кровью облилась… – едва слышно сказал он. – И… убежал я от их… В лесах, в монастырях скрывался… молился… постом изводил себя – нет, не легчает сердцу!..
И когда прошел слух что собирают всех большевиков на вывоз, объявился и я, – думал я, наказанье отбывать. А тут эаместо того шеколад, бисквиты… баловство всякое… Отпустите, барин, домой, – приеду, повинюсь, пущай в каторгу пошлют, пущай казнят, а так… не могу… я… Как вспомню я эти… глаза ихние… страшные… понимающие, в душу смотрят… как она на коленках пишет… не могу, нет… Лучше руки на себя наложить…
– Хорошо, ты поедешь, голубчик… – тихо сказал профессор и, подняв на солдата испытующий взгляд, продолжал: – Но я советовал бы тебе об этом никому не заявлять. Это было давно, искать тебя никто не будет, ты можешь жить спокойно и честно трудиться. Какой толк теперь в твоем заявлении? Ведь тех несчастных ты все равно не воскресишь… А на обзаведение и на дорогу возьми вот несколько этих камней – ты слыхал ведь о них? Продашь и на всю жизнь будешь обеспечен… – говорил он, доставая из ящика стола алмазы. – Ты славный парень и я рад помочь тебе…
– Не понимаете и вы меня, барин… – встав, с тоской проговорил Петр. – Не спокоя ищу я себе, а страданья, креста ищу, чтобы искупить страшный грех свой… И не нужны мне ваши камушки… Спасибо за доброту вашу, а только ни к чему мне это…
– Ну, хорошо… – сказал профессор задумчиво. – Готовься к отъезду… И, если что будет нужно, ты скажешь мне, и я все сделаю… А эту бумажку подари мне на память…
– Возьмите, барин… Только сделайте милость, не… показывайте ее тут никому… Не понимают тут люди этого… надсмеются еще… Благодарим покорно, барин, что… не погнушались… Я уж пойду… Низвините, барышня… – поклонился он Еве, не подымая глаз, и вышел.
– А что там… на бумажке?… – взволнованная, сказала Ева.
– Ее молитва… стихи… – тихо отвечал профессор. – Вот послушайте… – прибавил он и прочел:
Пошли нам, Господи, терпенье
В годину буйных, мрачных дней
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей…
Владыка мира, Бог вселенной,
Благослови молитвой нас
И дай покой душе смиренной
В невыносимый, страшный час!
И у преддверия могилы
Вдохни в уста твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молиться кротко за врагов…
[5]
Наступило взволнованное молчание.
– Да, – проговорил тихонько профессор. – Рай, а на пороге его обгорелый труп невинно замученной, чистой, хорошей девушки… И все это наделала ваша мечта о золотом веке!..
– Не добивайте меня, Борис Николаевич… – грустно сказала Ева. – С меня уж и так довольно. Мечта – умерла.
– И слава Богу… Вы пришли, конечно, относительно Макса… – помолчав, сказал профессор. – Конечно, мы добьемся его освобождения. А на днях приходит из Европы пароход – забирайте его и поезжайте с Богом домой…
– О, если бы он только захотел!.. – тоскливо пролепетала Ева.
– Будем уговаривать… – усмехнулся профессор и, вдруг спохватившись, прибавил: – Да, а я еще должен просить у вас прощения…
– В чем?
– Камни, которые я вам поднес, фальшивые…
– Как? – широко раскрыла глаза Ева. – Зачем же вы это сделали?
– Мне нужно было испытать ими Рейнхардта да и других…
– О, зачем вы это сделали?!.. – с упреком сказала Ева.
– Посмотрите: все ходят, как отравленные. И Бог знает еще, что может выйти из всего этого… О, как неосторожно вы поступили!..
– Вы решительно заражаете меня вашей тревогой… – немножко смутившись, сказал профессор. – В самом деле, я, кажется, поступил неосторожно…
Дверь вдруг широко распахнулась и в комнату влетел весь бледный Арман. Увидав Еву, он разом осекся.
– Что такое? Что случилось? – воскликнули профессор и Ева вместе.
– Так… ничего особенного… – пробормотал он. – Впрочем… все равно, не скроешь… У нас большое несчастье: Макс – убит.
– Не может быть!.. – вскочив, воскликнул профессор.
– Макс? Вот вздор… – пролепетала Ева, вся побледнев.
– Расстрелян… – подтвердил Арман. – Дети пошли в лес за цветами и нашли его тело на опушке…
Профессор хмуро опустил голову. Ева долго смотрела широко открытыми глазами на Армана, потом вдруг точно подломилась и без звука упала мимо кресла на пол. Легкий ветерок, ворвавшись в комнату, сдул со стола бумажку со стихами Великой Княжны и она, тихо порхая, упала на пол…

В пещерах горы Великого Духа
Освещая путь дымящимися головнями, несколько чернокожих жрецов с пестрыми перьями на головах и с грубыми топорами и копьями в руках, испуганно отступали в черный мрак пещеры. В багровом отблеске головней смутно и страшно выступили из мрака тяжелые фигуры каменных богов с изумительно зверскими лицами. Тревожно переговариваясь низкими голосами, жрецы попытались было загородить собою черную дыру прохода, но оттуда бледными жалами сверкнуло несколько револьверных выстрелов, и четверо туземцев упало, а остальные, бросив головни, в ужасе забились по темным углам. С револьверами в одной руке и с электрическими фонариками в другой, в пещеру ворвались Гаврилов, Скуйэ, Нэн, Рейнхардт, Десмонтэ и еще несколько коммунистов. Синеватые полосы электрического света резко рвали мрак и по стенам пещеры, точно демоны, эаметались и заплясали черные тени коммунистов. В несколько мгновений они покончили выстрелами с уцелевшими жрецами и, осветив богов и жертвенные столы, на которых сверкали кучи драгоценных камней, в изумлении замерли.
– Ого!.. – выговорил только Гаврилов.
– Да, потрудиться стоило… – с грубым смехом эаме-тил одноглазый Скуйэ..
– Ну, что же, приступим, товарищи… – деловито сказал Нэн. – Делите, Рейнхардт…
– Конечно, что терять время… – заикаясь, сказал высокий, скуластый коммунист. – Не нагрянул бы кто?…
– Ну, кто ночью полезет… – возразил маленький и рыжий. – Но мух ловить ртом, конечно, нечего… Начинайте, Рейнхардт.
– Все согласны, товарищи? – спросил тот.
– Согласны, согласны… – раздалось со всех сторон. – Начинайте!..
Дрожащими руками, роняя камни, Рейнхардт начал оделять всех горстями камней.
– Теперь только в одном загвоздка: как удрать с остро – ва?… – проговорил Гаврилов.
– Д-да, это дело мудреное!.. – сказал Скуйэ, ревниво следя за дележом.
– Ничего тут мудреного нет… – отвечал Нэн. – Скоро, говорят, сюда придет пароход из Европы, – предложим команде по камушку с персоны и увезут в трюме куда хочешь…
– Да!.. – засмеялся рыженький. – А выйдут в океан, нож в бок, карманы очистят, за ноги и в воду… Что они, дураки, что ли?… Смекают…
– Сидеть теперь здесь все равно не будешь… – сказал высокий.
– Разумеется… – согласился Рейнхардт. – С такими запасами можно развить чертову пропаганду во всем мире…
– На кой она черт теперь, ваша пропаганда-то?… – сказал грубо Скуйэ. – Раз все видят, что ничего, кроме дурацкой канители, из дела не выходит, так на кой дьявол и бумагу зря на прокламашки изводить? Провалились и баста…
– Довольно повозжались… – сказал рыжий. – Пора и бросать…
– Ну, нет… – резко возразил Рейнхардт. – Если не вышло по-нашему, то не выйдет и по их. Тогда месть, месть беспощадная! Тогда запалим старый мир со всех концов и пусть все идет к черту…
– Вы действуйте больше руками, а не языком… – с досадой сказал Нэн. – А то с очереди собьетесь…
– Не на митинге… – засмеялся высокий. – Не знаю, как кто, а я теперь запаливать мир не согласен.
– Теперь поживем… – прищелкнул языком Скуйэ. – А если какому черту вздумается, в самделе, что-то там такое запаливать, пусть запаливает от меня подальше, а то осерчаю…
Все засмеялись.
– По-моему, товарищи, теперь надо всем нам расходиться… – сказал Гаврилов. – Как я хочу, так с острова и уезжаю, что хочу потом, то и делаю. Незачем связывать один другого…
– Вот это правильно!.. – раздались голоса. – Теперь все врозь. Кто там в пропаганду, кто запаливать, а кто просто в автомобиль да к девочкам. Довольно попостились.
– Ну, не все постились… – смеясь, заметил высокий. – Вон Скуйэ всех черных девчонок тут перепортил…
– Но, но, но… – грубо оборвал Скуйэ. – Говори да не заговаривайся…
– Ну, все… – воскликнул Рейнхардт, вытирая потный лоб. – Фу!..
– А какая во всем глупость у людей!.. – засмеялся Нэн.
– Вместо того, чтобы самим пожить в свое удовольствие, они такие богатства каменным истуканам отдали…
– Надо посмотреть, нет ли еще чего… – сказал кто-то из темноты.
– А и в самом деле!
Голубые лучи фонариков снова зачертили во мраке. И вдруг коммунисты увидали след камней на полу, ведущий в дальние пещеры.
– Ого!.. – послышались голоса. – Видишь, рассыпали… Надо идти дальше…
Нетерпеливо толкаясь, они направились к узкому проходу, ведущему дальше в глубь горы, но вдруг из черной щели вылетело копье и, пронзенный в грудь насквозь, рыжий без звука упал на землю.
– Назад, назад, товарищи!.. – закричали некоторые.
– Тут засада… Назад!
Из мрака вылетело еще копье и поранило Гаврилова в руку.
– Назад!..
Несколько человек беспорядочно выстрелило в щель из револьверов. И все отступили к страшноликим богам…
– По-моему, довольно, товарищи… – сказал Рейнхардт.
– Упорствовать не стоит. У каждого из нас миллионы в кармане. А потом, когда понадобится, и опять придем…
– Не хватит – опять в кассу… – захохотал Скуйэ.
– Ишь как царапнул, проклятый!.. – сказал Гаврилов, перевязывая платком руку. – Ну, уходить, так уходить, а только, как уговорились, надо все завалить, чтобы следов не было. Где ящик?
Высокий положил на землю большой ящик и запалил фитиль. Все, тесня один другого, торопливо выходили вон. Фитиль, неровно вспыхивая, мутно освещает фигуры богов с зверскими лицами, трупы убитых и жреца, который, весь в крови, боязливо выходит из черной щели и озирается…
Вдруг ахнул яростный взрыв и все завалилось…

Завет Петра-убивца
На затоптанной поляне Великой Беседы снова шумит многолюдное собрание коммунистов. В отдалении видно несколько новых жалких лачужек и брошенная недостроенной станция радио. На рейде, рядом с «Норфольком», стоит прибывший из Европы большой пароход… Между берегом и пароходом снуют шлюпки.
– Что же не начинают собрания? – сказал седой коммунист с грустными глазами. – Господи, какая во всем неурядица, какой развал!.. Назначено собрание в четыре часа, а теперь уже без четверти шесть, а его не открывают и тысячи людей, вместо того, чтобы работать, тратят время попусту…
– Ну, большого толка из работы нашей тоже нет… – уныло понурившись, сказала Маслова. – Скрывать от себя нечего: мы не сумели сорганизоваться, у нас не оказалось творческих сил, мы могли кормиться только при том строе, который мы так проклинали и хотели разрушить. Теперь это ясно и слепым…
– И у нас некоторые умеют работать… – зло сказала Надьо, обезображенная теперь большим животом. – Вот почитайте… – она развернула какую-то бумагу и прочла: – «Бюллетень чрезвычайной комиссии № 86. – За агитацию в анархических кругах населения и за упорное саботирование власти исполнительного комитета, дезорганизующее творческую работу коммуны, товарищ Макс Глюк приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение». Вот… – заключила она, нервно содрогнувшись. – «За нерадивое отношение к труду приговорено к заключению на две недели с применением принудительных работ, – 12 человек, за нарушение трудовой дисциплины к месячному заключению
– 23 человека, за контрреволюционный образ мыслей к полугодовому заключению с применением особо тяжелых работ Рукин и еще семь человек». И все это за одну неделю… Вот эти так трудятся!..
– И не только это… – тихо сказал седой коммунист. – Говорят, что и разрушение священных пещер тоже дело их рук. Туземцы думают, что это Великий Дух разгневался на них, потряс гору и погубил жрецов, а слухи говорят, что это наши правители, ограбив сокровища, взорвали пещеры.
Мимо торопливо и озабоченно прошел Гаврилов с браунингом у пояса.
– Тише!.. – шепнула Надьо. – Вот один из компании…
Джулиа Венти – тоже с большим животом, – удерживала Армана, тревожно повторяя:
– Ну, я тебя умоляю… Ты погубишь себя… Ну, уступи для меня, милый… Я умоляю…
– Да я же говорю тебе, что все подготовлено, – нетерпеливо говорил Арман. – Не беспокойся же так… – и, наконец, освободившись от нее, он вбежал на трибуну и возбужденно крикнул: – Товарищи, не будем больше ждать наших повелителей – они делят барыши и по обыкновению пьянствуют…
По толпе пробежало волнение. Бедная Джулиа, закрыв лицо, в изнеможении опустилась на камень.
– Товарищи, больше молчать нельзя!.. – продолжал Арман. – Из живых людей мы с невероятной быстротой превратились в бездушные колеса какого-то мертвого механизма, который скрипит, трещит, но делает только видимость работы… Мы должны, наконец, восстать против извергов, захвативших власть… И мы должны честно признать, что и здесь мы потерпели крушение, и мужественно искать новых путей, путей спасения… Вспомните несчастного, без вины погибшего Макса, – он был тысячу раз прав: прежде чем строить светлое царство будущего, нам нужно было приготовить души свои к приятию его, а мы в старых лохмотьях пошли на брачный пир. И как мы обанкротились!.. Мы гордо потребовали себе всяких товаров из Европы, предлагая в обмен будущие произведения нашего вольного труда, но вот Европа свои товары прислала – вон они на рейде… – а что мы дадим в обмен? Все, что у нас есть, это слезы отчаяния, стыд и нищета да сотни товарищей, если не тысячи, которые окончательно изверились в нашем деле и некоторые – счастливцы! – получили уже разрешение покинуть остров… Вон стоит наша радиостанция, которую мы все никак не можем достроить, – мы хотели с высоты ее возвестить миру весть спасения, но что, что сможем мы сказать людям с этих башен, если мы когда достроим их? Только одно: сжальтесь над несчастными, спасите нас – мы погибаем…
– Правильно!.. – возбужденно загудело собрание. – Это не жизнь, а чистый ад. Мы все хотим уехать… Скатертью дорога трусам!.. Долой болтуна!.. Довольно!..
– Уехать? – покрывая шум своим звонким голосом, крикнул Арман. – Увы, это совсем не так просто, товарищи!.. Нас здесь очень много и нужно очень долгое время, чтобы вывести всех нас обратно в старый свет. Да и стыдно, по-моему, спускать знамя так скоро, – надо просто поправиться и попробовать по-другому. Итак, я предлагаю, во-первых, просить командира «Норфолька» взять временно власть в свои руки, арестовать наших правителей и – стараясь покрыть голосом аплодисменты, крики и свист, кричал он, – предать их в руки правосудия, как простых уголовных преступников: кровь их жертв и ограбление пещер вопиют к небу… Ведь, если туземцы догадаются, что это дело белых, это значит война без пощады из-за каждого куста, из-за каждой скалы… Правда, мы лучше вооружены, но и их отравленные стрелы тоже кое-что значат… И потом где же будет братство людей? И разве только это одно на совести у захватчиков власти?
Бурный шум возбужденного собрания некоторое время не давал ему продолжать.
– Второе, что мы должны сделать, – продолжал опять Арман, – это отказаться от коммунистического хозяйства и каждому завить свое собственное гнездо. Не можем же мы вечно сидеть на хлебах старой капиталистической и презираемой нами Европы! Духа коммунизма в людях не оказалось. Все наше время проходит в спорах и ссорах. Пастух не желает получать одинаковое вознаграждение с учителем, петому что он мокнет под дождем, в грязи, а тот «блаженствует в школе», дровосеки ропщут на музыканта, а работающие в угольных копях проклинают всех, но сами не вырабатывают и пятой доли того, что дает европейский углекоп. Лентяи у нас блаженствуют, а честные люди должны выбиваться из сил… Благодаря жестокости Рейнхардта среди нас местами – прямо стыдно сказать!.. – вспыхнула ненависть к евреям. На той неделе опять был бунт вегетарианцев, которые решительно не хотят ходить за общественным скотом… Прямо голова идет кругом от этой непрерывной смуты… И замечательно: те необъяснимые силы антипатии, взаимного отталкивания, которые так сказывались в старом обществе, здесь еще более резко обострились: нигде вражда между отдельными лицами и партиями не достигала такой силы, как на нашем острове, в этом зеленом, плодородном, солнечном аду!..
– Вот, вот… – зашумело собрание. – Вот он нашел имя нашему острову: Ад… Проклятый Остров…
– Бросьте, Арман… Вы очень рискуете… – тащил Армана с трибуны, седой, грустный коммунист. – Начальство уже засуетилось… Расходитесь, товарищи…