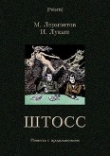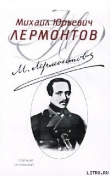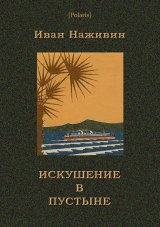
Текст книги "Искушение в пустыне"
Автор книги: Иван Наживин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
– Я и мои единомышленники не считаем эту работу не только безотлагательной, но и нужной вообще… – сказал Рукин, поглаживая свою бороду. – Какие дороги? На что? Живут же туземцы без дорог. А потом, какая разница жить там или здесь, у бухты? Важно жить честной, хорошей жизнью, а где – это совершенно безразлично…
– Ну, это я там не знаю… – сердито возразила Надьо, сверкая своими черными глазами. – А только, по моему, прежде чем думать о дорогах, надо подумать о крыше над головой… Я живу теперь с детьми в палатке – куда же денемся мы, когда наступят дожди? Надо строить дома.
– Да ведь не по воздуху же будут летать к вам на постройку бревна и камни!.. – раздраженно заметил Рейнхардт.
– Для того, чтобы их подвезти, нужны дороги…
– Вот и прекрасно!.. – сухо рассмеялась Надьо, которая терпеть не могла в глубине души этого «нахального жида».
– Придет зима, у нас будут дороги, но негде будет спрятать детей от дождя. Умно придумано…
Гаврилов все порывался на трибуну, но Скуйэ и другие, смеясь, удерживали его.
– Мы с удовольствием отделимся и образуем свою отдельную религиозную общину… – сказал Рукин. – Но принимать участие в ненужных, а часто и вредных для души работах мы не будем, потому что, если вступить на этот путь компромисса, то конца на нем не найти. Сегодня вам понадобилась дорога, а завтра телефон, потом трамвай, потом опера, аэропланы, кафе, и вот мы снова в водовороте мирских дел, снова у нас нет ни одной свободной минуты ни для ближнего, ни для Бога. Это все пустое. Брат Макс прекрасно говорил: с бурной поверхности жизни внешней надо направлять свой корабль в тихие воды внутренней гавани Великого Покоя…
– Да… – сказал Макс. – Но не заваливая своей души излишними заботами, не волнуясь, не озлобляясь, не изнуряя себя сверх меры в труде, я думаю, что все же надо принять меры, чтобы наша материальная жизнь протекала наиболее легко. Против дорог я ничего не имею. Они не мешают, но помогают общению людей…
– Конечно, не мешают, но они просто не нужны… – упрямо сказал Рукин. – Живут же здесь в лесах и обезьяны, и животные, и туземцы без дорог.
– Товарищи, у нас пропадает для созидательной работы еще один день!.. – в отчаянии крикнул Рейнхардт.
– Во-первых, ваша созидательная работа совсем уж не так важна, как вы зачем-то стараетесь ее представить… – сказал Рукин. – Искание истины дороже всякой работы… А во-вторых…
– Искатели!.. – презрительно захохотал Десмонтэ. – А сахар наш тем временем весь подмок и пропал…
– Можно жить и без сахара… – спокойно возразил Ру-кин. – Это не важно. А во вторых, мы же нашли выход и давайте и остановимся на нем: пусть единомыслящие разбиваются на соответствующие группы и пусть каждая группа устраивает свою жизнь по-своему.
– Но дорог строить вы не будете? – бешено крикнул Десмонтэ.
– Нет, не будем… – невозмутимо возразил Рукин.
– А пользоваться ими будете?
– Будет дорога – пойдем дорогой, не будет дороги, и лесом пройдем… – сказал Рукин. – Это совершенно не важно.
– Да для тех-то, кто ее строить будет, важно, черт вас совсем возьми!.. – заорал Десмонтэ. – Слушать птичек всякому приятно.
– Так и слушайте… – отвечал Рукин. – Кто же вам мешает?…
Гаврилов с искаженным бешенством лицом все рвется из рук товарищей на трибуну.
– Но это прямо какое-то издевательство, товарищи!.. – крикнул Рейнхардт. – Это какой-то новый вид саботажа… Мы опять увязли в сетях слов, товарищи, – давайте же переходить к делу! Несколько товарищей образовали инициативную группу, которая внесет сегодня на всех собраниях следующее предложение: во-первых, простым большинством голосов избрать сегодня же исполнительный комитет, который и будет пользоваться всей полнотой власти на острове, чтобы пустить, наконец, работу, а во-вторых, для того, чтобы бороться с нежелательным элементом, примазавшимся к нашему великому делу, чтобы ввести в рамки элементы анархические, образовать чрезвычайную комиссию по борьбе со всеми этими разлагающими явлениями…
– Прекрасно… Значит, опять за жандармов?… – раздались иронические голоса. – А там в тюрьмы, и казни?…
– Так что же! – пожал плечами Рейнхардт.
– Пусть и казни. Без крови на земле ничего не делается…
– Так зачем же мы тогда уехали из Европы? – сказал Рукин. – Это все и там было…
– В Европе казнили, защищая несправедливое устройство общества, – отвечал Рейнхардт, – а мы будем казнить, защищая устройство справедливое.
– Какая же это справедливость! – невозмутимо возразил Рукин. – Я не хочу строить для вас оперетки, а вы меня будете за это казнить.
– Довольно крови!.. – крикнула Надьо и с отчаянием добавила: – И вот мы все разговариваем и разговариваем, а дети брошены без призора и растут, как звереныши…
– Казни плохое начало… – сказал Макс. – И кто будет палачом?
– Можно бросить жребий… – сказал Рейнхардт.
– Никакой жребий не заставит меня сделать то, чего я не хочу… – сказал Макс.
– Разумеется!.. – воскликнула Ева.
– Охотники найдутся, только заплати… – грубо крикнул кто-то.
– И до чего надоела эта болтовня!.. – громко зевнул Гаврилов.
– Кто это сказал об охотниках казнить за плату, товарищи?… – строго сказал Рейнхардт.
– Кто это? – переглядывались все недоверчиво. – Какая гадость! Что же сказавший прячется?… Позор…
– Я должен напомнить вам о той ошибке, товарищи, которая так повредила нам в Европе… – сказал Арман. – Не будем снова повторять ее, не будем впадать в ту страшную канцелярщину, которую завели мы там, когда власть была в наших руках. В каждой улице у нас было по 30 комиссий, а при них 459 подкомиссий, и в конце концов счастливый гражданин социалистической республики без Бедекера не знал, куда ему и ступить…
– Разрешите и мне, товарищи, сделать одно заявление по просьбе русских крестьян-коммунистов… – сказала Маслова. – Если мы окончательно решим разделиться, то и эти коммуны единомышленников придется разбить на национальные группы: огромное большинство из нас ораторов на собраниях не понимает, так что все эти дебаты, в сущности, ведутся небольшим кружком образованных людей, а для остальных являются самой непроизводительной тратой времени. С годами, когда нами будут налажены школы единого языка, – эсперанто, например, – мы выйдем из этого затруднения, а пока, чтобы организация разумной жизни шла, действительно, сознательно, нам необходимо разбиться по национальностям…
– Правильно!.. Конечно… – раздались голоса. – Что же слушать, ничего не понимая…
Профессор Богданов, ласково разговаривавший с окружившими его туземцами, сказал:
– Вот и мои чернокожие друзья тоже очень остро чувствуют это. В качестве представителей тоже человечества они добродушно ходят на все наши собрания, но не понимают ничего. Это большое упущение в деле, тем более, что вы только налаживаете коммуну, а они живут коммунистической жизнью – правда, в большой нищете, – с сотворения мира…
– Разбиться по национальностям необходимо… – говорили коммунисты. – Это решено…
– Но как же можем мы избрать исполнительный комитет и чрезвычайную комиссию сегодня же, когда мы к этому не подготовились? – развел руками Гольдштерн. – Кого же выбирать? Надо отложить выборы хотя на три дня, чтобы проделать хотя небольшую избирательную кампанию.
– Вы делайте, братья, как найдете для себя лучшим, – сказал Рукин. – А мои друзья уполномочили меня заявить вам, что ни в каких выборах мы участвовать не будем, никакому исполнительному комитету, если он прикажет нам что-нибудь несогласное с нашим разумом или совестью, повиноваться мы не будем, а теперь вот уходим с собрания, ибо наступил час нашей духовной беседы, а потом молитвы, а после мы пойдем к бухте строить себе дом молитвы и жилища…
– Да вы не имеете права делать этого!.. – воскликнул Рейнхардт. – Там место нужно для устройства портовых сооружений, пакгаузов и проч.
– Вы сказали, что для поселения вам удобнее та, северная часть побережья, мы охотно уступаем вам и берем себе худшую часть, южную… – сказал Рукин. – А теперь вы не пускаете нас и сюда, потому что и это место нужно вам для постройки ненужных пакгаузов. Так куда же нам деваться?
– Вот это и решит жилищная комиссия при исполнительном комитете… – воскликнул Рейнхардт.
– А я уже заявил вам, что никакого исполнительного комитета нам не нужно… – отвечал Рукин. – Голоса Бога, говорящего нам в душе нашей, с нас вполне достаточно…
– И почему это, товарищ Рейнхардт, вы приняли этот тон командира? – вставил Гольдштерн. – Это оскорбляет наше человеческое достоинство.
– Да, да… – поддержали его из толпы. – Вот заберутся эдакие командиры по разным исполнительным комитетам да чрезвычайкам и будут опять всеми вертеть…
Собрание невнятно и возбужденно загалдело. Гаврилов яростно подлетел к трибуне, отстранил Рейнхардта и закричал:
– Товарищи, тут явный саботаж каких-то тайных врагов коммуны!.. Кто знает, может быть, среди нас много агентов буржуазии, подосланных, чтобы взорвать нас извнутри? Довольно слов!.. Сейчас же мы должны избрать исполнительный комитет и чрезвычайную комиссию и послать туда людей энергичных, которые железной рукой взяли бы за горло гидру буржуазии…
Небольшая группа его приятелей со Скуйэ во главе бурно выражает ему свое одобрение. Рейнхардт втайне был немного озадачен: это были как раз те люди, от которых и хотелось ему очистить остров прежде всего.
– А вы знаете, как назвали черные эту поляну? – с улыбкой спросил профессор лорда Пэмброка, который, поблескивая очками, с большим вниманием слушал коммунистов.
– Well?… – сказал тот.
– Поляной Великой Беседы.
– О, very nice indeed![2]… – усмехнулся лорд.
– И для всего острова это прекрасное название. Но откровенно говоря, меня начинает эта великая беседа смущать немного: что-то очень уж нелепо… А?
– Это только начало еще… – заметил профессор и вдруг воскликнул: – Это еще что такое?
Из леса вышла большая толпа коммунистов. Все они о чем то громко и возбужденно разговаривали.
– Это что такое? – спрашивали все вокруг. – С какими новостями, товарищи?
– Мы пришли сообщить вам, товарищи, – громко начал высокий и худой швед с точно стеклянными глазами, – что, согласно почину инициативной группы, мы произвели выборы в исполнительный комитет и в чрезвычайную комиссию. Результаты…
– Какие выборы? – раздались со всех сторон голоса. – Что за скоропалительность?.. Надо хоть два дня на подготовку…
– Довольно болтовни!.. – бешено крикнул с трибуны Гаврилов. – Выборы!..
– А мы уходим… – заявил Рукин и большая толпа сектантов, беседуя между собой, пошла к берегу бухты.
– Не уйдете и вы!.. – крикнул им вдогонку Егоров. – Догоним!..
– Нет, это решительно невозможно… – говорили вокруг. – Где же порядок? Прямо голова распухла…
Общий бестолковый галдеж. Профессор с улыбкой объясняет что-то туземцам. На трибуне что-то кричит, бешено жестикулируя, и стучит по пюпитру кулаком Гаврилов…
Пропавшеее письмо
Профессор Богданов сидел в своей скромной комнатке за рабочим столом, заваленным всякими бумагами и книгами. Над столом висел большой портрет молодой красивой женщины, а пред ним, как тихая жертва, – большой букет живых цветов. В широко открытую на террасу дверь виднелась дорога и бухта с дремлющим крейсером. Рядом в кресле сидел лорд Пэмброк.
– Чем же кончилось ваше столкновение с Рейнхардтом? – спросил профессор.
– О, я успокоил его очень быстро!.. – сердито отвечал лорд. – Я сказал, что подчиняться распоряжениям его исполнительного комитета я не желаю: я здесь второй представитель международной комиссии и своей лаборатории для его бестолковых общественных работ я не брошу, а если он позволит себе хоть малейшее насилие, пушки «Нор-фолька» очень быстро сотрут его с липа земли вместе с его чрезвычайкой…
– Ого, как вы поговариваете!.. – усмехнулся профессор.
– Но он нестерпимо надоел мне, этот зарвавшийся еврей!.. – раздраженно воскликнул лорд.
– Это очень нехорошо, друг мой… – повторил профессор и, смеясь, прибавил: – Вы начинаете сердиться, а это помешает объективности ваших наблюдений…
– Я лучшие годы свои отдал проповеди коммунистического анархизма, – задумчиво сказал Пэмброк, глядя в землю. – Но для коммунизма нужен прежде всего человек в прекраснейшем смысле этого слова – в этом Макс совершенно прав. А эти… бешеные орангутанги прежде всего и разрушают всякую веру в человека… И больше всего этот нахал-еврей… Вы посмотрите, что он только делает!..
– Очень смотрю… – отвечал профессор. – И, по моему мнению, опыт становится все более и более интересным…
Вы помните, как первые дни он кричал против квази-коммунистов, которые примазались к ним? А теперь он провел в чрезвычайку как раз этих уголовных господ, и они действуют…
– Не понимаю, на что ему понадобились эти прохвосты!.. – сказал лорд.
– Они не имеют никаких моральных «предрассудков», они очень активны, они не желают работать и для сохранения своего положения господ, привилегированных, они пойдут на все… – отвечал профессор. – Теперь все чистое и действительно благородное притихло. И определенная опасность прежде всего грозит этому мечтателю Максу.
– Но это безобиднейший и благороднейший человек!.. – воскликнул Пэмброк.
– Вот поэтому-то он более других и неудобен… – сказал профессор. – А потом его полюбила красавица Ева, а Рейнхардт сам в нее свирепо влюблен. И вы увидите: не брезгуя никакими средствами, он удалит своего соперника. Повод к этому уже есть и прекрасный: Макс вместе с Арманом мужественно организует оппозицию из всего, что есть на острове честного и энергичного. И, сломит себе шею: их немного, негодяев больше, а всего больше – стада…
– Я этого не допущу… – твердо заявил англичанин. – Я вмешаюсь…
– Боже мой, да когда же вы, наконец, поймете, что этим вы только мешаете исцелению этих тысяч душевнобольных!.. – воскликнул профессор. – Жертв были миллионы и их будет много, много еще, без этого им не выздороветь. Не все так скоро прозревают, как, видимо, начинаете прозревать вы… – сказал он, нажимая кнопку звонка. – Человечество, эта особенно неудавшаяся порода обезьян, в отличие от других пород, подвержена особому виду душевной болезни… Вот что, Петр, – прервал он себя, обращаясь к вошедшему на звонок слуге, пожилому русскому солдату с выражением какой-то затаенной скорби в глазах. – Будь добр, дай нам, пожалуйста, бутылочку мадеры и каких-нибудь там бисквитов, что ли…
– Слушаю… – сказал тихо Петр и вышел.
– Послушайте… извините, что я вас перебиваю… – сказал Пэмброк. – Как это вы ухитрились добыть себе прислугу в царстве равных?
Профессор засмеялся.
– Я не ссорюсь с Рейнхардтом, вот и все… – сказал он.
– Он назначил ко мне Петра отбывать трудовую повинность в качестве… моего ассистента в работах по социологии…
– Но сам Петр? Какой же он коммунист, когда он пошел в лакеи хотя бы и к социологии?
– Он всеми силами души ненавидит коммунистов и сам попросился ко мне… – отвечал профессор. – Он очень мягкий и приятный человек, но что-то ужасно грызет его: целые ночи напролет он вздыхает, ворочается, молится…
– Ничего не понимаю… – сказал Пэмброк. – Если он не коммунист, как же он попал сюда и зачем?
– Я и сам ничего не понимаю… – отвечал профессор и замолчал: вошел Петр с подносом, на котором было вино и бисквиты, и довольно неуклюже поставил его на стол. – Спасибо, голубчик… – поблагодарил его профессор.
– А вы вышли бы, барин… – сказал Петр. – Уж очень чудно, что у нас делается…
– Что такое?
– Да собрались сегодня на метинх все наши русские… ну, секстаны, что ли… – сказал Петр. – И давай все кричать против роскошества, которое здесь заводит ну, ентот… жид-то… А потом разделись все донага и ходят теперь по всему острову нагишом, поют свои псальмы эти и разбрасывают черным последнее имущество… «Вы хотите служить маммоне, – кричат, – а нам ничего не надо, и последнее все берите…» Прямо очумел народ совсем!..
– Интересно… – сказал профессор. – Потом сходим, посмотрим…
Петр вышел, а профессор налил в стаканчики вина и поудобнее уселся в кресле.
– Видите ли, основная ошибка всех вас, смелых реформаторов, в том, – сказал он, смакуя прекрасную мадеру, – что вы создали себе превратное, чисто книжное представление о человеке. Вы считаете человека вообще каким-то недоразвившимся, благодаря несчастному стечению обстоятельств, профессором, который только и думает, что об умных книгах, справедливости, University Extention[3] и других «разумных развлечениях». Между тем человек подлинный хочет только самку, хлеба или золота, что одно и то же, и, пожалуй, зрелищ, и всеми силами души своей ненавидит свободу и справедливость, с которыми он решительно не знает, что ему делать.
– Я думал о человеке иначе… – задумчиво сказал лорд Пэмброк.
– Знаю, знаю… – улыбнулся профессор. – В одной из самых замечательных, самых характерных для человека книг, в Библии, есть одно интереснее место, где автору хотелось быть глубоким, но не совсем удалось. Я говорю об искушении в пустыне. Имей тут дело с Сатаною обыкновенный человек, ему достаточно было бы бочонка с золотом и эдакую хорошенькую бабенку в более или менее прозрачной одежде. В этой же Библии говорится лишь, что Адам за самку отдал божественный рай, а за тридцать сребреников человек не раз, а миллионы раз отдал на распятие Христа…
– Послушайте, а это? – с тихим укором проговорил лорд Пэмсброк, указывая на портрет красавицы и на цветы пред ним.
Профессор пожал плечами и особенно задушевно сказал:
– Все люди смертны, Кай – человек, следовательно, и Кай смертен… Это только подтверждает мои слова…
– Вы жестокий человек!.. – сказал тихо лорд.
– О, нет!.. – возразил профессор. – Но я прежде всего хладнокровный человек, сын своего века, века сумерек божков, века всесожженья… А я скорее мягкий, жалостливый человек, – медленно проговорил он и, отпив вина, засмеявшись, продолжал: – И эта вот жалостливость и толкает все меня выступить в этой пустыне в роли Сатаны-искусителя. Из-за женщины здесь уже началась свалка, уже разыгрывается несколько сереньких трагикомедий, но самая яркая идет вкруг прекрасной Евы. А теперь подсунуть бы им еще золота, да побольше…
– О, на золоте вы не поймаете их!.. – воскликнул Пэм-брок. – На наших глазах ведь они выбрасывали его в море…
– Они выбрасывали только горсть, но очень вероятно, остановились бы пред бочонком… – засмеялся профессор.
– И… покаюсь уж вам до конца: я уже пустил слух, что в пещерах горы Великого Духа хранятся, по преданию, слышанному, будто бы, мной от туземцев, несметные богатства их древних королей. Это невероятно глупо, потому что никаких древних королей у них не было, не могло быть и никаких сокровищ, потому что они всегда были богаты только разве своим несокрушимым здоровьем, но вы увидите: глупо, а клюнет обязательно… И уже клюнуло: когда я вчера в сумерки, как бы случайно проехал там верхом, я видел, как в зарослях ходили уже вкруг горы, высматривая, какие-то темные тени. Но гора эта табу и охраняется жрецами…
– Не понимаю, для чего вы все это затеяли… – засмеялся лорд.
– Все для того же: чтобы ускорить процесс выздоровления… – отвечал профессор и, оживляясь, воскликнул: – И если бы удалось, в самом деле, в пещеры эти подбросить немного золота или алмазов, что ли, о, как затрещала бы по всем швам эта их больная мечта о царстве небесном на земле…
– Алмазов? – сказал Пэмброк. – За ними дело не станет, – в неделю я их наделаю вам целую тонну…
– Да что вы говорите?! – воскликнул профессор. – И будут похожи на настоящие?
– Вы ни за что не отличите… – отвечал англичанин.
– О, это было бы великолепно!..
– А знаете, это, в самом деле, интересно!.. – оживился и Пэмброк. – Дайте мне достаточно угля и ваше искушение в пустыне готово… Лаборатория моя уже вполне оборудована…
– Значит, по рукам!.. – весело воскликнул профессор и, встав, подошел к какому-то расписанию на стене. – Позвольте: где это?.. Комиссия по снабжению топливом… Да где же она?.. Ага, вот…. – засмеялся он. – Комната 27… Так, но вам, я полагаю, надо еще предварительно получить ордер из комиссии научной… Ага, вот и она: комната 6 в здании 4 П. Впрочем, вы с вашей рассеянностью не справитесь с этим, – это я сделаю лучше всего чрез Рейнхардта. Значит, решено и подписано?
– Да… – кивнул англичанин – Но мне хотелось бы на минутку возвратиться к нашей теме о человеке. Я не оспариваю вас, но и не соглашаюсь с вами, – я просто подхожу к человеку и жизни с этой стороны впервые. Но меня все более и более угнетает колоссальное значение случая в жизни человеческой… Не это ли называли древние роком? Я не помню, кто это сказал, что, будь нос Клеопатры чуточку подлиннее, вся история рода человеческого была бы иной. Но ведь и форма ее носа зависела лишь от игры слепого случая… – заключил он и после короткого молчания мечтательно и немного застенчиво проговорил: – Вот и у меня был в жизни случай… Я… это было несколько лет тому назад… я любил одну милую женщину, но… я был всегда застенчив и никак не решался сказать ей об этом. Наконец, я собрался с духом и послал ей письмо… Проходит день, неделя, месяц – ответа нет. Я понял, что все для меня кончено. Я уехал в кругосветное плавание, а потом, вернувшись чрез три года, заперся в своей лаборатории. И так прошли еще года… И вдруг, только недавно, я узнаю, – и как это было жутко… тяжко узнать!.. – что она ответила и ответила так, что я сошел бы с ума от счастья, но – ее письмо совершенно случайно не дошло до меня! А получи я его, я вероятно не был бы ни химиком, ни анархистом и сидел бы не на дурацком острове этом, а в палате лордов, вероятно. Вся жизнь оказалась построенной на крошечном клочке бумаги, покрытом несколькими каплями чернил, который случайно вместо Брайтона попал в Лондон…
В дверь постучали.
– Войдите… – отозвался профессор.
В комнату вошел доктор Бьерклунд, спокойный и замкнутый швед.
– А-а, наш милый доктор!.. – воскликнул профессор.
– Рюмочку мадеры? Ах, да, как истинный коммунист, вы ведь абстинент… Что это какой у вас расстроенный вид?
– Так, неприятность тут маленькая вышла… – здороваясь с обоими, отвечал доктор неохотно.
– В чем дело? – спросил Пэмброк.
– Так… с туземцами…
– Ну, доктор, что же вы скрываете?.. – сказал профессор. – Мы же все здесь свои…
– Да я и не хочу скрывать, только… очень неприятно… – сказал Бьерклунд. – В соседнем поселке одна молоденькая девушка оказалась зараженной… сифилисом…
– Уже? – воскликнул профессор. – Это, что же, подарок ее белых братьев, что ли?
– По-видимому, да… – пожав плечами, сказал доктор.
– Туземцы раньше этой болезни не знали. Сейчас у наших идет горячее собрание: умоляют больного назвать себя, не подвергать опасности всю колонию, детей, но все молчат. На ушко мне шепнули, что это дело Скуйэ, но вслух сказать боятся: они забрали страшную силу и терроризовали всех.
– Видите, друг мой, как скоро дала нам жизнь иллюсттрацию на тему об искушении в пустыне!.. – сказал профессор Пэмброку. – Человек за прелести маленькой, черной, губастой Евы снова и снова отдал рай, – правда, на этот раз только коммунистический… Это что такое? – перебил он себя, когда в открытую на террасу дверь вдруг послышалось какое-то унывное хоровое пение.
Он встал, эаглянул на дорогу и воскликнул:
– Посмотрите-ка: голые!..
По залитой солнцем дороге шла толпа голых русских сектантов и в унисон тянула:
Наше вышнее призванье
В жизни радость разливать
И под гнетом испытанья
Людям Бога указать…
И, перебивая пение, со всех сторон летели крики:
– Все берите!.. Ничего не жалко!.. Не будем служить мамону, не будем купаться в крови человеческой!..
И они срывали с себя последнюю одежду и бросали ее прочь. Черные, и без того уже перегруженные всяким добром, шли следом и добродушно скалили свои белые зубы. Они думали, что это какая-то игра белых…
– А-а, бунт!.. – заревел, вырываясь из-за угла, Гаврилов. – Врете… И вы будете работать все… Скуйэ, заходи спереди… Эй, ты… как тебя? черт, не пускай… Бей их, черт их совсем дери…
Раздалось несколько беспорядочных выстрелов из револьверов, крики боли и ужаса. И сектанты, и черные бросились во все стороны, падая и роняя вещи.
Маслова бросилась между стреляющими и бегущими и исступленно кричала:
– Что вы обезумели, изверги? Что они вам сделали?
– Дай ей по башке, старой чертовке, Скуйэ!.. – распаленный, крикнул Гаврилов. – Вот так!..
Латыш рукояткой револьвера ударил старуху в висок и она ткнулась носом в пыльную дорогу. Шум, крики, истерика.

Искушение в пустыне
Ева и Надьо сидели за шитьем в небольшом запущенном садике. Рейнхардт курил, развалившись в дешевом плетеном кресле, и, видимо, нервничал. Сквозь деревья виднелась недостроенная станция радиотелеграфа, дремлющий на рейде крейсер, а дальше – голубой туман океана.
– О, добровольная бедность, которую проповедует ваш друг Макс, нисколько меня не прельщает, нисколько!.. – говорил Рейнхардт. – Бедности никто нам не запрещал и в старом мире. Нет, мы воздвигнем здесь золотые дворцы, мы с помощью науки и вольного труда, который делает чудеса, окружим себя такою роскошью, какая не снилась и восточным царям, мы весь остров наш превратим в цветущий, благоухающий и ликующий эдем…
– Удивительно!.. – опуская шитье, нетерпеливо воскликнула Надьо. – Неужели и теперь еще, после шестимесячного опыта, вы искренне верите во всю эту… чепуху? Какие золотые дворцы, когда я едва-едва получила жалкую хибарку, в которой во время дождя так льет с потолка, что я должна уносить детей к соседям? Какой благоухающий Эдем, когда неумелые скотницы перепортили всех коров и детям не хватает молока? Какая восточная роскошь, когда у вас у самого сапоги не чищены? И какой черт понес меня на этот проклятый остров, понять не могу!.. – схватившись за голову, с отчаянием воскликнула она. – А с детьми что делают! Одни учителя рассказывают им старые красивые легенды о Боге, а другие, издеваясь, кричат, что никакого Бога нет, – как только ребятишки с ума не сойдут!.. И зачем, зачем понесло меня сюда?!.. – повторила она, вставая быстро. – Извините, Ева, я… я… не… могу…
И, стараясь сдержать слезы, она, бросив шитье, торопливо пошла к бедному домику, который выглядывал из-за деревьев.
– Да… – вздохнула Ева, не подымая глаз от шитья. – Эти ваши слова похожи теперь на драгоценное шитье на старой, грязной тряпке. Какие, в самом деле, золотые дворцы, когда у нас нет ни куска сахара, а вчера все дети страдали и плакали от дурно выпеченного хлеба? И та ваша железная дисциплина, о которой вы так много говорили, не дала решительно ничего, кроме крови: люди трудятся, бестолково, aпатично, как запуганные рабы, все запутались в ваших распоряжениях и комиссиях, как в тенетах, и не только вдали не видно никаких золотых дворцов, но вся жизнь стала похожа на длинную, грязную, серую дорогу. И вы уже пролили кровь…
– Ева… – отбросив папиросу, страстно проговорил вдруг Рейнхардт, вставая. – Одного вашего слова достаточно, чтобы все было так, как вы хотите… Я никогда ничего не…
– Что такое? – воскликнула красавица с изумлением.
– Что вы говорите?
– Ева… Да неужели же вы, в самом деле, не видите, как я вас люблю?!.. – воскликнул он. – Ведь, это так страшно ясно! Я измучен…
– Не смейте говорить мне ни слова о вашей любви!.. – гневно воскликнула она, вставая. – Если я, побеждая отвращение, говорю еще с вами, чьи руки в крови, то только в надежде… А-а, профессор, как я рада вас видеть!.. – прервала она себя, обращаясь к профессору Богданову, который вышел из-за деревьев. – Милости просим…
Рейнхардт едва сдержал жест бешенства.
– Чему я обязан этой радостью прелестнейшей из женщин? – здороваясь с ней, пошутил тот. – Моим личным качествам?
– Разумеется… – улыбнулась Ева. – Садитесь…
– Мое почтение, председатель… – кивнул профессор Рейнхардту и сел. – Я к вам собственно только на минутку, чтобы поделиться с вами очень интересной новостью… – сказал он. – Вы помните, я рассказывал вам о сокровищах древних королей, скрытых в пещерах горы Великого Духа? Я, признаюсь, не особенно верил в эти сказки, но все же меня заинтересовало это, и я постарался поближе познакомиться со жрецами, которые живут при этом их святилище у подножия горы. На мое счастье один из них, старик, вследствие какого-то ушиба, что ли, страшно мучился невралгическими болями головы. Я дал ему своих порошков – ну, кофеин там, антипирин и еще что-то… – и все у него как рукой сняло. Жрецы были поражены моим всемогуществом, они воздавали мне чуть не божеские почести, а сегодня в благодарность старик принес мне вот это маленькое доказательство, что сокровища горы Великого Духа не легенда только, но факт. Посмотрите… – сказал он, вынимая из кармана целую горсть крупных алмазов и сапфиров и показывая их Еве. – Каково?
– Боже, какие прелестные камни!.. – всплеснула Ева руками. – Какое богатство!..
– Позвольте мне поднести их вам, как слабое выражение моего преклонения пред вашей красотой… – сказал любезно профессор.
– Конечно, нет… – сказала Ева. – Такое богатство!..
– Это было бы богатством в старом мире, – сказал профессор, – а здесь, в коммунистическом царстве, это имеет цену не большую, чем капли утренней росы или огоньки светляков в зелени. А кроме того – засмеялся он, – запасы кофеина и антипирина у меня достаточны… Вы доставите мне истинное удовольствие…
– Ну, хорошо, чтобы сделать вам приятное. – согласилась Ева. – Спасибо… Ах, какая прелесть!..
– Но значит, там, в самом деле, скрыты колоссальные богатства… – заметил Рейнхардт с разгоревшимися глазами.
– Позвольте, какие же «богатства»? – усмехнулся профессор. – Здесь это только красивые кусочки углерода, не больше. А кроме того, они ведь и недоступны: гора эта табу и иноземец не может ступить на ее почву, иначе Великий Дух покарает его смертью на месте…
– Ну, это только россказни жрецов!..
– Во всяком случае из-за таких пустяков, ни на что здесь, в новом мире, не нужных, не следует портить отношений с туземцами… – сказал профессор.
– Да я и не собираюсь грабить их… – криво усмехнулся Рейнхардт. – Но вообще это очень интересно, хотя бы… с научной точки зрения…
– Это другое дело… – согласился профессор. – Тогда надо как-нибудь осторожно использовать жрецов. Но сохрани Бог заводить какие-нибудь неприятности!.. Я думаю, что было бы даже большой неосторожностью рассказывать об этом всем, – зачем вводить людей в соблазн?… Однако, мне пора… – сказал он, вставая. – Мне было приятно сделать вам маленькое удовольствие, – хотя вы и коммунистка, но вы все же женщина прежде всего…
– Они так прекрасны… – сказала Ева, пересыпая камни и любуясь их игрой.
– Ну, всего доброго… Прощайте, председатель…
– До свидания… – сумрачно сказал Рейнхардт.
Профессор ушел. Наступило тяжелое молчание. Ева все любовалась игрою камней.