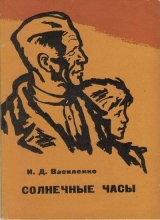
Текст книги "Солнечные часы"
Автор книги: Иван Василенко
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
Быстрей автомобиля
Мы в горах, в лесу. Поднимаемся все выше и выше. Впереди, опираясь на автомат, шагает Байрам. Ни тропы, ни зарубки на дереве. Как он находит направление, неизвестно. Слепой Коншобий, Саур и я следуем за ним цепочкой. Ярко светит солнце. Сквозь воздушный узор золоченой листвы сияет голубое небо. Тихо так, что слышно, как где-то далеко ползет в сухой траве уж. А ведь совсем недавно над нашими головами выли мины и, как в бурю, трещал кругом лес. Слишком поздно обнаружили фашисты труп часового. Когда они начали по нас стрелять, мы подходили уже к лесу.
Все медленнее идет Байрам, все тяжелее его поступь. Вот он прислонился к медному стволу сосны и стоит, полузакрыв глаза. На лице его боль и досада.
– Байрам, – третий раз предлагает Саур, – мы сплетем носилки и понесем тебя. Нам нетрудно, Байрам.
Но Байрам только упрямо морщит лоб.
На крошечной полянке мы прилегли и несколько минут отдыхали. Отсюда, как в перевернутый бинокль, виднеется Нальчик – далекий и четкий. Подперев лицо ладонями, Саур смотрит на него неподвижными глазами. Густые брови его сдвинуты, рот крепко сжат. Он кажется мне взрослым. Я не спрашиваю, о чем он думает, я знаю: он думает о том, что тяжелым гнетом лежит и у меня на душе. Мы свободны и уходим от фашистов все дальше и дальше, а Этери… Какой укор я мысленно видел в ее грустных, кротких глазах!..
– Саур, – сказал я тихонько, – мы проводим Байрама в безопасное место, а сами вернемся в Нальчик.
Он быстро повернул голову:
– Ты умеешь читать мои мысли, да?
– Это же просто, Саур: мы обещали никогда не оставлять ее.
Прислонившись спиной к камню, смотрел на далекий город и Байрам. Смотрел пристально, внимательно, точно изучал его.
– Байрам, – осторожно спросил Саур, – нам еще долго идти? Не думай, что мы устали, нет… Но…
– Мы придем к вечеру. – Тем же внимательным взглядом он посмотрел в наши лица и добавил: – Там я и Коншобий останемся, а вы, трое, пойдете дальше. В добрый путь!
– Как трое? – с недоумением спросил Саур. – Кто же еще с нами?
– Этери, – спокойно ответил Байрам.
– Эте-ери?!
– Да, Этери, – так же спокойно повторил Байрам. – Если она там, – он посмотрел в сторону Нальчика, и в глазах его вспыхнул зеленоватый огонек, – я заколю еще сто часовых. Но ее там не должно быть. Она – там! – Он кивнул в сторону гор. – Иначе как могло это случиться?
Мы ничего не понимали.
Слепой внезапно сделал предостерегающее движение рукой. Но ничего, кроме обычных лесных шорохов, мы не услышали.
– Идут, – шепнул слепой.
– Много? – так же тихо спросил Байрам и потянулся к автомату.
– Впереди один, потом много.
– С горы или в гору?
Слепой опять прислушался:
– С горы.
– Наши, – со спокойной уверенностью сказал Байрам и, не торопясь, стал подниматься.
Сдерживая дыхание, мы стояли и слушали. По-прежнему все тихо. Только шепчутся листья. Не послышалось ли все это слепому? Нет, он улыбается и, точно в такт шагам, качает головой.
Где-то близко прокуковала кукушка.
– Четыре, – насчитал Байрам и одобрительно засмеялся: – Передовой нас видит, а мы его нет. Но он не узнает нас, Коншобий, скажи ему.
Слепой поднял лицо вверх и засвистел: по лесу звонкими стеклышками рассыпалась короткая трель.
Тотчас же захрустели сучья. Из чащи орешника вышел подросток в кабардинской, расширяющейся кверху шапке, в полинялой синей рубашке, с кошелкой в руке.
– Асхат! – радостно вскрикнул Саур, бросаясь подростку навстречу.
С горы спускались вооруженные люди и с восклицаниями окружали Байрама. Одни из них были в черкесках и кавказских шапках, другие – в красноармейских шинелях, третьи – в ватниках. И было странно видеть на одном и том же человеке кинжал в старинной серебряной оправе и новенький автомат. Я не знал языка, на котором они говорили, но мне было понятно, что все удивлены и обрадованы: они спускались в Большой аул, чтобы освободить Байрама, а он сам шел им навстречу.
– Друзья, – взволнованно сказал Байрам, когда все сошлись на поляне и стали около него кругом, – вот первый трофей нашего отряда! – Он поднял вверх автомат. – Волчье сердце того, кто пришел с этим оружием на нашу землю, истекло кровью. Пусть же горит, не остывая, под ногами захватчиков наша земля!
– Пусть горит!.. Пусть горит!.. – закричали партизаны.
Байрам оглянулся, нашел в толпе Саура и меня и подозвал нас взглядом. Мы подошли к нему.
– Вот двое юношей. Они не думали о своей молодой жизни, когда спасали мою старую. Так пожалеем ли мы свою кровь, чтобы спасти жизнь наших детей!
Мы с Сауром стояли смущенные и молчали. Да и что мы могли сказать?
Через несколько минут отряд двинулся в путь. Шли в горы. Как ни противился Байрам, его все-таки уложили на носилки и понесли.
Саур, Асхат и я шли в арьергарде.
– Рассказывай же! – торопил Асхата Саур. – Ничего не пропускай, ну!
– Зачем пропускать, – невозмутимо ответил Асхат, – я Бее расскажу, как было. Ну, постучал кто-то в Окно. Я вышел из дома на улицу, а она стоит у плетня. Прижала руки к груди, никак отдышаться не может. Лицо белее молока. Увидела меня и говорит: «Здравствуй, бичо! Пожалуйста, скажи скорее…»
– Бичо? – воскликнул Саур. – Конечно, это была она! Меня она тоже называла «бичо», но я ей сказал: «Я Саур, а не бичо», – и она стала звать меня Сауром.
Асхат недоуменно посмотрел на Саура:
– Бичо – значит «мальчик» Это по-грузински, понимаешь? Так вот, и говорит она: «Здравствуй, бичо! Пожалуйста, скажи скорее, где живет Шума». Я сказал: «Это смешно. Разве Шума одна? В ауле в каждом доме есть Шума». – «Нет, – говорит, – бичо, я спрашиваю о внучке Байрама. Пожалуйста, проводи меня к ней». Я сказал: «Зачем тебе Шума? Ты девочка большая, Шума маленькая. Разве вы пара? Большие девочки ходят к большим, маленькие – к маленьким. А ты большая, а идешь к маленькой». Тогда она рассердилась и сказала, что я болтун и что со мной нельзя вести серьезное дело. А я нарочно говорил так длинно, потому что мне хотелось все смотреть и смотреть на нее. Но когда она так сказала, я рассердился и повел ее к дому. Мы не шли, а бежали, а она все просила: «Скорей!.. Скорей!..» И я уже не смотрел на нее, а только бежал. И вот мы вбежали в дом Суры, и девочка крикнула: «Скорей прячьте Шуму! Сейчас приедут фашисты. Они будут мучить Шуму на глазах Байрама, чтоб Байрам выдал тайну голубого камня!» Проговорила так – и упала, потому что очень быстро бежала, от самого Нальчика. Тогда Сура взяла на руки Шуму, а я – быстроногую девочку, и мы пошли к лесу. У опушки я сказал: «Ждите меня здесь» – и вернулся в аул. Там уже стояла фашистская машина, и фашистский офицер всех спрашивал, где Шума, внучка человека, что лежит в машине. А в машине лежал Байрам. И никто из людей ничего не говорил, а только смотрели все на Байрама и плакали. Тогда сказал я: «Сура с Шумой уехали в Нижний Баксан». И фашисты поехали в Нижний Баксан. Они и Байрама хотели взять с собой, ко у Байрама потекла из головы кровь, и они заперли его в доме Суры. А я вернулся в лес и увел всех троих в горы… Вот какой я «болтун»!
– Одно непонятно, – сказал я, – как могла она прибежать в аул раньше машины?
Асхат посмотрел на меня, как на чудака:
– Так разве это девочка? Это ветер, молния! Она и самолет обгонит.
Зеленый сундучок
Только сутки прошли с того времени, как мы стояли у своего домика и в отчаянии смотрели на закат солнца. Как мрачно было все вокруг, каким зловещим предзнаменованием казалось нам кроваво-огненное сияние небосклона! И вот мы опять увидели солнце над хрустальной вершиной хребта. Но разве была в нашей жизни более счастливая минута, чем эта! С пригорка, вся в розовых лучах, легкая, как ласточка, к нам навстречу неслась Этери. На мгновение руки ее протянулись вперед, и глаза, всегда такие грустные, засияли радостью. Не знаю, кого она хотела обнять. Наверное, Байрама. Но кто мешал каждому из нас думать то, что хотелось!..
Три дня провели мы в партизанском лагере, как в лесной сказке: воду пили из ручья, питались мясом фазана и дикого кабана, спали под звездным небом, на еловых ветках. Под вечер, после военных занятий, партизаны собирались в кружок, слепой вынимал свой рог, и Саур с Асхатом под мерные всплески ладоней принимались состязаться то в легкости и плавности едва уловимых движений ног по скользкой хвое, то в бешеном кружении, от которого опавшие иглы елей вихрем взметались кверху. Конечно, нам очень хотелось остаться в отряде. Несколько раз мы принимались убеждать Байрама не отсылать нас, указывали на Асхата, который лишь на год старше нас, а уже несет в отряде службу разведчика, засучивали рукава и напрягали свои бицепсы. Но Байрам отвечал, что нам дела хватит на всю нашу долгую жизнь, а здесь и без нас обойдутся.
Поправлялся он очень быстро: кроме Этери и Суры, за ним ухаживала и маленькая Шума, а это было самым лучшим лекарством на свете.
И вот наступил день, когда мы двинулись в далекий путь.
Было раннее утро. Солнце только что встало и расплавленным золотом облило снега далекого хребта. Над хребтом тихонько таяли золотисто-алые облака. Готовые в путь, мы сидели на выступе скалы и ждали Байрама. Перед нами, опершись обеими руками на длинную палку и согнув спину, стоял Ибрагим – старый пастух, высушенный ветрами и горным солнцем. Вчера он вернулся из дальнего аула, куда отвел Суру и маленькую Шуму, а сегодня неведомыми тропами поведет нас на «Большую землю».
В одно время с нами в путь двинется и отряд, только в противоположную сторону. Это будет его первый боевой поход. Поведет отряд Байрам.
Грустно было расставаться с Байрамом, но с нами была Этери, путь наш шел на ее солнечную родину, увидеть которую мы так мечтали с Сауром, и невольная печаль смешивалась с трепетным ожиданием неведомого.
Послышался шорох шагов. Мы обернулись. Из-за скалы, стройный и легкий, с тонкой, как у юноши, талией, стянутой кавказским ремешком, к нам шел наш друг. Был он таким, как всегда, только не смеялись глаза: они смотрели внимательно и грустно.
Но что это у него за плечами? Неужели сундучок? Конечно, это сундучок, его старый зеленый сундучок!
Подойдя, Байрам раскрыл широко руки, обнял всех нас троих вместе. Потом сам сел между нами. Минуту все молчали, И вот тихо и проникновенно, голосом, который всегда будет звучать в моей душе, он сказал:
– Друзья мои, так уж водится: встречаются затем, чтоб расставаться. Не надо об этом жалеть, надо только сохранить хорошее чувство.
Он не спеша снял с плеч сундучок и поставил его себе на колени.
– Возьмите это на память о нашей встрече, – сказал он, – и о нашей дружбе. В сундучке нет голубого камня, который делает жизнь счастливой. Нет такого камня и нигде на свете. Это сказка. Но в каждой сказке есть своя правда. А правда в том, что человек хочет счастья и построит его своими руками. Что в нем, в этом зеленом сундучке? В нем только маленькие помощники человека в его труде. С ними я много принес людям радости, оттого люди и говорили, что я живу голубой жизнью. О каждом помощнике своем я мог бы рассказать целую историю: как мечтал о нем, как искал и как находил наконец за зеркальным стеклом в большом магазине или в куче железного лома на рынке. Я видел, как любовно вы держали их в своих еще неловких пальцах, когда мы строили для ребят маленький город. Друзья мои, сколько голубых цветов потоптали на нашей земле фашистские псы, сколько разрушили чудесных городов! Но псы сгниют в земле, а человек пойдет своей дорогой к счастью. На развалинах он построит новые города, еще более чудесные, и вырастит новые цветы, еще более красивые. Кому же, как не вам, передам я своих верных помощников, когда руки мои заняты другим! Непривычно держать мне в этих руках автомат, но без него счастья тоже не добудешь.
Глаза его опять засияли молодо и весело. Он встал и обнял каждого из нас:
– Так в добрый путь! За счастьем!
И, так же легко шагая, Байрам скрылся в лесной чаще, где уже слышны были голоса партизан. С минуту еще доносился их невнятный говор, потом раздалась команда, и все смолкло.
С затуманенными глазами мы подняли зеленый сундучок и двинулись в путь.
И несли его, ревниво соблюдая всю дорогу очередь.
Несли, как драгоценный дар, как священный завет…
План жизни
I
Я болел, лежал в постели. Через открытое окно видел сверкающий на солнце зубец хребта и тосковал о покинутых родных степях.
Вошла хозяйка:
– К вам Ахмат просится. Впустить?
– А кто этот Ахмат?
– Мальчик. Этажом ниже, у тетки живет. Третий раз уже приходит. Впустить?
– Впустить, конечно, – сказал я.
Он вошел неслышно и остановился у дверей. Немного скуластый, карие грустные глаза, густые каштановые волосы, оттеняющие очень белое лицо. На вид лет четырнадцати.
– Садись, – сказал я. – Что скажешь?
– Я так просто. Можно?
– Можно и так просто. Садись.
Он сел на стул у кровати и долго молчал. Потом вытащил из-под стеганки книжку моих рассказов и повертел в руках.
– Это вы придумали? – Помолчал, вздохнул. – А я вот еще ничего такого не придумал. – Опять помолчал и снисходительно улыбнулся: – В нашем классе одна девочка придумала:
«Папа, мама, есть хочу». —
«Кушай, детка». – «Не хочу». —
Разве это стихи? Это глупость. Правда? – Он испытующе осмотрел меня и таинственно сказал: – Я придумал, только в секрете держу. Прочесть?
– Читай.
И вдруг я услышал:
Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом.
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?
Читал он нараспев, с чувством и смотрел при этом в окно, в синюю даль неба, будто там именно и белел этот парус. А кончив, строго спросил:
– Хорошо?
– Великолепно! – воскликнул я. – Но зачем ты «придумываешь» то, что уже когда-то «придумал» Лермонтов?
– Вы зна-аете… – разочарованно протянул он.
И умолк, видимо смущенный. Не поднимая глаз, тихо и проникновенно сказал:
– Моя бабушка, когда видела красивую козу, думала: «Это моя коза. Я ее кормлю лебедой. Я пью ее сладкое молоко и даю его пить моим маленьким внукам». Мой дедушка, когда видел красивого скакуна, думал: «Это мой скакун. Я кормлю его тяжелым, как свинцовая дробь, овсом и каждый день чищу скребницей. Я лучший джигит в Кабарде». А я, когда читаю красивые стихи, думаю: «Это мои стихи. Я лучший ашуг, и все радуются, когда я пою». – Он поднял глаза, и в них я увидел огорчение и упрек. – Разве плохо мечтать?
Так началось наше знакомство. С этого времени Ахмат стал моим почти ежедневным гостем. Входил он всегда бесшумно, бархатным шагом, и стоял, угадывая, сплю я или просто так прикрыл глаза. Иногда о его приходе я узнавал лишь по дыханию.
– Можно к вам? – спрашивал он робко.
Потом садился у постели и принимался рассказывать. Говорил обо всем: и что случилось недавно на Пятницком базаре, и почему кабардинцы живут в долинах, и с каких пор в селениях Кабарды стали любить украинский борщ. Говорил картинно, свежо, с таким проникновением, будто все это было его личным достоянием.
Запомнился мне его рассказ, как выкормил он коровьим молоком и молодой травой маленького «ишнека», который остался без матери. Сделал это Ахмат в подражание комсомольцам, бравшим шефство над конями. Над Ахматом смеялись, дразнили его, но он продолжал заботливо растить своего длинноухого подшефного. А потом этот «ишек» каждый день привозил с горных пастбищ молоко в госпиталь и был любимцем выздоравливающих бойцов.
Рассказывал Ахмат в таких неуловимых, своеобразных выражениях, что, слушая, я почти физически ощущал и запах парного молока, и свежесть молодой травы, и прерывистый, нетерпеливый рев осленка.
Каждый раз, уходя, Ахмат говорил:
– Времени нет, а то б я придумал рассказ про малайцев.
Почему про малайцев, так я и не узнал.
Как-то он сказал:
– Дайте мне интересную книжку.
На столе у меня лежало школьное издание Короленко «Слепой музыкант». Ахмат взял книгу и бережно спрятал под стеганку. И всю неделю не показывался. А когда явился, вид у него был растерянный и удрученный.
Я удивился:
– Неужели не понравилось?
Он закрыл глаза и покачал головой. Потом вынул из-под стеганки книгу и поцеловал ее.
– Возьмите, – сказал он тихо. – Сел и с упреком взглянул на меня: – Зачем вы мне дали ее, а? Зачем? Разве я могу так придумывать? Его ум – гора, мой ум – песчинка. Его душа – небо, моя душа – запыленное окошко.
Однажды, когда я немного поправился и мы гуляли в парке, Ахмат протянул руку в сторону гор и сказал:
– Там живет моя бабушка.
– У тебя есть бабушка? – заинтересовался я.
Ахмат посмотрел с недоумением:
– Вы разве ничего не слыхали о моей бабушке?
– Нет, не слыхал.
– О Татиме Поладовой не слыхали?
– Да нет же, не слыхал. А чем она замечательна?
– Бабушка?!
От удивления, что я ничего не слыхал о его бабушке, Ахмат даже потерял дар слова. Некоторое время он шел надутый. Потом, снисходя к тому, что человек я в этих краях новый, сказал:
– Моя бабушка была первой красавицей. Не всякий ее видел, потому что тогда носили чадру, но те, кто видел, плакали от счастья. Бабушка подумала: «Зачем лишать людей счастья?» Она сорвала с себя чадру и бросила в огонь. И никто не осудил ее. Только мулла, проходя мимо, закрывал глаза руками: пусть никто не скажет, что он видел женщину без покрывала и не проклял ее. Но все знали, что он оставлял между пальцами щелочку.
Тема о бабушке оказалась неисчерпаемой. Бабушка была не только первой красавицей, но и первой в районе грамотной кабардинкой. Она знала целебные свойства трав от лихорадки, от сердечных болей, от укусов змеи и многих людей избавила от тяжелых недугов. У нее был меткий глаз, твердая рука и отважное сердце. Когда по селу бегала бешеная собака и все в страхе попрятались в домах, она сняла со стены дедушкино ружье и с одного выстрела убила собаку. О ее мудрости и красоте сложены песни, а председатель колхоза, всеми почитаемый человек, ходит к ней за советом.
– Конечно, – грустно сказал Ахмат, – теперь она старая.
Мне захотелось увидеть эту женщину, и в первый же выходной день я и Ахмат отправились в деревню. Прошли чудесный нальчикский парк; по гигантским бревнам перебрались через бурлящую речку, миновали деревянную, всю в изумрудных пятнах мха мельницу и по крутой тропинке поднялись вверх, к деревне. Дома, прилепленные к скалам, – как птичьи гнезда. Но школа, сельсовет, сельпо – на ровном месте, и от них еще пахнет строительным лесом и краской. Во все дома тянутся тугие нити проводов.
Ахмат сказал:
– Здесь.
Мы вошли в небольшой дом, довольно ветхий, но заботливо, по-хозяйски поддерживаемый. Новое здесь вперемежку со старым: восточные домотканые ковры – и фабричная мебель, древнее сооружение для помола кукурузы – и патефон. И всюду – на стенах, на потолке, в углах на полу – пучки высохших трав, корней, цветов.
– Хорошо! – сказал я, с удовольствием вдыхая аромат комнаты. – А где же бабушка?
В сенях послышались медленные шаги, дверь раскрылась, и в комнату вошла высокая, худая женщина. Ее волосы были совсем седы, но брови – черные и тонкие, как у молодой. Голову она держала прямо, даже немного приподнятой, глаза всматривались со спокойной внимательностью. Ни тогда, ни после я не мог отдать себе отчета, что придавало ее облику невыразимую обаятельность, которая заставила меня воскликнуть:
– Да ведь вы красавица!..
Она чуть наклонила голову, как бы благодаря меня, и с тихой лаской сказала Ахмату:
– О ком скучаешь, тот на пороге.
По тому, как Ахмат долго не выпускал из своей руки ее руку, как счастливо улыбался ей, говоря что-то по-кабардински, было видно, что бабушку свою он обожает.
Вскоре мы сидели за столом и ели айран (кислое молоко) с чуреком. Хозяйка рассказывала, как вначале трудно было одним женщинам справляться с колхозной работой, а я слушал ее неторопливую, с приятным акцентом речь и думал, что даже время не могло погасить красоту этой женщины. Сидела она прямо, не сгибаясь. И в этой осанке, в том, как держала она голову слегка приподнятой, в спокойствии и скупости жестов чувствовалась натура гордая и независимая.
Ушел я очарованный. И всю дорогу, пока мы спускались с Ахматом с горы, я нещадно ругал его:
– Малайские рассказы!.. Какие там малайцы и зачем придумывать, когда перед тобой готовый образ! Если хочешь писать, опиши бабушкину жизнь, вот и все!
Ахмат был несказанно доволен впечатлением, какое произвела на меня его бабушка, но писать отказался.
– Это трудно, – сказал он. – Я лучше про малайцев попробую. Да что! Времени нет!
Я возмутился:
– Ахмат, ты лодырь! Болтать можешь часами, а вот поработать над рассказом о родной бабушке у тебя времени нет. Я вижу, с тобой надо поступать решительно. Без рассказа ко мне не приходи, слышишь? Не впущу.
Остальную дорогу мы прошли почти молча: я – строгий и недоступный, Ахмат – озадаченный.
Несколько дней он не показывался. Пишет или просто боится прийти с пустыми руками? Когда я уже начал упрекать себя, что слишком круто обошелся с мальчиком, он опять явился. Вошел, как всегда, неслышно:
– Можно к вам?
Я соскучился по нем, но виду не подал и сурово спросил:
– Написал?
Ахмат широко улыбнулся. Он был доволен собой:
– Написал.
– Хорошо написал?
– О! День писал – не ел, ночь писал – не спал. Все писал, все писал. Хорошо написал!
– Читай.
Он с готовностью вытащил из-под рубашки тетрадь и сел на свое обычное место – у кровати. В противоположность тому, с каким выражением читал он чужое, свое прочел торопливо, спотыкаясь на каждой фразе, по-ученически. Но даже при таком чтении все время чувствовались свежесть и безыскусственность. Только с композицией дело обстояло плохо. Я сказал:
– Рассказ твой похож на уродца: голова огромная, а туловище маленькое. Надо еще поработать.
Лицо Ахмата потускнело.
Он слушал, что и как надо переделать, и вздыхал. Ушел разочарованный.
Я боялся, что рассказ свой он забросит. Но через день опять услышал за своей спиной:
– Можно к вам?
Рассказ стал лучше, хотя и теперь был кривобок. Ахмат опять вздыхал и томился, а уходя, сказал с угрозой:
– Хоть год мучайте – не брошу.
Только после седьмой переделки, когда он пришел ко мне побледневший с воспаленными глазами, я сказал наконец:
– Теперь можно, пожалуй, нести в редакцию.
– Можно?! – расцвел он и, даже не простившись, выбежал из комнаты.
Потом, как полагается, для Ахмата потекли дни мучительных ожиданий. Он даже осунулся в лице. Сидя на стуле, он тихо, упавшим голосом говорил:
– Не напечатают, нет. Скажут – какой такой писатель! Совсем мальчик!
И поднимал на меня темные блестящие глаза с затаенной мольбой…
Но обнадеживать я боялся и неопределенно говорил:
– Что ж, все мы были мальчиками.
Чтобы отвлечься, он принимался рассказывать о чем-нибудь, например, как на уроке географии кто-то повесил карту вверх ногами и девочка приняла Каспийское море за Балтийское. А заканчивал так:
– Скажут: зачем про бабушку? Война…
– Что ж, что война, – отвечал я. – Когда ж и писать о таких бабушках, как не в войну!
Однажды над Нальчиком разразился ураган. Я сидел у окна и через стекло смотрел, как трепетали каждым листом пригнутые к земле платаны, как все небо покрылось пыльной мглой.
Вдруг дверь взвизгнула, хлопнула, и что-то с таким громыханием промчалось по комнате, будто в нее ураганом занесло лошадь. Я быстро оглянулся и оторопел: передо мною был Ахмат, тот самый Ахмат, который входил всегда бесшумно, как котенок. Но что за вид! Волосы спутанные, лицо бледное, глаза, как у пьяного.
– Ахмат! – воскликнул я. – Ты испугался урагана?
Он отрицательно качнул головой.
– Так в чем же дело? Что тебя испугало?
– Меня не испугало, – скорее прошелестел, чем сказал он. – Меня…
Он не договорил, вынул из кармана сложенный лист газетной бумаги и, не давая мне, прижал ладонями к груди.
– Вот… Я ждал… Каждое утро стоял около редакции… Швейцар выходил и клеил… А сегодня… Сегодня стал швейцар клеить, а ветер вырвал у него, поднял к самому небу и понес. Я бежал за ней, быстрее ветра бежал… А когда она падала с неба, я увидел… еще в небе увидел, что… И у меня потемнело в глазах…
Я осторожно высвободил из его рук газету. Над подвалом сразу бросился в глаза заголовок: «Бабушка».
Рассказ печатался с продолжениями, из номера в номер, и эти дни были для Ахмата днями упоения. Он просыпался с птицами, шел к зданию редакции и там, в сквере, часами сидел на скамье, дрожа от сладостного ожидания. Ждал он счастья.
Счастье выносил под мышкой сонный швейцар. Этот медлительный кабардинец сначала долго мазал деревянный щит клейстером, потом прикладывал к нему развернутый газетный лист, потом целую вечность возил по листу ребром руки, расправляя каждую морщинку. Но и после этого он не уходил, а, заслонив спиной Ахматово счастье, крутил цигарку, пускал из ноздрей расходящиеся книзу, как седые усы запорожцев, струйки дыма, сплевывал и так внимательно всматривался в небо, будто там у него были родственники или добрые приятели. Теряя терпение, Ахмат тихонько отстранял кабардинца плечом и впивался в мокрые строчки. А потом бежал к газетному киоску, и там опять начиналось мучительное и сладостное томление. Когда газета попадала наконец к нему под рубашку, он вихрем несся ко мне.
– Теперь про дедушку писать буду, – говорил он, блистая счастливыми глазами. – Вы не слыхали про него? О, это был такой джигит, такой джигит!
Я сказал:
– Теперь ты будешь уроки делать и больше ничего.
Напоминание об уроках сразу сбросило Ахмата с небес. За последнее время он успел накопить три «плохо». А экзамены были на носу.
– И ко мне приходи пореже. Пока не подтянешься.
Нелегко было мальчику, чей только что напечатанный рассказ вызвал у всех горячие похвалы, вернуться к решению уравнений с одним неизвестным. Но, подавив вздох, Ахмат взялся за учебник. Ко мне он не являлся. Только передавал с хозяйкой записки: «Осталось два «плохо», «Осталось одно «плохо». Когда принес третью записку, хозяйка сказала:
– Нашел почтальона! Иди сам!
Он приоткрыл дверь и, не переступая порога, сказал:
– Нету больше «плохо». Можно к вам?
День мы провели в парке. Парк был в солнечной дымке. Дремали голубые ели. От липовой аллеи тянуло запахом меда. Внизу, за парком, неумолчно журчала речка.
– Вот как тихо! – удивлялся Ахмат. Он прикрыл глаза, прислушался. – Совсем тихо. Во всем свете.
И вдруг, пораженный возникшей мыслью, вскинул на меня недоуменные глаза:
– А сейчас стреляют?
– Конечно.
– И убивают?
– Гм!.. И убивают…
Ахмат посмотрел на зеленые горы, за которыми поднималась цепь снеговых вершин, на небо, на облитые теплом и светом ели. Его губы шепнули что-то.
– О чем ты, Ахмат?
Он показал рукой на запад:
– Там мой отец. Он защищает эти горы. Потому тут и тихо так. А я не могу. У меня слабое здоровье.
Что у него слабое здоровье, Ахмат говорил не раз. И всегда сокрушенно. Но только теперь я узнал, что он подразумевал под этим.
– Я боюсь крови. Курицу режут – я закрываю глаза, бегу, на все натыкаюсь. Мальчишки подерутся, нос расшибут – подо мной земля ползет. Очень слабое здоровье. – И неожиданно спросил: – Вы на меня не сердитесь?
– За что?
– За то, что у меня слабое здоровье.
Однажды, накануне окончания школьных занятий, Ахмат влетел ко мне с такой же стремительностью, как в день, когда появилась в газете его «Бабушка».
– Еду!.. Еду!.. – кричал он в восторге. – Вот смотрите, вот!.. И круглая печать тут и все!..
Я взял из его руки белый листок бумаги. Это было командировочное предписание. В нем Ахмат именовался внештатным сотрудником газеты и ему поручалось писать очерки.
– Что это значит? – с тревогой спросил я.
Все так же ликуя, Ахмат объяснил. Ученики всю зиму готовились, чтобы летом помочь колхозам. Как только кончатся экзамены, все Школьники разъедутся по деревням.
Сегодня утром Ахмата вызвали в редакцию, выдали документ и деньги и поручили ездить из деревни в деревню, писать очерки и корреспонденции о работе молодежи.
– Значит, ребята будут работать, а ты – смотреть и писать? Так, что ли?
– Так!.. – не замечая яда в моем вопросе, подтвердил он.
Я сказал:
– Ахмат, ты начинаешь с верхоглядства. Иди в колхоз с ребятами и делай то, что будут делать они: выдергивай сорняки, коси сено, ломай кукурузу. И думай только о том, как лучше это сделать. Пусть на твоих ладонях горят мозоли, пусть ноют твои – слышишь, Ахмат? – твои плечи и ноги. Спи с ребятами на полевом стане, купайся с ними в реке, – ни в чем не отделяйся от них. Позже все это отольется в твоем творчестве чистым золотом. А командировку и деньги отнеси в редакцию.
Это был ушат холодной воды. Радость исчезла с лица Ахмата. Он стоял растерянный, потрясенный.
Отнести обратно командировочное удостоверение? Туда, где ему, мальчику, доверили такое важное дело? Отказаться добровольно отказаться от счастья быть сотрудником газеты?
Боясь встретиться со мной глазами, опустив голову, чтобы скрыть мучительное смущение, он медленно пошел к выходу.
Я мысленно поставил себя на его место – и не нашел слов для осуждения. Было только грустно.
И я уже не ждал его.
Он пришел на другой день со страдальческим лицом. Жадно поймав мой взгляд, торопливо сказал:
– Вернул…
Видимо, он хотел улыбнуться, но губы не послушались, задрожали. Он прислонился к стене и беззвучно заплакал. Я успокаивал его как мог, а он, глотая слезы, говорил:
– Я всегда, всегда буду вас слушаться. Я буду писать о своем народе. Я знаю, вы хотите мне добра… Я всегда, всегда буду вас слушаться.
На другой день школьники выехали в колхоз. Я стоял на балконе, когда их колонна проходила мимо нашего дома. Впереди несли знамена. Маленький, толстенький барабанщик с усердием выбивал дробь. Я разыскал взглядом Ахмата. Он шел с рюкзаком за плечами в середине строя. Как потом мне сказали, ему, автору «Бабушки», предложили нести знамя, но он отказался, чтобы ничем не выделяться из среды других. Поймав на себе мой взгляд, он улыбнулся и по-пионерски отсалютовал мне. И пока колонна не повернула за угол, все оглядывался.







