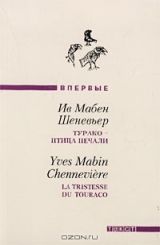
Текст книги "Турако - птица печали"
Автор книги: Ив Шеневьер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
Но и после ее ухода Пьер оставался во власти произведенного ею впечатления. Чтобы закрепить в памяти образ девушки, он еще несколько минут не спускал глаз с того места, где она только что сидела. Пустота захватывает того, кто в нее вглядывается. Какой-то студент задал ему вопрос. Пьер ответил невпопад. Постепенно он пришел в себя. Чтобы покончить с наваждением, перечитал последние абзацы письма, которое он писал, когда его отвлек приход Жюли: "Я не решаюсь поделиться с Вами этим воспоминанием. Оно еще так живо, по сравнению с другими воспоминаниями детства, с годами стершимися из памяти, причем из-за их исчезновения невозможно сравнить их с другими и понять, почему некоторые вещи забываются раньше других... Если я поделюсь им с вами, может быть, и это воспоминание тоже исчезнет. Если это произойдет, значит, в нем нет больше необходимости. Во время летних каникул я каждое утро играл с бабушкой, Вашей матерью, в карты. Она приглашала нас провести наиболее жаркое время года у себя на лоне природы, и мы жили во флигеле, примыкавшем к дому. Она принимала меня в маленькой гостиной рядом с ее спальней, в "зеленой комнате", которую так называли из-за цвета расставленной там мебели. Бабушка жульничала. Она могла и не делать этого: ее желание выиграть бросалось в глаза даже мне, ребенку, и чтобы сделать ей приятное, я всегда готов был проиграть. Вас она не любила. Когда она не хвалилась своим умением играть – причем я поддакивал ей, – ее разговор обычно сводился к одной теме: она критиковала Вас, Вашу одежду, Вашу прическу, которую она находила неэлегантной, Ваш характер, по ее мнению, капризный, Вашу расточительность, критиковала ваше поведение. Она описывала Ваши поступки, нагнетая подробности, как это часто свойственно выдумщикам, причем для нюансировки добавляла уточнения, делавшие, по ее мнению, неоспоримым все, что она говорила: "...вообще-то у меня нет явных доказательств, но еще при жизни твоего отца..." Ее желание навредить действовало катастрофически, даже сильнее, чем ее намеки.
Как-то раз в воскресенье – я помню это, потому что она заставила меня остаться дома играть с ней, вместо того чтобы идти с Вами в церковь, – она чуть было не проиграла партию не из-за моей ловкости или моего нежелания играть в поддавки, а из-за собственной рассеянности: она так старалась очернить Вас, что несколько раз упускала возможность побить мою карту. Она употребляла такие грубые, такие жестокие выражения, что я, не смея ей возражать, не удержался и заплакал. Глядя на мои слезы, она некоторое время продолжала свои наветы, но уже потише, еще что-то ворчала, что-то бормотала, наконец умолкла. Открыла карты, подсчитала очки. В тишине, воцарившейся из-за моих слез, я услышал, как в коридоре заскрипел паркет под удаляющимися шагами, шагами, которые могли принадлежать только Вам.
Значит, каждое утро вы стояли за дверью "зеленой комнаты". Вы слушали. Вы слышали брань и враждебные выпады Вашей матери, из ревности упрямо пытавшейся убить во мне безграничную любовь к Вам, желавшей исказить Ваш живой, очаровательный образ, который я всегда хранил в себе и который с каждым днем делался в моем сознании все прекраснее и прекраснее. Она тоже услышала Вас? Или это мои слезы подействовали? Так или иначе, но она прекратила наши игры, наши ежедневные встречи, прекратила промывание моих мозгов и сердца. С тех пор я никогда не играю ни в какие игры, и когда Вы..."
Пьер Дост разорвал незаконченное письмо и до самого закрытия библиотеки читал научную статью своего коллеги-археолога о недавно обнаруженных наскальных изображениях на острове, о существовании которого только что впервые узнал.
* * *
Даже после прихода к власти Ребель* сохранил свою кличку. Никто уже не называет его настоящим именем, которое участники подпольного движения за независимость предпочли просто забыть, чтобы невзначай не выдать его. Этой ночью Ребель выходит из одной из своих резиденций, которыми он пользуется, не являясь их владельцем, так как считает, что всякая собственность лишает человека свободы. Переодетый в старого моряка, он теряется в толпе паломников, которые при свете полной луны то ложатся на землю, то встают, снова ложатся и снова встают, продвигаясь всякий раз вперед на длину распростертого тела и поднимаясь так на вершину холма Барракуды. Там живут духи, основатели Острова, немые и невидимые, но активно действующие каждый раз, когда Барракуда просит их вмешаться в пользу или против кого-нибудь из его жителей.
* По-французски rebelle означает "мятежник". (Примеч. перев.)
Когда-то очень давно Барракуда выскочила из моря, спасаясь от демона вод, позавидовавшего яркому блеску ее чешуи и ее скорости. Первый островитянин спас ее и спрятал на вершине холма, где она и нашла пристанище. Духи, испокон веков населявшие это место, приняли беглянку не из сострадания (они безразличны к горю других), а просто чтобы развлечься. Они дали холму имя своей подопечной, родовое имя, которое дает при рождении каждой рыбе Луна, мать приливов. Благодаря этому вид, к которому рыба принадлежит, не должен никогда угаснуть. Упустив добычу, демон еще долго плавал вдоль берегов Острова. Со временем его жажда мести утихла.
Неотличимый от других в одежде моряка, слившись с толпой, Ребель воздает почести Барракуде, к которой испытывает чувство солидарности и братства. В связи с особыми обстоятельствами он забывает о своей борьбе с суевериями и кладет лиловые цветы якаранды к подножию скалы из застывшей лавы, напоминающей сказочную рыбу. Собирала цветы Жюли, но сама она на церемонии не присутствует.
Совершив это паломничество, Ребель пробирается через густые заросли тростника и бамбука, отделяющие Виллу от берега и скрывающие ее от назойливых взглядов приезжих и рыбаков. Незаметно для Пери, сторожа Усадьбы, он перелезает через изгородь, спрыгивает на террасу и, по своему обыкновению, через окно залезает в спальню, где в постели, не сводя глаза с колышущихся занавесок, его ждет Жюли.
Зиа, не видя его, знает, что он здесь. Она им восхищается, но и побаивается его. Все время, пока он в доме, она будет умолять лесных духов о защите, будет сжимать ляжками тряпичную, утыканную булавками куклу, сделанную ею по образу и подобию Ребеля, в униформе. У Зии опять идет кровь.
В полутьме Жюли рассматривает своего возлюбленного. Он волнующе красив. Отец Жюли говорил: "Прежде чем унести человека с собой, смерть чаще всего искажает внешность жертвы, обезображивая ее. Иногда, наоборот, она делает ее красивее, чем когда-либо прежде. Так проявляется истинное коварство смерти: она заставляет печалиться о кончине одних, еще прекрасных, и сожалеть, что печаль о тех, кого она успела обезобразить, недостаточно глубока". Такую высшую красоту отец увидел на лице супруги, в тот день, когда она вернулась на Остров, чтобы умереть. И вот теперь Жюли видит нечто подобное, отмечая вдруг усилившееся очарование любимого мужчины, видит эту хитрость смерти. Ей трудно дышать. Она боится за него.
Ребелю неведом стыд. Его желания откровенны. Он пользуется своим телом как бы независимо от его состояния, будь то в борьбе или наслаждении. Эта естественная непринужденность, лишенная тщеславия, освобождает его партнеров от комплексов, которые могли у них возникнуть под влиянием традиций и воспитания. Его заразительная веселость объясняет его популярность. Он непостоянен, но по-своему верен: как в политике он выдвигает лозунг равенства шансов для всех, так и в любви не позволяет себе никакой дискриминации и удовлетворяет, но лишь один раз, женщин, проявивших с риском для своей репутации явное желание отдаться ему. Однако при этом они должны довольствоваться этим единственным проявлением его благосклонности, дабы сохранить о нем незабываемое воспоминание, – его не затуманит разочарование, которое могло бы появиться при повторении опыта. Жюли от души смеется над таким хитрым оправданием его многочисленных похождений. Она не ревнует. Она единственная его постоянная любовница, избранница, и будет таковой, пока ей этого хочется.
На этот раз он, более нетерпеливый, чем обычно, не дает ей времени расспросить и не отвечает ни на какие вопросы, хотя, лаская ее, не может не слышать их. Он грубо срывает с нее ее немногие одеяния и руками, пальцами, губами, языком тщательно исследует податливое тело, все детали которого ему так хорошо знакомы. Жюли сопровождает его в этом чувственном путешествии: подставляет шею, поднимает руки, колени, раздвигает ноги, переворачивается, поощряет это нарастающее обладание ею, в котором не должно быть ни перерывов, ни поспешности, ибо малейшая заминка рассматривается как отказ, который он, впрочем, игнорирует.
Жюли любит это монотонное священнодействие. У нее от него не возникает ощущения скуки, напротив, оно придает ей уверенность. В любви ей неинтересны вариации, всякие искусственные экстравагантности, которые обычно придумываются заранее, даже если и кажутся спонтанными. Убийство, это крайнее, но логичное следствие покорности, не слишком бы удивило ее. Поэтому рассчитанным отклонениям от правил она предпочитает точное соблюдение ритуала. Ведь строгий протокол, возвышающийся над условностями, делает человека свободным.
По природе своей немногословный, Ребель молчит, когда любит. И благодаря этому молчанию Жюли получает высшее наслаждение от звуков любимого тела: от биения сердца и дыхания, от глухого шепота внутренностей и влажного причмокивания вспотевшей кожи. Что бы он ни делал, ей все в удовольствие. Зато после физической любви он становится говорливым. Смеясь, бросает, словно лозунги, категоричные заявления. Она воздерживается от критики этих высказываний, непродуманных и примитивных. Он не терпит дискуссий, и тем более – доказательств своей неправоты, считая все это праздным вздором. Его взгляды производили впечатление на первых его соратников по борьбе, хотя и не всегда убеждали, но он отбил у них всякую охоту перечить. "Подвергая сомнению идею, несогласие убивает ее, но убивает одновременно и себя; значит, спор бесполезен". В результате соратники просто отказались его понимать. Некоторые из-за этого погибли.
Жюли хочет того, чего хочет, и отказывается от того, от чего отказывается. Она ничего не просит, ничего не ждет. Она живет сегодняшним днем. Она не задумывается о том, стоит ли ей порвать эту связь или стоит ее продолжать. Когда он приходит, она пользуется его телом, сила которого, красота и упругость открывают ей лучше, чем что-либо, секреты, возможности и власть ее собственного тела. Получив наслаждение, она не лжет и ничего не обещает. Она слушает Ребеля. Запускает пальцы в его стянутую серебряным кольцом длинную вьющуюся черную шевелюру. Гладит ее, распутывает, расчесывает. Потом он уходит, как пришел, выпрыгивая в окно.
В детстве, обычно на исходе лета, Жюли сопровождала отца в его поездках по фермам, куда он отправлялся взимать арендную плату. Ей было скучно слушать раболепные речи должников, пытающихся добиться от хозяина уменьшения долга или отсрочки выплаты. Отец всегда уступал их просьбам. Только в одном месте она любила задерживаться – это был дом, где жил Ребель со своей матерью, растившей его без мужа. Она была высокая, сухощавая, с коротко подстриженными волосами. Одна обрабатывала землю, на которой из поколения в поколение трудились ее предки. На солнце ее черная кожа отливала синевой. Она была немногословна и разговаривала только с миссионерами. Они помогли ей вырастить сына, родившегося от неизвестного отца, белого, если судить по цвету кожи мальчика. К мужчинам она относилась с недоверием, потому что те вечно пытались ее соблазнить. Она ни с кем не здоровалась и склоняла голову только перед Господом Богом в храме, куда ходила молиться каждое воскресенье, а иногда и на неделе, вечером, после работы, когда от усталости и одиночества ей хотелось разрыдаться. К сыну, единственному и нежеланному, она была чрезвычайно строга. Учила его жизни с помощью пословиц, якобы унаследованных ею от матери, знахарки, чьи деяния еще сохранились в памяти людей. На самом деле мать Ребеля выдумывала эти правила, записывала их на страницах приходского журнала и заставляла сына зубрить наизусть:
– солнце никогда не бывает одиноко;
– паук плачет, когда кусает;
– улыбки – это слезы Сатаны;
– навязанное молчание убивает, свободное освобождает;
– не смотри на Луну, а то украдешь ее свет;
– взгляд твоей жертвы – это взгляд твоей матери...
В школе Ребель легко стал первым в учебе. Бегал он тоже быстрее всех, взбирался по канату на одних руках, перепрыгивал через самые высокие изгороди; с товарищами он старался не ссориться, но если приходилось всегда выходил победителем. Его послушание и успехи радовали учителей. К его репутации, к его ауре они относились с почтительным удивлением. А вот независимость духа и сила характера беспокоили их. После уроков он возвращался домой, часто меняя маршрут. Разорял гнезда, выпивал яйца птиц, жевал соломку красного овса, ел муравьев, любил наблюдать за стадами газелей, следил за огнем, когда у подножия холмов жгли высохшую траву, чтобы ускорить рост молодых побегов, ловил змей и, приласкав их, отпускал на волю.
Как и мать, он был всегда один. Поверял вслух птицам, травам и деревьям свои вопросы, планы, мечты, свою радость и печаль. Иногда пел. Казалось, его низкий, сочный голос успокаивал даже грозы. В такие минуты свободы у него был тайный свидетель, о котором он не подозревал, – Жюли Керн. Ровесники, оба они любили одиночество. Нередко после уроков она тайком следовала за ним. Какой бы путь мальчик ни выбрал, кончался он всегда в Усадьбе, где Жюли ждала Зиа, а Ребеля – его мать. Детей никогда не ругали. Даже если они приходили позже положенного, измазанные или в рваной одежде из-за проказ в пути.
Однажды Жюли, по обыкновению, пошла по следам Ребеля. Большой Турако все время кружил над ними. Заглядевшись на птицу, девочка наступила на сухую веточку. Ребель услышал хруст, но не оглянулся, не замедлил шаг. Через некоторое время он остановился на одной из полян и лег на сухой папоротник. Старые красноклювые ткачики поджидали заката солнца, чтобы, летая над болотом, заросшим осокой, лакомиться пробуждающимися в сумерки насекомыми. Взглянув в ее сторону, он убедился, что девочка следит за ним, и стал поглаживать свой напрягшийся член. Жюли продолжала смотреть. Когда он вскрикнул, она не выдержала и рассмеялась. Это был радостный и откровенный смех, вызвавший у него улыбку. Он встал, пошел к папайевому дереву, слишком тонкому, чтобы спрятать ее, и молча протянул ей ту самую руку, которой только что ублажал себя. Жюли взяла ее, поцеловала и не отпускала всю дорогу, оказавшуюся в этот день особенно длинной.
С того дня им хотелось быть вместе. Когда Жюли уехала на континент учиться, то, чтобы не расставаться с прерванной любовью, она по памяти восстанавливала самые яркие мгновения их частых встреч. Ребель тоже уехал с Острова. Надеясь разрушить то, что перестало быть реальной действительностью, он долго не подавал о себе никаких вестей. Потом вернулся во главе небольшого отряда эмигрантов-соплеменников, горячих сторонников независимости Острова, которых он обучил подпольной борьбе. Вернулась и Жюли. Она никогда не верила в пользу вооруженной борьбы и даже посмеялась бы, узнав о приключениях Ребеля, когда бы из-за него, из-за его манихейских доктрин и губительных утопий не умирали бы и правые и виноватые. На фоне того, что он делал, упреки и комментарии выглядели бы смехотворными, и она предпочла ничего ему не говорить, когда, проникнув к ней ночью через окно, молча овладев ею, потом еще, он, словно они только вчера расстались, подробно рассказал ей о своем изгнании, о борьбе и победе, о разочарованиях и о том, что он предпочел отмежеваться от новых властей.
Закончив рассказ, положил голову на живот Жюли. Чтобы успокоить его, она гладила ему волосы, шею, плечи. Руки ее дрожали от пережитого волнения. Он закрыл глаза. В ту первую ночь, когда они встретились вновь, она не сомкнула глаз: образы, всплывшие из его рассказа, насыщенного событиями слишком тяжелыми, чтобы держать их в себе, не давали ей уснуть до рассвета. Только под утро, измученная, она забылась сном. А когда проснулась, его уже не было.
* * *
Зиа взывает к вечно движущимся облакам. Подобно деревьям, стелам, они являются действенными посредниками между людьми и невидимыми силами. Лучше всего прибегать к их помощи летом, причем на рассвете. Высокие перистые облака, набухшие за ночь, постепенно тают. Кучевые, пробуждаясь, охотно отдаются нарождающейся жаре. Стараясь оттянуть свой неизбежный распад, они начинают лениво двигаться. Если обращаться к ним ласковым голосом, то ничем не рискуешь. Но действовать надо быстро: с наступлением дня настроение их зачастую резко меняется, ускоряя метаморфозу, из-за которой их способность воспринимать молитвы жителей земли притупляется.
Наученная долгим опытом, Зиа знает, когда нужно направить к облакам дым от крошечного костра из редких трав, смешивать которые Зию научила еще ее мать. Каждый раз она улучшает первоначальный набор, добавляя новую неизвестную травинку. Если оказывается, что от растения дым становится ядовитым, что оно ранит облака, они быстро распадаются, напоследок выражая свое возмущение. Если же от него аромат, напротив, обогащается, им приятно и они делаются послушными. До сих пор Зиа не разочаровывала их. Секрет ее состоит в том, что она добавляет к листьям цветы нового растения. Со времен сотворения мира дух ветра селится в цветах; поэтому их сгорание может лишь радовать облака.
Зиа, волнуясь оттого, что Ребель находится у Жюли, готовит ту самую смесь из растений, которая охраняла Виллу от невзгод в смутные времена независимости, – теперь она должна смягчить гнев невидимых сил, которым эта связь тоже не нравится. Из больших глиняных горшков Зиа достает забродившие в собственном соку листья вербены, алоэ и дурмана, а из ржавой железной коробки, где отец Жюли хранил неприличные картинки, берет зерна глориозы, текомы и канны. Дрожащей рукой добавляет свежие цветы алектории и один-единственный листик каладиона, такой тонкий, что, когда она срывала его с дерева, он весь просвечивал и сквозь него можно было различать очертания предметов.
Огонь пожирает эту смесь без пламени. Только белесый дым с вкраплением серых струек поднимается к небу робкими завитками. Ребель целует Жюли в последний раз и через окно выпрыгивает из спальни. Прежде чем исчезнуть за стеной бамбуковых зарослей, он бросает в кусты с ярко-красными воронкообразными цветами стакан, из которого он только что выпил залпом пальмовую водку.
Зиа уверена, что, если она не видит, значит, не видят и ее. Закрыв глаза, она на ощупь берет немного теплого пепла. Кладет его себе на язык, перемешивает со слюной, чтобы, широко раскрыв разъедаемые застарелой катарактой глаза, глядя прямо на солнце, проглотить и снискать таким образом благоволение облаков.
III
Подруга, пригласившая Пьера, недавно вернулась из долгой экспедиции в Пакистан и хотела сообщить ему о первых результатах раскопок. Она добавила: "Будет несколько умных и при этом хорошеньких женщин в твоем вкусе. Если не хочешь приехать ради меня, приезжай хотя бы ради них". В шестидесятые годы на раскопках в Турции они вместе открыли для себя радости и невзгоды своей профессии. Пьер Дост стал верным рыцарем юной коллеги, чьи юмор, великодушие и эрудиция с лихвой компенсировали некрасивую внешность и неженственную грубость жестов. Она была безразлична к любовным играм, не знала их и не огорчалась этим обстоятельством. Ее единственным развлечением, когда ей казалось, что она хорошо поработала, была выпивка. После праздника, устроенного по случаю открытия ею хеттской стелы, она чуть не умерла от алкогольного отравления. В больнице, куда ее срочно доставили мертвецки пьяной, она познакомилась с Элен Парм, выздоравливавшей после попытки самоубийства.
– Когда ты красива, когда тебе нет и тридцати, зачем пытаться умереть в захолустном городке средиземноморского побережья? – спросила она Элен, нисколько не заботясь, что той вопрос может показаться нескромным.
Элен ничего не ответила этой неожиданной подруге, которая приняла живое участие в ее горе и оплатила ей билет до дома, поскольку у нее украли весь багаж. Потом они часто встречались. Подружились. Элен даже переняла дурную привычку своей "благодетельницы", как она звала ее в шутку, приучилась к спиртному.
Вопреки своему обыкновению, Пьер приехал с опозданием. На протяжении всего ужина он не проронил ни слова. Его соседка по столу справа, супруга известного архитектора, тараторила не умолкая, описывала преимущества и недостатки своего положения жены-домохозяйки, хорошие и дурные качества своих детей, прелести и трудности жизни за городом, благотворное влияние плавания на здоровье ее семьи, которая в полном составе занималась этим видом спорта по воскресеньям. Соседка слева, его коллега, провела вместе с ним в университете всю вторую половину дня. Она подбрасывала темы для разговоров, следила за своевременным обслуживанием и подачей блюд – этим занимался консьерж – и не обращала никакого внимания на Пьера. Напротив него сидела Элен Парм, стройная, в длинном коричневом с золотом платье из шелка, расшитом индийскими мотивами, с обнаженными руками, без колец на пальцах с темно-красным маникюром, с ниточкой мелкого жемчуга вокруг шеи, с шиньоном светлых волос, который украшал и удерживал черепаховый гребень, инкрустированный крошечными изумрудами. Пьер никогда раньше не видел ее.
Она не отвечала на вопросы, которые то и дело задавали ей соседи по столу, все более и более озадаченные ее упорным молчанием. Глядя с улыбкой им прямо в глаза, она забавлялась, видя их нарастающее смущение, побуждая их продолжать спрашивать, поскольку кажущееся ее внимание как бы поощряло их на это. Кофе подали в гостиной. Каждый мог выбрать себе собеседника. Элен подошла к Пьеру, которого захватила было его надоедливая соседка, несказанно довольная, что нашла благосклонного слушателя, и представилась. Говорливая мамаша своего семейства не без раздражения уступила позиции и удалилась в поисках другой жертвы для своих скучных откровений. Смелость Элен понравилась Пьеру. Она предложила ему свою чашку кофе, взяла себе другую, пригласила его сесть рядом с ней и заговорила.
Пьер с любопытством слушал ее насыщенный, слегка сбивчивый монолог, который он, извинившись, прервал лишь около полуночи. Затем попрощался с хозяйкой, явно довольной, что они поладили.
На следующий день Элен позвонила и пригласила Пьера посмотреть фильм, единодушно расхваливаемый прессой. После этого просмотра, не оправдавшего надежд, разговор у них долго не клеился. Элен повела Пьера в ресторан, где она заказала столик, оказавшийся слишком близко к кухне. Сама выбрала меню: толстый бифштекс с кровью, жареный картофель под соусом с пряной зеленью, шоколадный мусс. Пьер выбирал вино. Ужин был недолгим. Беседа оживилась, но осталась поверхностной. Пьер хотел вернуться домой на такси, чтобы избавить Элен от необходимости отвозить его. Однако она настояла на своем.
В машине оба молчали. Когда Пьер уже взялся за ручку дверцы, чтобы выйти, Элен выключила мотор, повернулась к нему и поцеловала в губы. Он почувствовал во рту ее толстый, горячий язык.
То, как люди выражают желание, всегда забавляло Пьера Доста. Когда желание было взаимным, эта толика иронии усиливала чувство и наслаждение. Когда же взаимность отсутствовала, Пьер с трудом удерживался от смеха. Он мягко отстранил Элен и, открыв дверцу, сказал:
– Надо идти. Уже поздно. Вы, наверное, устали. Я, например, очень устал. Спасибо за чудесный вечер.
Элен не слушала его. Она расстегнула блузку и бюстгальтер, навалилась на Пьера нетерпеливо и неумело.
– "Шатонеф-дю-пап", которое мы пили, обычно не действует так сильно, сказал Пьер, но его слова не имели никакого эффекта.
Оказавшись свидетелем экстравагантного и неожиданного темперамента, он дождался, пока Элен удовлетворит свое желание удовлетворить его.
Несколько лет спустя их дороги вновь пересеклись. Очень скоро они решили пожениться. Ни он, ни она не говорили, ни вообще о той первой встрече, ни о безудержном приступе смеха, который одолел Пьера, когда Элен, с пылающим лицом и всклокоченными волосами без тени стыда облизывала губы.
* * *
Иногда Элен возвращалась поздно вечером. В этих случаях она не пыталась как-нибудь мягче и тише, чем обычно, закрыть дверь. Ведь создавать меньше шума значило бы признать себя виноватой, а хлопать сильнее выглядело бы как ненужная и неловкая провокация. Пьер продолжал чтение, прерванное щелчком замка. Он на долгие часы отрывался от работы, строя различные гипотезы, и все они подтверждали его подозрения. С приходом Элен его треволнения заканчивались, и он напускал на себя безразличный вид. Она открывала дверь в его кабинет, входила, никогда не объясняя причину столь позднего возвращения. Он не здоровался. Она предлагала ему рюмку коньяка. Он отказывался кивком головы. В какой-то момент он, прежде чем она покидала, улыбаясь, комнату, решался тихо спросить ее, не отрываясь от книги и переворачивая еще не прочитанную страницу:
– Вы ничего не хотите мне сказать?
Все с той же улыбкой Элен уходила, не ответив на вопрос. Затем запиралась в ванной, принимала горячий душ, причесывалась, не видя своего отражения в запотевшем зеркале, накидывала пеньюар и устремлялась в комнату сына, Марка. Тот, вздрагивая, просыпался от ее поцелуев.
Пьер ложился на рассвете. Они спали на парных кроватях. Прежде чем закрыть глаза, он долго глядел на нее. Она была так неподвижна, что порой он в тревоге прикасался пальцем к ее виску, чтобы убедиться, что пульс бьется. Только один раз на заданный вопрос он получил ответ в виде записки на своей подушке:
"Нет, мне ничего тебе сказать. Мое раскаяние, даже будучи искренним, все равно было бы лживым. Я не отрицаю свою вину, но я ее люблю. Мне приятно сознаться в этом. Причиненное зло нельзя исправить. Признание ничего не дает. Несделанное добро не компенсируется. А раз так, то зачем что-либо тебе рассказывать? Неужели тебе, неисправимому археологу, так уж хочется все время пополнять мое досье?"
Только один раз она легла в постель, не приняв душ и не снимая макияжа. Она была пьяна, что случалось с ней все чаще и чаще. Ее храп мешал ему спать. Чтобы не слышать его, Пьер накинул на ее лицо, отмеченное печатью распутства, шелковое покрывало, привезенное им еще в студенческие годы из Китая.
– Искушение Отелло... – пробормотал он. – Впрочем, действительно согрешивших Дездемон никто не душит.
Он засмеялся своим словам. Элен приоткрыла глаза и, вроде бы даже не узнав его, тут же заснула опять. Наутро она проснулась в дурном настроении, стала к нему придираться, упрекать его в том, что в гостиной беспорядок, что в коридоре свалены журналы и книги, что он пьет китайский чай, пахнущий дымом, что демонстративно игнорирует светские правила общения и с явным презрением относится к еще оставшимся у нее друзьям, которых она не решается приглашать в дом, чтобы его не расстраивать... Напоследок она обвинила его в слабом здоровье сына: это-де по его вине она не прервала нежеланную беременность.
Громкий монолог разбудил Марка, и тот вошел в гостиную, протирая глаза. Присутствие сына не утихомирило Элен. Она продолжала кричать о своем отвращении к навязанной ей роли матери, о своем безразличии к детям, ко всем детям, "без исключения", добавила она, глядя на сына.
Побледневший Марк не посмел подойти к отцу, а тот не решился взять его на руки.
* * *
В тот вечер на Элен был синий халат с воротником, вышитым красными цветами. Она села на краешек кровати, закурила сигарету, разобрала почту, пробежала глазами письма и открытки, отложила на круглый журнальный столик счета, подлежащие оплате, взяла с прикроватной тумбочки книгу, открыла ее, тут же закрыла, положила возле лампы, потушила свет. Сунув в полутьме ноги в бархатные тапочки на ковре, прошла ленивым шагом к двери на балкон. Там, стоя в темноте, прислонившись лбом к запотевшему стеклу, стала смотреть на нескончаемый поток машин с горящими фарами. Усталая и отупевшая от этого зрелища, она в конце концов перестала отличать автомобили от пешеходов, убегавших от дождя в домашнее тепло и уют.
Марк не сводил с нее глаз. Подошел поближе. Не оборачиваясь, она протянула ему руку. Он взял ее, неловко поцеловал, смущенный от наконец-то удовлетворенного долгого ожидания. Она высвободила руку, чтобы избежать чрезмерного прилива нежности, который отвлек бы ее от ощущения недавней близости того, о ком она не переставала думать, внутренне переживая, снова и снова вспоминая самые острые ощущения дневной встречи, засохшие следы которой еще сохранились у нее на теле. Но, тут же инстинктивно испугавшись, что будет за это наказана, погладила сына по голове. С нежностью, даже удивившей мальчика, повела его на кухню, разогрела ужин, приготовленный домработницей перед уходом.
Элен была довольна, что та уже ушла, что ее не будет смущать присутствие этой здравомыслящей и сдержанной женщины, безразличной к самым интимным излияниям хозяйки, не пытавшейся ее осуждать, но всегда без малейшего колебания принимавшей сторону Марка, которого она любила как родного так и не родившегося у нее сына.
Пьер, признанный авторитет в археологии, раз в неделю читал лекции молодым специалистам. Это был тот самый вечер, когда он возвращался поздно. Элен накрыла на стол. К макаронам с мясом она подала салат из листьев валерианницы. Попробовала его и решила, что ему не хватает остроты. Марк попробовал макароны. Они были чуть теплые. Он состроил гримасу. Элен разрешила ему не есть их. Эта необычная снисходительность встревожила мальчика. Из осторожности он заставил себя проглотить несколько кусочков, чтобы доказать свое желание угодить, но скользко-приторные трубочки чуть не пошли из него обратно. Элен спросила, не хочет ли он чего-нибудь другого. Марк не ответил. Когда он оставался один с матерью, ему достаточно было несравненного счастья любоваться ее бледным лицом с кругами под глазами, ее светлыми с рыжеватым оттенком волосами, ее белой кожей, правильными чертами лица со слегка выдающимися скулами, ее серыми глазами, ртом, губами, по которым она, прежде чем начать говорить, быстро проводила языком, любоваться ее шеей, плечами, жестами. И когда она говорила подолгу, несвязно, часто делая паузы, он не перебивал ее, не задавал вопросов, а только слушал, даже не пытаясь понять.







