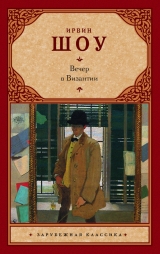
Текст книги "Вечер в Византии"
Автор книги: Ирвин Шоу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Крейг покачал головой и положил желтые листки на полку у окна. Три-четыре страницы текста остались непрочитанными.
– В чем дело? – спросила девушка. Она внимательно за ним наблюдала. Он чувствовал на себе ее пристальный взгляд сквозь темные очки и, читая, старался сохранить равнодушный вид. – Нашли какой-нибудь ляп?
– Нет, – ответил он. – Нашел, что очень не симпатичный портрет вы нарисовали.
– Прочтите до конца. Дальше будет лучше. – Она встала и ссутулилась. – Я оставляю вам текст. Знаю, как трудно читать в присутствии автора.
– Лучше возьмите это с собой. – Крейг показал рукой на листки. – Я славлюсь тем, что теряю рукописи.
– Это не страшно, – сказала девушка. – У меня есть копия.
Снова зазвонил телефон. Он взял трубку.
– Крейг слушает. – Он взглянул на девушку и пожалел, что опять произнес эту фразу.
– Дружище, – сказал голос в трубке.
– Привет, Мэрф. Откуда звонишь?
– Из Лондона.
– Ну, как там?
– Выдыхаются, – сказал Мэрфи. – Не пройдет и полгода, как они начнут превращать местные студии в откормочные пункты для черных ангусских быков. А у вас там как?
– Холодно и ветрено.
– Но все же лучше, наверно, чем здесь. – Мэрфи по обыкновению громко кричал, его было слышно во всех концах комнаты. – Мы передумали и летим завтра, а не на следующей неделе. Остановимся в отеле «На мысу». Приходи завтра к нам на ленч, ладно?
– С удовольствием.
– Прекрасно, – сказал Мэрфи. – Соня тебе кланяется.
– А я ей, – сказал Крейг.
– О моем приезде никому не говори, – сказал Мэрфи. – Хочу несколько дней отдохнуть. Не для того я тороплюсь в Канн, чтобы с утра до вечера болтать с этими слюнявыми итальяшками.
– На меня ты можешь положиться, – сказал Крейг.
– Я позвоню в гостиницу, – сказал Мэрфи, – и велю поставить вино на лед.
– А я сегодня дал зарок не пить, – сказал Крейг.
– Ну, это ты зря, старик. Значит, до завтра.
– До завтра, – сказал Крейг, кладя трубку.
– Я невольно подслушала, – сказала девушка. – Это был ваш агент? Брайан Мэрфи?
– Откуда вы все знаете? – спросил Крейг. Голос его прозвучал резче, чем ему хотелось.
– Да все знают, кто такой Брайан Мэрфи, – сказала девушка. – Как вы думаете, он согласится поговорить со мной?
– Об этом вы его сами спросите, мисс, – сказал Крейг. – Не я его агент, а он – мой.
– Я думаю, согласится, – сказала она. – Разговаривал же он со всеми другими. Впрочем, не будем забегать вперед. Посмотрим, как все сложится. Хорошо бы мне часок-другой послушать ваш разговор с ним. В сущности, лучший способ сделать это интервью, – продолжала она, – это дать мне возможность потереться возле вас несколько дней. Побыть в роли молчаливой поклонницы. Вы можете представить меня как племянницу, секретаршу или как свою любовницу. Я надену платье. У меня прекрасная память, и, чтобы не смущать вас, я ничего не буду записывать. Буду только наблюдать и слушать.
– Прошу вас, мисс Маккиннон, не будьте так настойчивы, – сказал Крейг. – Я плохо спал ночью.
– Хорошо, – сказала она. – Больше я не буду вас сегодня беспокоить. Ухожу. Прочтите все, что я о вас написала и подумайте. – Она повесила сумку на плечо. Движения ее были резкими, не девическими. Она уже не горбилась. – Я буду рядом. Везде. Куда бы вы ни пришли, вы увидите Гейл Маккиннон. Благодарю за кофе. Можете меня не провожать.
Прежде чем он успел воспротивиться, она уже ушла.
2
Он медленно прошелся по комнате. Нет, это не для него. Такие номера предназначены для людей праздных, у которых по утрам только и забот что решать, пойти выкупаться или нет и в каком ресторане сегодня пообедать. Он закупорил бутылку и поставил в шкафчик. Собрал в охапку свои вещи, прихватил недопитый запотевший стакан с виски, пошел в спальню и бросил одежду на кровать. Простыни и одеяла сбились – он беспокойно спит ночью. Вторая постель осталась нетронутой. Кто бы ни была та дама, для которой готовила ее горничная, дама эта провела ночь в другом месте. От этого в спальне было тоскливо и не уютно. Он прошел в ванную, вылил виски в раковину и смыл водой. Имитация порядка, Потом он возвратился в гостиную, вынес столик с остатками завтрака в коридор и, войдя обратно в номер, запер за собой дверь.
На письменном столе лежала в беспорядке груда буклетов и кинореклам. Он сгреб их и отправил в корзину для бумаг. Чьи-то надежды, ложь, таланты, алчность.
Письма, брошенные на столе, лежали рядом с рукописью мисс Маккиннон. Он решил заняться сначала письмами. Что поделаешь, прочесть-то их все равно надо и ответить – тоже. Он вскрыл конверт с письмом от бухгалтера. Начнем с самого неотложного. Главное – подоходный налог.
«Дорогой Джесс, – писал бухгалтер, – боюсь, что ревизия за этот год не пройдет гладко. Ваш налоговый инспектор, сволочь, пять раз заходил в контору. Это письмо пишу дома и печатаю на собственной машинке, дабы никто не снял с него копии, а Вам советую по прочтении сжечь.
Как Вы знаете, нам пришлось уклониться от проверки Ваших доходов за этот год в установленный срок; в этом году Вы в последний раз заработали крупную сумму, и Брайан Мэрфи провел ее по книгам европейской компании, поскольку большая часть картины снималась во Франции. Все считали такую операцию правомерной, потому что деньги, которые Ваша компания занимала под будущие прибыли, я провел как основной капитал. Так вот, Управление налогов и сборов оспаривает законность этой операции, а инспектор – настоящая ищейка.
Но дело в том (только пусть это останется между нами), что этот человек, по-моему, взяточник. Он дал мне понять, что если Вы свяжетесь с ним, то он оформит декларацию в лучшем виде. За вознаграждение. Намекнул, что восемь тысяч его бы устроили.
Вы знаете, что подобные сделки вообще не по мне.
Да и Вы, как мне известно, никогда такими фокусами не занимались. Но я все же решил сообщить Вам, как складывается обстановка. Если хотите предпринять что-либо, то скорее приезжайте сюда и переговорите с этим прохвостом сами. И не посвящайте меня в этот разговор.
Мы могли бы обратиться в судебные инстанции и наверняка бы выиграли дело, ибо все тут честно и открыто, никакой суд не придерется. Но должен предупредить, что Ваши судебные издержки составили бы около 100.000 долларов. Кроме того, газеты, учитывая Вашу известность и Вашу репутацию, подняли бы шум и представили дело так, будто Вас судят за уклонение от уплаты налогов.
Мне кажется, мы сможем договориться с этим ублюдком и тогда отделаемся налогом в 60-75 тысяч. Так что мой Вам совет – пойти на переговоры и быстро все уладить. А убытки можно будет годика за два возместить.
Когда будете отвечать, пишите по моему домашнему адресу. Людей у меня в конторе много, и неизвестно, кому можно доверять. Не говоря уже о том, что и правительство не гнушается теперь вскрывать почту.
С наилучшими пожеланиями – Лестер».
«Годика за два возместить, – подумал Крейг – Видно, над Калифорнией сейчас сияет солнце».
Он разорвал письмо на мелкие клочки и бросил в корзину. Жечь его, как советовал бухгалтер, он не стал – слишком мелодраматично. Вряд ли Управление налогов и сборов пойдет на подкуп горничных Лазурного берега, чтобы они склеивали найденные в мусорных корзинах обрывки писем.
Патриот, участник войны, законопослушный налогоплательщик, он не желал думать, на что мистер Никсон, Пентагон, ФБР, конгресс употребят его шестьдесят-семьдесят тысяч долларов. Есть же какой-то предел нравственным мукам, которым может подвергать себя человек, находящийся, хотя бы теоретически, в отпуске. «Не отдать ли эту почту Гейл Маккиннон, – подумал он. – Пусть ознакомится. А читатели “Плейбоя” будут в восторге. Дягилев во власти почтовой марки».
Он потянулся было за письмом адвоката, но передумал. Взял со стола стопку листов, взвесил на руке, нерешительно подержал над корзиной, потом стал наугад перевертывать страницы. «Ему сорок восемь лет, и выглядит он не моложе», – прочитал он. Сорокавосьмилетний мужчина в глазах двадцатидвухлетней девушки. Наверное, для нее он развалина. Стены Помпеи. Окопы Вердена. Хиросима.
Он сел за стол и стал читать с того места, на котором остановился, когда девушка вышла из номера. Посмотрим, каким тебя видят люди.
«Известно, что он не привык щадить ни себя, ни других, – читал он. – Поэтому в некоторых кругах за ним укрепилась репутация жестокого человека. У него много врагов, среди его бывших сотрудников есть люди, обвиняющие его в неверности. В подтверждение этого они указывают, что он никогда, за единственным исключением, не ставил более одной пьесы одного автора и, в отличие от других продюсеров, не имеет списка любимых актеров. Примечательно, что, когда два его последних фильма провалились (общий убыток оценивается в восемь с лишним миллионов долларов), его коллеги по кинематографу, можно сказать, не выразили ему никакого сочувствия».
«Вот бестия, – подумал он. – Откуда она все это узнала?» В отличие от большинства журналистов, которые приходили к нему брать интервью, не прочитав предварительно ничего, кроме рекламных материалов, распространяемых студией, эта особа оказалась хорошо осведомленной. И недоброжелательной. Он пропустил две страницы, бросил их на пол и стал читать дальше: «Однажды ему предложили высший пост в одной из известнейших киностудий. Говорят, что он ответил отказом, послав лаконичную телеграмму:
“С тонущего корабля уже сбежал. Крейг”.
Такое поведение объясняется, очевидно, тем, что он богат, – во всяком случае, он должен быть богат, если разумно распорядился заработанными деньгами. Один режиссер, с которым Крейг сотрудничал, объяснял это по-своему: “Просто он упрямый сукин сын, вот и все”. А актриса Моника Браунинг в интервью заявила: “Ничего тут странного нет. Просто Джесс Крейг – этакий милый, обаятельный, доморощенный мегаломаньяк».
«Неплохо бы все же выпить», – подумал Крейг. Он взглянул на часы: двадцать пять минут одиннадцатого. «Всего-то двадцать пять минут одиннадцатого», – подумал он. Он достал бутылку, сходил в ванную, налил в стакан виски, добавил из крана воды и, сделав глоток, вернулся в гостиную.
Держа стакан в руке, он стал читать дальше: «Крейга дважды приглашали в Канн членом жюри. Оба раза он отклонял приглашение. Когда стало известно, что в этом году он заказал себе абонемент на весь период фестиваля, то многих это удивило. В течение пяти лет, с тех пор как провалился его последний фильм, он держался в стороне от Голливуда и лишь изредка появлялся в Нью-Йорке. Контору свою он не закрыл, однако о своих планах ничего не сообщает. В последние годы значительную часть времени проводит в поездках по Европе. Причины его самоустранения неясны. Недоволен собой? Разочарован? Устал? Решил, что поработал достаточно и пришло время насладиться плодами трудов своих в спокойной обстановке, там, где нет ни друзей, ни врагов? Или просто сдали нервы? А может быть, этот человек приехал в Канн морально опустошенным, может быть, его привела сюда ностальгия и ему захотелось погрузиться в атмосферу, где все напоминало бы ему о прошлом, когда и он был полон энергии? Или, собравшись с силами, решил предпринять еще одну попытку добиться успеха? Но может ли и сам Крейг, поселившийся в дорогом “люксе” с видом на Средиземное море, ответить на эти вопросы?» Текст оборвался на середине страницы. Крейг положил листки на полку и снова отпил из стакана.
«Черт побери, – подумал он, – ей всего двадцать два года».
Он вышел на балкон. Выглянуло солнце, но ветер дул по-прежнему сильный. Никто уже не купался. Толстая дама исчезла. Или в море унесло, или отправилась в парикмахерскую делать себе прическу. Внизу, на террасе, за столиками уже сидели посетители. Крейг заметил спутанную шевелюру Гейл Маккиннон, ее свободно болтающуюся рубашку и джинсы. Она читала газету, перед ней стояла бутылочка кока-колы. Он видел, как к столику подошел мужчина и сел напротив нее. Она отложила газету. Крейг стоял слишком высоко над ними и не слышал, что она сказала.
– Я была у него, – сказала она мужчине. – Он клюнет. Попался, старый прохвост.
3
Он сел. Зрительный зал быстро заполнялся. Публика была молодая: длинноволосые бородатые парни с индейской повязкой на голове и сопровождающие их босоногие девицы в кожаных куртках с бахромой и длинных пестрых юбках. Вот такие же толкутся у Констанс в конторе. В то утро в программе был «Вудсток» – американский документальный фильм о фестивале рок-музыки, поэтому город был наводнен поклонниками рока, одетыми соответственно случаю. Крейг спросил себя: как бы они оделись, будь они в его возрасте? Сам он в их возрасте радовался тому, что мог сменить военную форму на серый костюм.
Он надел очки и развернул «Нис-матэн». Фильм шел три с половиной часа, поэтому сеанс начинался в девять утра, и Крейг не успел ни позавтракать, ни просмотреть газету.
В неярком розоватом свете ламп он взглянул на первую страницу газеты. В Кенте, штат Огайо, солдаты национальной гвардии застрелили четырех студентов. В зоне Суэцкого канала все еще продолжают убивать. Положение в Камбодже неясно. Ракета, запущенная с французского корабля, вышла из-под контроля, повернула в сторону суши и взорвалась в районе Лаванду, на побережье, разрушив несколько вилл. Мэры близлежащих городов протестуют, указывая с достаточным основанием, что подобные просчеты военных наносят ущерб le tourisme. [4]4
Туризму (франц.)
[Закрыть]Французский кинорежиссер объяснял в интервью, почему он не желает представлять свои фильмы на фестиваль.
Кто-то сказал «pardon», и Крейг встал, не отрывая глаз от газеты. Мимо него проскользнула, шурша длинной юбкой, какая-то фигура и опустилась в свободное кресло. На него повеяло легким запахом мыла, в котором было что-то детское.
– Доброе утро, – сказала девушка.
Он узнал темные очки, закрывавшие большую часть ее лица. Голова девушки была повязана узорчатым шелковым платком. Он пожалел, что не успел побриться.
– Все время мы оказываемся вместе, – засмеялась девушка. – Удивительно, правда?
– Удивительно, – согласился он. Сегодня у нее не только наряд, но и голос другой – мягче, без нажима.
– Я и вчера была там же, где вы.
– Я вас не заметил.
– Обычная отговорка. – Девушка посмотрела на программу. – Хотелось ли вам когда-нибудь снять документальный фильм?
– Может быть.
– Говорят, сегодня будет чудовищный фильм.
– Кто говорит?
– Вообще говорят. – Она разжала пальцы, и программа упала на пол. – Вы видели материал, который я вам послала?
– Я даже завтрак не успел себе заказать.
– Люблю ходить в кино в девять часов утра, – сказала она. – В этом есть что-то извращенное. В большом манильском конверте – дальнейшие размышления о Джессе Крейге. Взгляните, когда будет время. – Она захлопала в ладоши. В проходе, перед сценой, стоял рослый бородатый молодой человек. Он поднял руку, требуя тишины. – Это режиссер, – сообщила она.
– Вы видели его другие фильмы?
– Нет. – Она энергично аплодировала. – Я всегда болею за режиссеров.
У режиссера на руке была черная повязка. Он начал свою речь с того, что призвал присутствующих надеть траур по четверым студентам, убитым в Кенте, а в конце объявил, что посвящает свой фильм памяти погибших.
Крейг не сомневался в искренности молодого человека, но речь его, как и эта траурная повязка, вызвала у него смутное чувство неловкости. Возможно, где-нибудь в другом месте он и был бы растроган. Конечно, гибель четверых юношей опечалила его не меньше, чем всех остальных. В конце концов, он сам отец двоих детей, которые могли бы стать жертвами такого же побоища. Но здесь, в роскошном позолоченном зале, где праздная публика собралась посмотреть развлекательный фильм… Крейг не мог избавиться от ощущения, что жест этот продиктован не скорбью, а желанием продать товар подороже.
– Вы наденете траур? – прошептала девушка.
– Вряд ли.
– Я тоже. Не воздаю почестей смерти. – Она выпрямилась в кресле и сидела в настороженной позе, довольная собой. Он сделал вид, что не замечает ее близкого соседства.
Когда в зале погасли огни и начался фильм, Крейг постарался подавить в себе предубеждение. Он понимал, что его неприязнь к бородам и длинным волосам смешна, она вызвана лишь тем, что он рос и воспитывался в иное время и привык к другому стилю. В худшем случае эта манера отращивать волосы негигиенична, мода же приходит и уходит. Достаточно полистать какой-нибудь старый семейный альбом, чтобы убедиться, сколь нелепыми представляются взору современного человека наряды, некогда считавшиеся самыми что ни на есть скромными. Отец Крейга – он хорошо помнит это – в выходные дни появлялся на пляже в гольфах.
Ему сказали, что в картине «Вудсток» слово принадлежит молодежи. Что же, если так, то он готов слушать.
Он смотрел с интересом. Ему сразу стало ясно, что человек, сделавший фильм, обладает незаурядным талантом. Будучи сам профессионалом, Крейг ценил профессионализм в других. Фильм был снят и смонтирован без тени дилетантства или пустой развлекательности. Во всем чувствовалась серьезная работа мысли, на всем – следы кропотливого труда. И в то же время зрелище четырехсот тысяч людей, собравшихся в одном месте, кто бы они ни были, где и для какой бы цели ни собрались, вызывало в нем неприятное чувство. Чем дальше, тем больше его удручало упорное и бесконечное повторение кадров, изображавших дикие оргии. И музыка, и исполнение, не считая двух песен, спетых Джоан Баэз, показались ему грубыми, монотонными и невыносимо громкими, как будто шепот или даже нормальная человеческая речь выпали из голосового диапазона молодых американцев. Он воспринимал этот фильм как непрекращающуюся вакханалию звуков без кульминации. Когда в кадре появились парень и девушка, которые занимались любовью, не обращая внимания на объектив кинокамеры, он отвел глаза в сторону.
Не веря своим ушам, он слушал, как один из исполнителей, подобно заводиле в группе болельщиков на футбольном матче, выкрикивал: «Скажите: “f”!» Четыреста тысяч глоток отвечали: «F!» «Скажите: “u”!» Четыреста тысяч глоток отвечали: «U!» «Скажите: “k”!» Четыреста тысяч глоток отвечали: «K!» «Скажите… Что получилось?» – спросил человек голосом, многократно усиленным микрофоном.
В ответ прозвучало похабное слово – хрипло и раскатисто, как на каком-нибудь нюрнбергском сборище. И дикие одобрительные возгласы. Зрители, сидевшие в зале, зааплодировали. Крейг покосился на соседку – та спокойно сидела, руки ее неподвижно лежали на коленях. Она оказалась лучше, чем он думал.
Он смирно сидел в кресле, но на экран уже почти не смотрел. Что призвано означать это гомерически произнесенное ругательство? Слово как слово, он, случается, тоже употребляет его, правда, не часто. Само по себе оно не безобразно и не красиво и от столь частого употребления почти утратило первоначальный смысл. Теперь оно обрело так много новых значений, что уже не вызывает прежних ассоциаций. Выкрикнутое этим гигантским хором молодых, оно прозвучало как простое хулиганство, как лозунг, оно было оружием, знаменем, под которым пойдут полчища разрушителей. «Надеюсь, – подумал Крейг, – что отцы четверых убитых кентских студентов никогда не увидят “Вудсток” и никогда не узнают, что в произведении искусства, посвященном их покойным детям, есть эпизод, в котором около полумиллиона юношей и девушек почтили память своих сверстников похабным словом».
До конца фильма оставалось около часа, но Крейг уже покинул зал. Девушка, казалось, не заметила его ухода.
Над синим морем светило солнце, перед фасадом кинотеатра плескались на мачтах яркие флаги стран – участниц фестиваля. Даже поток машин на шоссе вдоль набережной и толпы людей на тротуарах и на бульваре Круазетт не нарушали благословенной тишины. Пусть хоть сегодня Канн помнит, что он должен быть похожим на одно из полотен Дюфи.
Крейг спустился вниз, к пляжу, и зашагал у самой кромки воды – одинокий человек, сам по себе.
Он вернулся в номер побриться. В почтовом ящике лежал большой манильский конверт, на котором косым четким женским почерком было начертано его имя, и письмо от дочери Энн, проштемпелеванное в Сан-Франциско.
Он бросил конверты на стол, прошел в ванную и тщательно побрился. Чувствуя приятное пощипывание после лосьона, он вернулся в гостиную и вскрыл конверт Гейл Маккиннон.
Поверх желтых листков с машинописным текстом лежала записка.
«Уважаемый мистер Крейг, – прочитал он, – пишу Вам поздно ночью в своем номере и все думаю: за что вы меня так невзлюбили? В моей жизни еще не было случая, чтобы кто-то не хотел встретиться со мной, но весь сегодняшний день, стоило мне взглянуть в Вашу сторону – на пляже или на ленче, в фойе фестивального зала, в баре или на приеме, – я готова была взорваться и разнести этот город. Циклон “Гейл”. За свою жизнь Вы, конечно, дали сотни интервью, причем людям, которые, я уверена, гораздо глупее меня, к тому же среди них было немало Ваших врагов. Почему же мне Вы отказываете? Ну что ж. Если Вы не желаете рассказать мне о себе, расскажут другие, только слушай, и времени даром я не теряла. Если я не смогу нарисовать портрет человека с натуры, я нарисую его таким, каким его видят десятки других людей. И если этот портрет не доставит ему большого удовольствия, то пусть он пеняет на себя, а не на меня».
«Обычный репортерский прием, – подумал Крейг. – Если ты не скажешь мне правды, то пусть твой враг скажет мне ложь. Вероятно, этому учат уже на первых курсах всех школ журналистики».
«Очень может быть, – читал он дальше, – что я напишу статью по-другому. Я уподоблюсь ученому, который наблюдает за диким животным в естественных условиях. Издали, незаметно, с помощью оптических приборов. У этого животного хорошо развито чувство дистанции, оно остерегается людей, употребляет крепкие напитки, инстинкт самосохранения незначителен, спаривается часто, причем с самыми привлекательными самками стада».
Он засмеялся. С такой женщиной бороться трудно.
«Я выжидаю, – заканчивалась записка. – И не отчаиваюсь. Прилагаю еще кое-какие бредни на ту же тему. Старалась печатать аккуратно. Уже четыре часа утра, я понесу эти листки по опасным темным улицам приморской Гоморры в Ваш отель, посеребрю ручку портье, так что первое, что Вы увидите, проснувшись утром, будет имя Гейл Маккинкон».
Он отложил записку и, не взглянув на желтые листки, взял письмо дочери. Всякий раз, беря в руки письмо одной из своих дочерей, он вспоминал ужасное признание дочери Скотта Фицджеральда: где-то она написала, что в бытность свою студенткой, получив от отца письмо, вскрывала конверт и трясла его в надежде, что на стол выпадет чек; само же письмо совала непрочитанным в ящик стола.
Он распечатал письмо. Уж это-то отец может осилить.
«Дорогой папа! – прочел он. Энн писала неразборчивым ученическим почерком. – Сан-Франциско – Город Уныния. Наш колледж почти закрылся, можно подумать, что война началась. Везде одни гунны. По обе стороны. Здесь весна – идут прения в дискуссионных клубах. Каждый назойливо твердит, что прав только он. Насколько я понимаю, наши чернокожие друзья хотят, чтобы я изучала не поэтов-романтиков, а танцы африканских племен и обряд обрезания молодых леди. Потому что, видишь ли, поэты-романтики не созвучны эпохе. И профессора ничуть не отличаются от всех тут, чью бы сторону они не принимали. В общем, образование – первый класс! Я уже не разгуливаю по кампусу. Придешь, а тебя там обступят двадцать человек, и у каждого своя причина требовать, чтобы ты возложила свое невинное белое тело на алтарь Джагернатха. [5]5
Одно из воплощений индусского бога-хранителя Вишну. Здесь и далее примечания переводчика.
[Закрыть]Что бы ты ни делала, ты предаешь свое поколение. Если ты не считаешь Джерри Рубина лучшим представителем мужской половины американской молодежи, значит, твой отец – либо президент банка, либо тайный агент ЦРУ, либо, упаси Бог, Ричард Никсон. А я вот возьму да запишусь сразу и в “Черные пантеры”, и в общество Джона Берча. Пусть тогда знают. Перефразируя известного писателя: ни студент, ни полицейский.
Знаю, я сама хотела ехать учиться в Сан-Франциско, потому что после того, как я столько лет училась в швейцарской школе, один ненормальный сверхпатриот убедил меня в том, что я теряю свой “американизм”, – хоть я и не поняла: как это? – а вот в Сан-Франциско, мол, занимаются настоящим делом. Этим летом я собиралась работать официанткой на озере Тахо – посмотреть, как живут другие. Но теперь мне уже наплевать, как они там живут, хотя понимаю, что это ненадолго. Стыдно признаться, сколь недолговечны почти все мои идеи – не дотягивают и до ленча. А американкой я с божьей помощью останусь, проживи я хоть до ста лет. Чего бы я хотела (если это не слишком тебя обременит), так это – сесть в самолет и махнуть на лето в Европу: пусть они без меня наводят порядок в колледже к началу осеннего семестра.
Если я действительно приеду в Европу, то мне хотелось бы по возможности избежать встречи с матерью. Полагаю, ты знаешь, что она сейчас в Женеве. Она пишет мне ужасные письма. Говорит, что ты невозможный человек, что хочешь погубить ее, что ведешь распутную жизнь, что у тебя климакс, и уж не помню, что еще. С тех пор как она узнала, что я употребляю пилюли, она относится ко мне так, словно я – Фэнни Хилл или одна из героинь маркиза де Сада, и если я поеду к ней, то вечера на берегах Женевского озера будут для меня очень тягостными.
Твоя любимая дочь Марша изредка пишет мне из Аризоны. Говорит, что ей там очень хорошо, только похудеть никак не может. Никакие веяния до Аризонского университета явно не доходят, жизнь там до сих пор похожа на те старые мюзиклы про студентов с их детскими забавами и драками подушками, что показывают по телевизору в “Программах для полуночников”. А полнеет она будто бы оттого, что вынуждена много есть, поскольку разбит наш счастливый семейный очаг. И здесь Фрейд – он проник даже в кафе-мороженое.
Вижу, что письмо получилось очень веселое, но мне, папа, совсем не смешно. Целую. Энн».
Крейг вздохнул и положил письмо на стол.
«Уеду куда-нибудь, где нет ни адреса, ни почты, ни телефона», – подумал он. Интересно, какими показались бы ему сейчас письма, которые он посылал во время войны своим родителям. Но он их все сжег после смерти матери, когда обнаружил аккуратно связанными в ее шкатулке.
Он взял желтые листки Гейл Маккиннон. Уж читать, так читать все сразу, пока не начался день.
Он вышел на балкон, на солнце, и уселся в кресло. Даже если его каннская вылазка окажется бесполезной, загар-то все равно останется. Он начал читать: «Далее: держится официально, не терпит фамильярности. Несколько старомодный смокинг, в котором он появился после вечернего просмотра в бальном зале возле Зимнего казино, придавал ему чопорный, отчужденный вид. В размягченной атмосфере зала, где преувеличенное выражение дружеских чувств является правилом игры, где мужчины обнимают, а женщины целуют людей, с которыми едва знакомы, его корректность может произвести неприятное впечатление. Он ни с кем не разговаривал больше пяти минут и непрерывно ходил по залу, но не суетливо, а с холодным достоинством. На приеме было много красивых женщин и среди них – по крайней мере две, с которыми когда-то было связано его имя. Обе эти дамы, великолепно одетые и дивно причесанные, очень хотели (так по крайней мере покачалось автору этих строк) удержать его при себе, но он и им уделил только по пять минут и отошел».
«Связано, – сердито подумал он. – С которыми когда-то было связано его имя. Кто-то снабжает ее сведениями. Из тех, кто хорошо меня знает и не относится к числу моих друзей». Крейг видел Гейл Маккиннон на приеме в другом конце зала и кивнул ей. Но он не заметил, что она ходила за ним по пятам.
«То, что он не поступил в колледж, объяснялось не материальным положением семьи Крейгов, ибо обеспечена она была сравнительно неплохо. Отец Крейга, Филип, до самой смерти, то есть до 1946 года, был казначеем в бродвейских театрах, и, хотя кризис 1929– 1930 годов, несомненно, неблагоприятно сказался на его финансовом положении, он тем не менее имел возможность послать своего единственного сына в колледж. Но Крейг вскоре после Пирл-Харбора предпочел пойти на военную службу. В армии он прослужил почти пять лет, дойдя до чина техника-сержанта, однако никаких наград, кроме нашивок участника войны, не удостоился*».
В этом месте стояла звездочка, обозначавшая сноску. Внизу, подле другой звездочки, он прочитал: «Уважаемый мистер Крейг, все это ужасно скучно, но, поскольку Вы еще не раскрылись, мне остается только одно – накапливать факты. Когда придет время свести их воедино, я подвергну материал беспощадной обработке, чтобы читатель не заснул».
Крейг снова обратился к основному тексту: «Ему повезло: с войны он вернулся невредимый; более того, у него в вещевом мешке лежала рукопись пьесы молодого солдата Эдварда Бреннера, которую он через год после демобилизации представил на суд зрителей, дав спектаклю название “Пехотинец”. Театральные связи Крейга-старшего, разумеется, немало помогли этому очень молодому и совершенно никому не известному тогда новичку успешно справиться с такой трудной задачей.
В последующие годы на Бродвее были поставлены еще две пьесы Бреннера, и обе они с треском провалились. Продюсером одной из них был Крейг. С тех пор Бреннер совершенно исчез из поля зрения».
«Из твоего, барышня, поля зрения, возможно, – подумал Крейг. – Но не из его собственного и не из моего. Если бывший молодой солдат прочтет все это, то напомнит мне о себе».
«По поводу того, что он редко сотрудничает с писателями больше одного раза, говорят, что как-то он в доверительной беседе сказал: “В литературных кругах распространено мнение, что любой человек несет в себе по крайней мере один роман. Сомневаюсь. Я знаю несколько мужчин и женщин, которые действительно несут в себе роман, но громадное большинство людей, которых я встречал, носят в себе, может быть, только одну фразу или, в лучшем случае, рассказ».
«Где это она слыхала, черт побери?» – подумал он с раздражением. Кажется, что-то в этом роде он действительно сказал (это была язвительная шутка, рассчитанная на то, чтобы отбрить надоевшего собеседника), хотя и не мог вспомнить, где и когда. Но, пусть даже сам он только наполовину верил тому, что сказал, слова эти, будь они опубликованы, отнюдь не укрепили бы за ним репутацию благожелательного человека.
«Она меня подстрекает, – подумал он, – эта сучка хочет вынудить меня на разговор, на сделку, хочет получить взятку за то, чтобы не взорвалась противопехотная мина».
«Интересно было бы, – говорилось далее в тексте, – попросить Джесса Крейга составить список людей, с которыми он работал, и разбить их сообразно указанным выше категориям. Вот эти стоят романа. Эти – рассказа. Эти – абзаца. Эти – фразы. Эти – запятой. Если мне доведется побеседовав с ним еще раз, я попробую уговорить его дать мне такой список».








