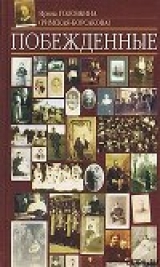
Текст книги "Побежденные"
Автор книги: Ирина Головкина (Римская-Корсакова)
сообщить о нарушении
Текущая страница: 44 (всего у книги 61 страниц)
– Ну, как? Едете или не едете? – приставал он.
Потребовать клятву, что он ее не бросит, показалось ей слишком банально, как-то унизительно. Да и что могла значить клятва для такого человека?
Она помедлила еще минуту.
– Я согласна, Геня… я поеду… Я верю вам… запомните это…
Он крепко сжал ее руку.
– Тогда бегите одеваться, а маме вашей скажите, что вечеринка начинается в шесть. Бегите, я подожду.
Когда Леля была готова, Зинаида Глебовна, наблюдавшая за переодеванием, приблизилась поправить на дочери оборку, а потом перекрестила ее со словами:
– Ну, Христос с тобой, моя детка. Повеселись, потанцуй, а я не лягу – буду тебя дожидать.
Пришлось сделать очень большое усилие, чтобы не заплакать и не броситься матери на шею.
Все совершилось так быстро и просто, и все с самого начала не так, как у Аси. Венчальное платье с длинным шлейфом, белые-белые цветы, свечи и торжественные песнопения – без них все приняло оттенок падения, которое смутно предчувствовала и которого боялась. Почему он не захотел дождаться хотя бы загса? Непонятный каприз омрачил ее неповторимые минуты и поставил ее в зависимость… А тут еще репродуктор выкрикивает: «Будь, красотка, осторожней и не сразу верь». А Геня не понимает всего, чем полна ее душа. Ах, эта неуместность мефистофельского хохота! Помогая ей одеваться, он шутит, торопит на вечеринку, и совершенно очевидно, что он… не в первый раз! Самого слабого оттенка смущения, растерянность или робости не промелькнуло в нем, и только усилием воли она подавляет желание расплакаться.
В переполненном шумном зале стало еще тяжелее. Вот когда довелось сдавать экзамен пройденной в детстве школе воспитания.
Как часто в воображении она рисовала себе балы: много-много огней, цветы, бриллианты, серпантин, исступленные завывания джаза, «шумит ночной Марсель», дамы в эксцентричных туалетах и красивые, смелые мужчины – весь этот угар оживлял в ней глубоко скрытый темперамент.
Те балы, о которых вспоминала мать, ее не привлекали; этикет высшего круга казался ей скучным, замораживающим. Присутствие высокопоставленных особ, эти дамы с шифром, эти матери, наблюдающие в лорнеты за своей молодежью, постоянная настороженность, чтобы не сделать «faux pas»[77]77
Бестактность (франц.)
[Закрыть], вся официальность – должны были, казалось ей, наводить тоску и лишать сладкого яда эти вальсы и pas de quatre[78]78
Падекатры (франц.)
[Закрыть], несмотря на всю изысканность среды и обстановки.
Но здесь, в этой зале, не было ни эксцентричности, ни этикета, а только распущенность; здесь слишком остро не хватало изящества. Мужчины уже слишком мало были похожи на салонных львов. Женщины – расфуфыренные и развязные жирные еврейки из nouveaux riche’ек[79]79
Нуворишек, то есть новых богатеек (франц.); здесь французское слово получило русское окончание и слегка изменило смысл – «ну, воришки»
[Закрыть] и пролетарские девицы, державшие носки вместе и пятки в стороны, а толстые руки сжатыми в кулачки. Короткие юбки открывали неуклюжие колени, губы у всех ярко размалеваны, безвкусица в одежде, ублюжество манер, визгливый беззастенчивый хохот, запах пота и дешевых духов, красные бутоньерки и обилие партзначков – все это действовало удручающе. Это было уже совсем не то, чего бы ей хотелось!
Замечал или не замечал Геня все это убожество? Он, правда, шепнул ей:
– Моя Леночка лучше всех.
А в общем, был весел и чувствовал себя, по-видимому, в родной стихии. Веселостью своей он в какой-то мере выказывал безразличие к тому, что произошло час назад между ними, и это оскорбляло ее в самых тонких чувствах.
Пришлось встать, когда пили за товарища Сталина.
С опущенными глазами, стараясь ничем не выразить кипевшего в ней негодования, она выпила за изверга, а Геня в каком-то глупом восторге еще повторял слова тоста!
Он опрокидывал рюмку за рюмкой и подливал ей, требуя, чтобы она выпила непременно до дна, и это было досадно и скучно. Видя, что он становится все развязнее и развязнее, она пыталась удерживать его:
– Геня, не пейте больше! Геня, довольно! – И обрадовалась, когда начались танцы.
Однако после нескольких фокстротов он потащил ее в буфет, где опять спросил портвейна. Усаживая ее, он как будто случайно коснулся ее груди, а наливая ей вино, почти обнял ее.
– Геня, ведите себя прилично, или я тотчас уеду домой, – сказала она, окидывая его недружелюбным взглядом. – Помните золотое правило: джентльмен может пить, но не может быть пьян.
Геня, разумеется, стал уверять, что он не пьян, совсем не пьян.
Не было вальса с веселыми выкриками «A une colonne!»[80]80
«В одну колонну!» (франц.)
[Закрыть] и «Valse generate!»[81]81
«Танцуют все!» {франц.)
[Закрыть]. Эти команды были ей знакомы еще по детским балам. Не было танго, которое ей не пришлось танцевать еще ни разу в жизни, только тустеп и фокстрот, которые танцевали, безобразно прижимаясь друг к другу и покачиваясь из стороны в сторону.
– Ты чего это, Геня, не знакомишь нас со своей девушкой? Себе приберегаешь? Пошли теперь со мной, гражданочка. Я этак в обнимку, – услышала она вдруг заплетающийся голос и, обернувшись, увидела пьяную красную физиономию и распахнутую на волосатой груди рубашку.
– Благодарю. Я с незнакомыми не танцую, – сдерживая негодование, ответила Леля и уцепилась за Геню.
– Что вы, Леночка, мы тут все знакомы! Это наш завхоз, отличный парень. Пройдитесь с ним, а я сбегаю в буфет вам за шоколадкой.
– Нет, Геня. Я вас прошу проводить меня домой. Я очень устала, меня ждет мама, а вы можете снова вернуться и танцевать хоть до утра. – И так как завхоз уже ретировался, прибавила: – Я не желаю танцевать с подобным типом: он едва на ногах держится, разве вы не видите? Нет, Геня: вы сначала проводите меня, а потом пройдете в буфет.
Он повиновался ее повелительному тону, но как только они оказались в такси, он, словно изголодавшись по ней, схватил ее в объятия, ощупывая жадными руками ее маленькие груди, которые ей не приходилось стягивать бюстгальтером, так они были миниатюрны.
– Геня, Геня, qu’est-ce que vous faites! Ca ne va pas![82]82
Что вы делаете! Не нужно! (франц.)
[Закрыть] – прошептала она, забывая, что он не понимает по-французки, и отстраняя его; но он сжал ее еще сильнее.
– Вы только не вздумайте прогонять меня! Я еще не успел на вас порадоваться, посмаковать. Обещайте, что ваша любовь у меня останется, что бы ни случилось, – бормотал он заплетающимся языком.
– Геня, перестаньте! Мы не одни. Потом поговорим.
– Нет, теперь, а то я ночь не буду спать. Вчера, Леночка… вчера… у меня был неприятный день… Мне это тяжело, честное ленинское! Уж этот мне Шерлок Холмс! Ему охота по службе выдвинуться, а я тут при чем? Я вообще-то, честно, люблю вас… Вы – милашка такая! Только зря вы мне вашего пажа подставили…
– Что? Что?! – в ужасе вскрикнула Леля.
– А вы обещайте, что не разлюбите! – продолжал бормотать Геня. – Ну да, может быть, они не узнают… Я вас спрашиваю: где тут моя вина? Я сам пострадавший – помешали моему счастью с девушкой… Я вас спрашиваю… У меня любовь, а они лезут – Дашкова им подавай…
Геня совсем раскис и, свернувшись клубком, соскользнул, словно куль, к ее ногам.
Шофер в эту как раз минуту затормозил перед домом Лели.
– Ну, девушка, кавалер ваш, видать, совсем размокропогодился! Как нам теперь быть с ним? В отрезвиловку, что ли, доставить?
Но Леля, вся заледенев, не понимала, о чем он говорит.
– Господи, Господи! Что же это! – повторяла она, хватаясь за голову.
– Да ничего, протрезвится! А вот кто мне теперь платить будет? Есть ли у вас деньги, девушка?
Сообразив наконец, о чем говорит шофер, Леля стала растерянно шарить у себя в сумочке и в карманах, где, к счастью, неожиданно отыскала то, что было нужно. Протянув деньги шоферу, она назвала адрес Гени, а сама бросилась к подъезду, словно убегая от погони.
– Боже! Боже! – слетало с ее холодных губ.
Глава тридцать третья
Накануне первого мая, сразу после работы – утренняя смена кончалась в три часа, Олег помчался на вокзал, в восторге от мысли, что может провести дома двое с половиной суток. Он и Маркиза взял с собой.
В Ленинграде, выскочив с собакой на ходу из трамвая, он забежал в гастроном на углу купить Асе и Славчику по пирожному.
Но дома было безрадостно – вчера Наталью Павловну вызвали в часть и взяли подписку о невыезде, а это значило, что со дня на день следовало ожидать ссылки.
Олег возмутился:
– Какая жесткость! Человеку скоро семьдесят! Вот нелюди!
Ася плакала, и Олегу даже пришлось строго поговорить с ней, чтобы как-то воззвать к ее мужеству.
Приложившись к ручкам Натальи Павловны и француженки и обменявшись с ними несколькими словами по поводу тех мер, которые следовало принять, Олег пошел в ванную, предвкушая удовольствие встать под душ, но натолкнулся там на Асю: она сидела на краю ванны с печально склоненной головкой и распущенной косой.
– Ты точно сестрица Аленушка, окликающая братца Иванушку… Ася, да ты опять плачешь!
– Я очень боюсь за бабушку. Я не смогу быть больше мужественной, я вдруг увидела бессилие: удар – выпрямимся, залижем раны, снова удар… опять из последних сил наладим жизнь, и снова… Когда же конец? У меня такое чувство, что наше гнездо разоряют. А ты стал слишком суров в последнее время, ты, может быть, разлюбил меня?
– Что ты! Что ты, родная! Никогда еще я не любил тебя так, как теперь! Но бывают минуты, когда с человеком, который падает духом, следует заговорить решительно и даже строго – только и всего! Прости, если я тебя обидел, моя чудная девочка. Ну, улыбнись же! – Но она закрывала лицо руками, и он увидел, что сквозь тонкие пальчики текут слезы. Кто-то толкнул Олега – это пудель протискивался к своей хозяйке, большие черные глаза собаки тревожно и соболезнующе устремились на Асю, но та не изменила положения.
– Теперь горе даже то, что могло бы быть счастьем, теперь все горе, все. Мне жалко нас всех, мне жалко самоё себя… – шептала она сквозь слезы.
– Да что же все-таки случилось, Ася? Какое еще осложнение или горе? Посмотри, я около тебя на коленях, не мучай меня и свою верную Ладу, скажи нам. – Она молчала, глядя в пол; нахмурившись, он молча всматривался в нее… – Кажется, я догадываюсь… Я правильно догадываюсь? – и взял ее руку.
Она кинула на него быстрый пугливый взгляд из-под ресниц и снова их опустила, на щеках остановились две крупные слезинки.
– Я угадал. Но разве это уж такое горе? Сейчас, конечно, очень трудный момент, я понимаю… И все-таки: неужели мы с тобой будем считать это несчастьем? Слезы-то, слезы, какие соленые, горькие, вкусные… – Он целовал ее мокрые щеки. – Ага, улыбнулась! Твоя улыбка – как радуга после дождя. Ася, послушай: а что если там девочка – дочка?
Она, все еще всхлипывая, прижалась к его груди.
– Так ты рад! А я ведь не решалась тебе сказать – я еще никому не говорила.
– С каких пор ты стала меня бояться, Ася? И почему ты так виновато смотришь? Ты – моя святая! Пусть мы бедствуем, и все-таки не будем унывать, Ася, пусть, наперекор всему, новый ребенок будет счастьем для нас!
После обеда Олег засел за письма Пешковой и Карпинскому, которые он составлял от лица Натальи Павловны, с просьбой заступиться перед органами политуправления за семидесятилетнюю больную вдову; Наталья Павловна должна была их переписать собственной рукой. Желая поднять присутствие духа у окружающих, Олег разработал план действий на случай, если повестка все-таки придет: Наталья Павловна поедет сначала с мадам, Ася останется кончать учебу и распродавать вещи и приедет позднее, обменяв ленинградские комнаты на комнаты в том городе, где будет Наталья Павловна.
– У меня только «минус» – к Луге я не прикреплен и надеюсь, что мы сможем поселиться все вместе, – говорил он, великолепно сознавая всю шаткость этих позиций. Тем не менее ему все-таки удалось несколько восстановить равновесие, и он с радостью заметил, что Ася приободрилась.
Часов около восьми вечера Олег, сидя на диване рядом с женой, доказывал ей, что великолепно может без всякого ущерба для собственного здоровья еще и еще ограничить расходы на собственную персону в Луге.
– Ни в коем случае не присылай мне больше таких роскошей, как сыр и ветчину, – говорил он.
Ася подняла голову:
– Я этого не посылала – у тебя воображение разыгрывается.
– Как же не посылала? А помнишь – через Елизавету Георгиевну, когда она навещала меня в Луге?
– Через Елочку я не передавала ничего!
Они с удивлением переглянулись.
– Елочка, стало быть, захотела нам помочь! – сказал Ася. – Это так на нее похоже: подсунуть незаметно от чужого имени. Ты видишь теперь, что напрасно называл ее сухой. Как жаль, что у нее нет своей семьи, своего счастья! – И, положив голову на плечо мужа, продолжала, понизив голос: – Знаешь, она ведь любила в юности, еще когда была сестрой милосердия в Крыму. Это был раненый офицер, он погиб от репрессии красных, а она не из тех, чтобы забыть и полюбить другого, она до сих пор полна им одним и плачет каждый раз, когда заговорят о нем; он подарил ей раз духи «Пармскую фиалку», и она до сих пор бережет, как самую большую драгоценность, этот флакон и ту косынку, которую он залил, пытаясь ее надушить.
Олег вдруг взял ее руку:
– Не рассказывай. Не будем касаться чужих тайн. – Он быстро встал. – Пойду выкурю папиросу.
Он никогда не курил в комнатах, а всегда выходил в кухню или в переднюю.
Итак, она любила его! Любила и, кажется, любит, эта замкнутая молчаливая девушка! Сколько выдержки, сколько такта!
Перед ним вереницами закружились образы… Вот она – юная, девятнадцатилетняя, в переднике с красным крестом, в длинной сестринской косынке. Он вспомнил ее застенчивую заботливость, тихий голос, осторожные руки, гордую головку… Эта крымская трагедия, на фоне которой выступала она и ее незамеченная, неоцененная любовь, была залита кровью… Воспоминания были так болезненны, что лучше было их не касаться, – агония белогвардейского движения, за которой тянулся призрак расстрела на тюремном дворе…
Он нахмурился и, потушив папиросу, вернулся в спальню.
Ася стояла на подоконнике, заглядывая в форточку.
– Дождь моросит, тихий, теплый, весенний. Теперь все зазеленеет, – сказала она ему с улыбкой, как будто дождь этот обещал благодатную перемену не цветам и листьям, а измученным людям. – Тучка проходящая… вот уже радуга – посмотри! Что если бы на этом причудливом облаке с янтарным оттенком вдруг показался Светлый Дух, но не грозный Архангел с трубой, призывающий на Суд, а другой, весь исполненный любви! И пусть бы его увидели одинаково и праведные и неправедные, и верующие и атеисты; может быть, тогда люди покаялись и все зло кануло в вечность… Как ты думаешь?
Но он думал совсем о другом и сказал:
– Не хочешь ли пройтись со мной к Елизавете Георгиевне? Мы, право же, слишком мало внимательны к ней. Принесем ей хоть букет цветов.
Ася соскочила с окна и с готовностью схватилась за шляпку.
На улицах пахло распускающимися тополями, душистые липкие ветки которых продавали на каждом углу, запах их навсегда связался в памяти обоих с этим незабываемым последним счастливым вечером.
К одиннадцати они уже вернулись домой, но Ася настолько устала, что отказалась от чая, желая скорее лечь. Олег поднял ее с дивана и на руках перенес на постель.
– Когда ты с нами, я ничего не боюсь, я опять счастлива! – лепетала она, опускаясь на подушку. – Только бы не разлучаться с тобой и со Славчиком.
– А дочка? О дочке-то ты и забыла? Смотри, чтобы непременно была дочь. Славчик похож на меня, а твои тончайшие черты остались неповторенными. Я хотел бы назвать дочку Софьей в памяти моей матери. Будем водить ее в коротких платьицах, а на головку ей завязывать огромный бант: так одевали когда-то мою сестренку.
Она блаженно улыбалась:
– Спасибо, милый! – и глубокая нежность зазвенела в ее голосе. – Я виновата, я сама вижу, что стала слишком легко расстраиваться. Не знаю, что со мной теперь – я везде вижу только боль и горе!
– Ты – святая, – сказал он, – если вечная жизнь существует, мы с тобой и не встретимся: я – нераскаянный грешник, а ты…
Ася открыла глаза.
– Молчи! Не смей так говорить. Ты придешь туда же, где буду я, иначе я счастлива не буду. Почему-то я уверена, что умирая, услышу колокольный звон и увижу белые тени, которые поют «Осанна» и «Свят, Свят, Свят еси, Боже»! Мне иногда уже мерещится… Наверное, очень большая дерзость думать так!
И опять закрыла глаза…
«Тебе мерещится это, – подумал он, – а мне только узкоглазый киргиз, который метится в мое сердце».
Он смотрел на то, как засыпает Ася, и думал: что если она, жалеющая всякую тварь – собак, кошек, голубей, узнала бы, как он отдал приказ расстрелять восьмерых человек? Разлюбила бы она его?
Он вдруг с небывалой силой в душе своей раскаялся во всем дурном, что жизнь заставила его сделать. Доселе он и не думал о тех восьмерых большевистских нелюдях, убийцах и грабителях, которых расстреляли по его приказу. А теперь вдруг всплыло. И всплыло как грех. Да, он не мог поступить иначе, но горе ему, что судьба распорядилась казнить их его рукою.
Этому раскаянию отчасти предшествовало событие, разыгравшееся в Луге накануне; Олег задумал извлечь пользу из своих ежедневных скитаний по лужским лесам и привезти с собой к обеду дичь, пользуясь дружескими услугами Маркиза. Лесник, мимо избушки которого он часто проходил, одолжил ему ружье, и он отправился на охоту. У Маркиза были свои планы, и очень скоро он выгнал на поляну зайца.
«Давно не стрелял… Эх, маху дам!» – подумал Олег, прицеливаясь. Но заяц бежал странно медленно и почти не увертывался. Выстрел Олега повалил его. Приблизившись, Олег увидел издыхающую зайчиху, около которой копошились с жалобным писком только что родившиеся крошечные зайчатки – мелькали их длинные ушки и еле заметные хвостики. Олег невольно остановился; Маркиз остановился тоже и взглянул на хозяина значительным, понимающим взглядом. «Что мы с тобой наделали! Ну, и изверги же мы после этого!» – сказал, казалось, взгляд собаки. Умирающая мать оперлась о лапку и стала облизывать ближайшего детеныша… Олег отвернулся и пошел прочь.
«Вот почему она так тихо бежала, бедная! У нее уже начинались роды, а мы ее так немилосердно загоняли!» – Он вспомнил Асю беременной и тот беспомощный взгляд, который она бросила на разлившийся ручей; вспомнил ее письма о новорожденном сыне и слишком маленьких сосочках… потом вспомнил свою рану – ему тоже довелось убегать от опасности в те как раз минуты, когда было мучительно каждое движение! Денщик помогал ему встать, повторяя: «Пропали, коли не дойдем». И он с отчаянным усилием подымался, делал, шатаясь, несколько шагов и снова опускался на землю…
Бывают минуты, когда живое существо, пораженное болью или слабостью, зависит полностью от великодушия и внимания окружающих. Кто хоть раз оказался в таком положении – болезнь ли, рана ли, беременность ли, – тот не может забыть отношения к себе. В такие минуты равнодушие, небрежность или любопытство не легче жестокости. Он такую минуту пережил, но не научился милосердию!
Зайчата и убитая зайчиха переплетались теперь в его мыслях с будущим его собственных детей – ведь было какое-то страшное сходство. Желание во что бы то ни стало жить, спастись, любить – и равнодушный, бессердечный выстрел охотника…
Только тот, кто жил при большевистском терроре, понимает, что такое звонок среди ночи. От одного ожидания его устают, замучиваются и раньше времени гибнут человеческие сердца! Такой звонок – вестник несчастья, разлуки, крушения всех надежд… Счастлив тот, кто его никогда не слышал и не ожидал из ночи в ночь.
Пробило час, потом два – Дашков не мог уснуть под давлением болезненных впечатлений и лежал на спине, заложив руки за голову и напряженно глядя в окно, где по черному небу плыло странное оранжевое облако… Внезапно из передней донесся пронзительный, резкий звук, который можно бы сравнить только с трубой Архангела в Судный день! Уж не стоял ли в самом деле на том оранжевом облаке невидимый Архангел!..
Часть третья
Глава первая
Тихими, тяжелыми шагами
В дом вступает Командор…
А. Блок.
Торопливо одеваясь, он говорил себе, что это, по всей вероятности, милиция, высчитав, что он и Эдуард явятся на праздники к родным, решила сделать налет и оштрафовать нарушителей.
На его вопрос: «Кто там?» – ответом было: «Откройте, дворник!» Голос и впрямь принадлежал дворнику. Дашков открыл дверь. Пятеро в нашивках и с револьверными кобурами выросли позади бородатой фигуры в старом ватнике.
– Вот гражданин Казаринов, – сказал дворник, виновато моргая.
– Руки вверх! – закричали те и навели свои револьверы. – Бывший князь Олег Дашков, вы арестованы.
Вот она – эта минута! Она все-таки пришла! Уплывают и жизнь и счастье! Ему послышался легкий вскрик – Наталья Павловна, стоя на пороге гостиной, схватилась за косяк двери, как будто боясь упасть… Он рванулся было ее поддержать, но был тотчас же схвачен за плечи.
– Стоять на месте! – рявкнул один. – Оружие есть? Отвечайте! – и торопливые руки стали ощупывать его.
– Оружия у меня нет.
– Вот ордер на обыск и арест – смотрите. Ведите в свою комнату, а вы, товарищ дворник, подымайте соседей: нам нужен свидетель при обыске.
Там, в спальне, Ася, проснувшись от шума в передней, стояла в халатике, растерянно оглядываясь, и при виде мужа под револьвером застыла на месте с широко раскрытыми глазами, полными ужаса. Ни кровинки не осталось в этом лице. Мадам выскочила из диванной с шумными французскими восклицаниями и тоже остолбенела. Мерцание белой ночи, заливавшее комнату, вытеснил электрический свет, включенный властной рукой. Всех заставили сесть – поодаль друг от друга.
– Начнем с этого угла, – сказал старший и указал на зеркальный шкаф. Среди гепеушников оказалась женщина – она подошла к Асе и стала ее обшаривать. Послушно стоя с поднятыми руками, Ася не спускала с мужа все тех же остановившихся глаз.
– Есть, товарищ начальник! Записка! – воскликнула гепеушница.
– А ну читай, что там, – откликнулся старший, наблюдая, как двое других перерывают шкаф.
– Читай, я очки позабыла, – женщина передала записку самому молодому из агентов; тот стал читать, запинаясь: «Сегодня на рассвете я долго любовался выражением покоя на твоем лице. Милана твоя очаровательно выглядывала из-под кружев…»
Ася вспыхнула, Олег поднес руку ко лбу; Наталья Павловна и француженка сидели с отсутствующими лицами.
– Читай, чего остановился? – пнула паренька женщина.
Но тот пробормотал:
– Товарищ начальник, тут видать, дело молодое на контрреволюцию больно непохоже… читать-то некстати будет.
– Брось, – сказал старший. Записка упала к ногам Аси, и та ее тотчас подхватила.
– Что, взяла? Уличили небось! Не заводи в другой раз шашней, – прошипела гепеушница. Ася с наивным изумлением обернулась. Гепеушница приблизилась к Наталье Павловне и начала теперь ее обшаривать крючковатыми растопыренными пальцами, злобно бормоча – Давай-ка, карга старорежимная, тебя пощипаем!
Ася встала и сделала несколько нерешительных шагов по направлению к двери.
– Куда, куда, княгиня сиятельнейшая? Изволь-ка на месте посидеть! – крикнула гепеушница. Никогда не слышавшая этого титула в приложении к себе, Ася не обернулась. Это дало Олегу новую мысль.
– Моя жена не знала, что я живу под чужим именем, – сказал он, – вы видели, она даже не обернулась ни на «сиятельство», ни на «княгиню». Не откажитесь подтвердить следствию, я сошлюсь на вас.
Ася озадаченно смотрела на мужа.
– Ася, я не Казаринов, я скрывал свое имя, – продолжал Олег; она все так же молчала.
– Гляди-ка, неужто и вправду не знала? – сказал один.
– Свежо предание, – возразил старший. – Это как понимать, гражданочка, вы что, не знали, за кого выходили? Будто бы уж никогда не слышали, кто он на самом деле?
Гепеушники с любопытством посмотрели на Асю. С полсекунды стояла тишина.
– Знала все, – тихо сказала она, махнув рукой.
– То-то же. Ну да ладно: нам в это дело мешаться нечего. Сядьте и сидите, а вы, арестованный Дашков, не разводите тут плешей. У следователя еще успеете наговориться: там вас не токмо говорить – петь научат.
Двое агентов перешли в комнату Натальи Павловны, остальные продолжали начатый обыск, двигаясь из угла к середине комнаты. Строгость, с которой обыск начался, была несколько ослаблена: Олега уже не держали под дулом, может быть, из-за недостатка людей. Гепеушница приблизилась к кроватке Славчика.
– Возьмите кто-нибудь ребенка, я кровать перетряхну.
Олег, который оказался ближе всех, поспешно подошел, отогнул одеяльце и поднял на руки теплый спящий комочек. Спутанная головка с розовыми щечками упала к нему на грудь, ребенок что-то прошептал, не открывая глаз. Олег отвел рукой темную прядку с его лба и поцеловал кудрявую головку, пока женщина с профессиональным азартом перетряхивала простынки и одеяльце. Темные глаза ребенка открылись:
– Па-па…
Олег сжал обеими руками маленькое тельце. Славчик посмотрел на гепеушников:
– Дяди! Дяди!
В эту минуту женщина вытряхнула из-под подушки плюшевого зайца и отшвырнула его.
– Зая упа, – сказал Славчик и потянулся рукой к игрушке.
– Ничего, зайка не ушибся, зайка у нас никогда не плачет, – сказал Олег. – Покажи, как ты умеешь обнимать папу.
Крошечные ручки в перетяжках обхватили его шею, а губки прижались к щеке.
– Oh, mon Dieu! – простонала со своего места француженка.
– Дай мне его, – проговорила Ася и протянула руки к ребенку. Что-то надтреснутое, странное и больное прозвучало в ее голосе. Олег догадался – она боится, что ее тоже арестуют, и тоже торопится проститься с сыном.
– Сидеть на месте! – предостерегающе крикнул на Олега старший гепеушник. Ася уронила протянутые руки.
Один из младших сотрудников вошел, спрашивая, как быть со шкафами и стеллажами книг в гостиной и в библиотеке:
– Коли кажинную перетряхивать, мы до следующего вечера отсюда не выберемся. И на хрена им столько этого добра!
– Трясите на выбор одну из трех, – сказал старший и велел идти на помощь им гепеушнице, трудившейся теперь над постелями Олега и Аси. Сам же он все время переходил из комнаты в комнату со строгим и важным видом. Вызванный в свидетели Хрычко без толку толкался вслед за агентами, переминался с ноги на ногу, теребил свой пояс и угрюмо молчал. Ни злорадства, ни ехидства в нем не наблюдалось – скорее плохо скрываемое сочувствие. Только во время чтения несчастной записки он позволил себе улыбнуться весьма недвусмысленно.
Через некоторое время из соседней комнаты опять вышел агент и сказал:
– Там дура эта. Ну, как ее?.. Мунакен. На которую одежу примеряют. Сами, что ли, будете ее раскулачивать?
– Так называемая «лэди», – ехидно сощурился старший, обводя взглядом Асю, Олега, Наталью Павловну и француженку. – Интересно полюбопытствовать, чем вы ее нафаршировали.
Олег сурово сдвинул брови.
– Ты проговорилась кому-нибудь? – спросил он жену.
– Нет! Нет! – воскликнула она с отчаянием – Никто не знал! Никто!
– Et се jеune hommе? Cе Gеnnadi? Il a, done, vu[83]83
– А этот юноша? Этот Геннадий? Он же видел! (франц.)
[Закрыть] – промолвила в нос француженка.
Ася схватилась за голову.
– Gennadi? Oui, il a vul! Mais c’est impossible! Incroyable! Pauvre Héllène!![84]84
– Геннадий? Да, он видел! Но это невозможно! Невероятно! Бедная Елена! (франц.)
[Закрыть]
– Ася! Sois tranquille! Silence![85]85
– Успокойся! Молчи! (франц.)
[Закрыть] – сразил Олег.
– Семенов, ты что смотришь? Что еще за иностранные разговоры! – сказал, входя, старший агент молодому. – Вы что это там меж собой – курлю курлю, а? Молчите! Ну, ничего, скоро вас не то что по-французски – по-китайски говорить заставят!
Олег отвернувшись, смотрел, как настенные часы отсчитывают последние минуты в этом доме.
Около девяти утра обыск гостиной, спальни и библиотеки был наконец закончен.
– Ну теперь сюда, и будем закругляться, – сказал старший агент, подходя к диванной. Француженка вскочила как ужаленная и загородила вход.
– Ордер на обыск? – спросила она.
– Мы предъявляли ордер еще пять часов тому назад. Вы что, с неба, что ли, свалились?
– Вы предъявляли ордер на комнаты Казариновых и Бологовской, а это моя комната. Я – иностранка.
– Иностранка? Латышка, что ли? Или эстонка?
– Я – латышка?! Я – француженка, парижанка! – гневно грассируя, воскликнула мадам. – Вы ответите за все ваши грубости! – и весьма решительно покрутила указательным пальцем перед самым носом старшего агента, да так, что даже оцарапала ему кончик носа длинным и острым ногтем.
– Хватайте эту ведьму! – крикнул тот, хватаясь за нос. Но Тереза Леоновна уже вошла в раж.
– Только попробуйте! Только прикоснитесь! Вы будете иметь дело с консулом! Сейчас звоню к консулу, сейчас!
– Валяйте, звоните!
Madame подбежала к телефону и схватила трубку, но едва лишь она назвала требуемый номер, как рука агента легла на ее руку.
– Гражданка, успокойтесь. Никто на вашу безопасность не посягает. Оскорбляете пока только вы. Я настоятельно прошу вас удалиться в свою комнату. Вопрос по поводу вас мы выясним в ближайшие же дни. Семенов, что стоишь? Принести французской гражданке воды.
Француженка с самым воинственным видом прошла в свою комнату и встала перед раскрытой дверью. Семенов поднес ей стакан воды, но она его отпихнула.
– Гражданка, пройдите к себе и закройте дверь, – пытался еще приказывать ей старший.
– Я уже у себя, на свободной территории, и никто не имеет права мною здесь командовать, – возразила Тереза Леоновна. Она была великолепна.
Славчик, проснувшийся снова от шума голосов, потянулся, заворковал и сел на кроватке; но когда он опять увидел «дядей», вдруг нахмурился и затянул жалобную ноту. Один из агентов кивнул Aсe в ответ на ее вопросительный взгляд, она подошла к ребенку.
– Агунюшка, мальчик мой! Сейчас мама оденет тебя, а потом согреет тебе молочко. Где наш лифчичек? – Голос вдруг оборвался, и она уткнулась лицом в мягкую шейку ребенка, который топотал по кроватке голыми ножками.
– Так, – неожиданно громко сказал старший агент. – Ну-с!
Все вздрогнули, с ужасом глядя на его поцарапанный француженкой нос.
– Гражданин Дашков, приготовьтесь следовать за нами.
У Олега вырвался вздох облегчения – он один, слава Богу! Асю не берут!
Агент повернулся к Асе.
– Можете собрать в дорогу вашего мужа.
Глядя в ее огромные глаза, Олег сказал, стараясь как можно спокойнее:
– Дай мне, пожалуйста, шерстяной свитер, два полотенца и перемену белья.
Она подошла к нему и стала надевать на него свитер, растягивая последние минуты. Застегивавшие ему ворот пальцы двигались все медленней и медленней, потом совсем остановились, и она прижалась лбом к его груди. Он поцеловал руку, лежавшую на его плече.
– Спасибо тебе, дорогая, за любовь, за счастье. Будь мужественна. Если тебя вышлют, постарайся всеми силами устроить так, чтобы уехать с Натальей Павловной и с Нелидовыми – репрессия, наверное, коснется и их. Я верю, что ты сумеешь вырастить наших детей. Я хочу, чтобы они знали судьбу своего отца и обоих дедов, чтобы не было этого безразличия, которого я не выношу, чтобы в дальнейшем… ты поняла меня? Ну, поцелуй меня в последний раз.
Она посмотрела ему в глаза, чтобы он взглядом ответил на ее безмолвный вопрос; он понял и ответил, но не глазами, а вслух:








