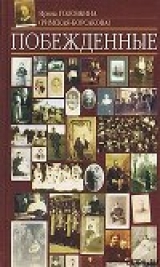
Текст книги "Побежденные"
Автор книги: Ирина Головкина (Римская-Корсакова)
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 61 страниц)
13 апреля. Вечер. Только что говорила с ним по телефону. В воскресенье мы пойдем в Эрмитаж; он свободен в воскресенье, а не в эту глупую пятницу, так как он работает в порту. Ну а завтра вечером мы решили ехать в Царское Село. Вдвоем, я заметила, всегда лучше говорится, но бабушка не захотела отпустить нас вдвоем, она настояла, чтобы ехать компанией, и сама пригласила Лелю и Шуру.
14 апреля. Жду Олега Андреевича. Сейчас он должен за мной зайти. Он кончает работу в 5. Жаль, времени для прогулки мало! Бабушка велит к 11 вечера быть дома. День сегодня чудесный, солнечный – в этом году весна ранняя. Мое демисезонное пальто старое и куцее, шляпа без пера, тоже куцая – вид у меня Золушки. Перчаток нет. Старые – фильдекосовые – изгрыз щенушка. Я хотела ехать вовсе без перчаток, но мадам устроила «бурю в стакане воды». Она стала с азартом доказывать, что лучше мне вовсе не ехать, чем показаться без перчаток, что это дурной тон, и что я перешагну только через ее труп. Я ответила, что будь я в лохмотьях, я все равно поехала бы, а Олег Андреевич и внимания не обратит на такие пустяки и сам одет не лучше меня. Тут мадам напустилась на меня; она сама, кажется, неравнодушна к Олегу Андреевичу. Шум у нас поднялся такой, что бабушка вышла нас разнимать. Она тотчас велела нам снять одну из старых картонок со шкафа и, порывшись там, вытащила пару не новых, но еще целых лайковых перчаток. При этом бабушка сказала: «Привкус дурного тона хуже лохмотьев, Ася. Лохмотья могут быть благородны, а вульгарность – никогда». Теперь, когда я в перчатках, я с этим, пожалуй, согласна! Перчатки мне пришлись как раз впору, и руки в них кажутся маленькими. Сейчас должен прийти Олег Андреевич. Каждые 5 минут я смотрюсь в зеркало. Господи, Господи, какая захватывающая в самом деле история – Любовь!
15 апреля. Я! ЕГО! САМА! ПОЦЕЛОВАЛА! Что же это такое, и как мне теперь быть? Если бы бабушка знала, что я уже два раза целовалась и оба раза на лестнице! И отчего это со мной что-нибудь непременно случится не как со всеми? А между тем, если бы НАДО БЫЛО НАЧАТЬ СНАЧАЛА, я сделала бы то же самое и даже в мыслях я не хочу взять назад этого поцелуя.
Вошли мы в Екатерининский парк и очень скоро подошли к озеру против Чесменской колонны. Было чудесно, вода неподвижная, розовая от заката, деревья в почках, тишина… Мы тоже затихли. Вдруг кто-то запел. Голос был слегка разбит, но красивый и верный, манера петь странная – артисты не так поют. Песня незнакомая, полная тоски. Я запомнила только отдельные фразы: «Я вор, хулиган, сын преступного мира! Меня невозможно любить!» Это пел человек, который сидел неподалеку один на скамейке, развалясь в небрежной позе. Волосы у него были растрепаны, кепка набекрень, грудь распахнута. Шура оглянулся на него и сказал: «Уйдемте. Нам незачем слушать эту хулиганскую лирику». А Олег Андреевич прибавил: «Эту песню я часто в лагере слушал, ее любили петь уголовники». Мы уже двинулись было, но у Лели подвернулся каблук, и ей пришлось снять туфлю. Шура стал приколачивать гвоздик камнем, а тем временем незнакомый человек опять запел, опять с той же тоской – в этой тоске было что-то артистическое! Надо было вовсе не иметь ушей, чтобы такое исполнение назвать хулиганским! «Люби меня, девочка, пока я на воле! Пока я на воле – я твой! Когда меня поймают, меня ведь расстреляют, а тобой завладеет кореш мой!» Олег Андреевич связывал в эту минуту мой bouquet[45]45
Букет (франц.)
[Закрыть] из тополя и вербы, и вдруг глаза наши встретились… Он схватил мою руку и стиснул ее… Леля и Шура не могли этого видеть, занятые туфлей. Уже в следующую секунду он мою руку выпустил, но я поняла, о чем он подумал. Леля, надевая туфлю, спросила: «А что такое кореш?» Олег Андреевич объяснил, что «кореш» – это хулиганское слово, обозначающее друг. Тогда я возразила, что именно друг-то не станет жениться на невесте дорогого ему человека, попавшего в беду. Мне показалось при этом, что Шура и Олег переглянулись, и я поскорей замолчала, чтобы не сказать глупость. Мы ушли. Я попробовала было воспротивиться, убеждая, что следует прежде подойти к этому человеку и уверить его, что у него талант, чтобы он поступал в консерваторию, а не с топором ходил, но оба мои денди возмутились: «Вам говорить с этим типом?! Это нахал, хулиган! Мы не допустим». Я послушала, послушала и сказала: «А в Евангелии ведь сказано: дух дышит, где хочет! Вы забыли?» Пришлось, однако, уступить, но я уже не могла быть веселой. Эта песня и взгляд Олега Андреевича переполнили мою душу, я была рада, что несу ветки тополя и могу спрятать в них лицо. Вокруг арсенала было дивно – кусты черемухи и ольхи стояли все в розоватых почках, но мне становилось все грустней и грустней. Мне хотелось взять его руку и сказать ему что-то хорошее, утешающее, вынутое из самых бездн души, но почему-то я не смела. Сколько чудных слов говорит он мне, и все остаются без ответа. Я всякий раз молчу, как рыба, молчу, как сосулька замороженная! Моя душа полна, как чаша, но все остается в глубине, внутри, слова замирают на губах. Когда, разыскивая первые цветы мать-и-мачехи, мы забрели в кустарник, он оказался рядом и спросил: «Отчего загрустила наша фея?» Я ответила: «Я не хочу, чтобы ваше будущее казалось вам безнадежным!» Он на это ответил: «Я знаю, что у вас «душа живет слишком близко» и, как эолова арфа, отзывается на чужую грусть. Я уже покалечен жизнью. Если бы мне пришлось теперь потерять свет, который «блеснул на мой закат печальный», это было бы слишком большим ударом для меня. Вы даже представить себе не можете ту бережную и благоговейную нежность, с которой я, прошедший через огонь, воду и медные трубы, отношусь к девушке, тонкой, как эолова арфа, и чистой, как кристалл. Я только от нее жду обновления». И вот на такие-то слова я опять ничего не ответила! Сдерживающее начало опять запечатывало мне уста! Я чувствовала, что на нас надвигается что-то огромное, заволакивающее, откуда льются волны грусти, любви и света. И я стояла растерянная перед этим… Я, всегда во всем слишком живая, молчала там, где до боли сильно чувствовала! Подошел Шура и напомнил, что бабушка взяла с него обещание вернуться к 11 часам. Мы пошли к выходу из парка, и только когда уже вернулись в город и в присутствии Лели и Шуры простились в подъезде нашего дома, тут только я вдруг почувствовала, что нельзя отпустить его без утешения. В эту как раз минуту он крикнул мне снизу, что я забыла взять свои вербы, и побежал за мной наверх по лестнице. И тут, от натиска затоплявшего меня чувства, я бросилась ему на шею и поцеловала его, а потом так же стремительно – наутек наверх. Я очень боюсь теперь, что он будет меня считать дурочкой или невоспитанной. Я не знаю, что будет теперь и как мы встретимся. Мне кажется, что мы уже дошли до грани, и теперь ничто не остановит нашего стремления друг к другу. Сейчас уже поздно, а мне не хочется спать. Я все думаю, все о том же!
ДНЕВНИК ЕЛОЧКИ
29 марта. На меня каждую минуту наплывает мир моей любви. В нем тысяча глубин и тысяча пустяков. Меня сводит с ума горечь его интонации и изящество его жестов, и вместе с тем я знаю, что люблю его не за наружность, и если бы он был изуродован или искалечен, я любила бы его не меньше. Любовь моя, любовь моя – заветная, сокровенная… Годами лились ее слезы, а вот теперь хочется всю свою жизнь до самозаклинания отдать этой любви.
2 апреля. Я до сих пор как в сладком чаду: «Нравится мне всех больше Елизавета Георгиевна». Пусть это была игра, но ведь игра в «правду».
3 апреля. Эти девочки – Ася и Леля… Есть в них что-то слишком уж несовременное, наследие салонов! Никакой идейности, никакой интеллектуальной жизни, а только уверенность в собственной неотразимой прелести. Ася хлопает ресницами и смотрит исподлобья, и у нее это естественно – кривлянья в ней нет (бабушка живо вытравила бы кривлянье). Так же и Леля со своей капризной манерой вскидывать голову и надувать губки. Уверенность, что это мило, коренится где-то в их женском инстинкте. Но умный мужчина ценит в женщине прежде всего идейность и героизм, которыми всегда отличалась русская женщина…
4 апреля. Когда он провожал меня домой поле вечеринки, мы шли сначала все вместе и только понемногу расходились. Валентину Платоновичу, по-видимому, хотелось поговорить с моим Олегом. У них, наверно, много общих воспоминаний, но при мне они не начинали серьезного разговора, а только обменялись адресами. Фроловский – тоже настоящий тип прежнего военного, но в нем и следа нет того байронического оттенка, который так пленяет меня в Олеге. Расстались мы с Валентином Платоновичем уже недалеко от моего дома и с Олегом с глазу на глаз говорили недолго. Я спросила, видится ли он со своим денщиком. Он ответил: «Это одно из моих больных мест! Человек, который дважды спас мне жизнь, пострадал из-за меня. Я покинул госпиталь, едва лишь мог встать на ноги, чтобы не быть узнанным. Василий отыскал заброшенную рыбацкую хибарку, где укрывал меня, а сам работал лодочником на пристани и приносил мне хлеб и воблу. В первый и единственный раз, когда я, желая испробовать свои силы, вышел сам из хибарки и добрался кое-как до хлебного ларька, я увидел знакомого полковника, который в рваной рабочей куртке стоял около этого ларька, безнадежно ожидая, что кто-нибудь подаст ему хлеба. Вы поймите, что я не мог пройти мимо человека, который бывал в доме моего отца, а теперь оказался в еще худшем положении, чем я сам; я привел его в нашу хибарку. Встреча эта оказалась роковой – за ним, по-видимому, следили, так как в эту же ночь к нам нагрянула ЧК. Когда я вышел, наконец, из лагеря и поселился у Нины Александровны, я написал Василию на его родную деревню и подписался: «твой друг рядовой Казаринов». Он не мог забыть эту фамилию, а из лагеря должен был освободиться раньше меня – он получил три года, и тем не менее он не ответил мне, не ответил ни на это письмо, ни на повторное, а почему – не знаю!» Этот короткий разговор вывихнул мне всю душу, живо напомнив ужасы тех дней. Боже мой, что тогда было!
5 апреля. Большевики молчат о том, что сделали в Крыму, и, кажется, надеются, что это забудется, и Европа никогда не узнает их подлостей… Не выйдет! Найдутся люди, которые помнят и не прощают! Они напишут, расскажут, закричат когда-нибудь во всеуслышание о той чудовищной, сатанинской злобе, с которой расправлялись с побежденными. Желая выловить тех белогвардейцев, которые уцелели при первой кровавой расправе (немедленно после взятия города), советская власть объявила помилование всем, кто явится добровольно на перерегистрацию офицерского состава белых. Ведь очень многие из офицеров перешли на нелегальное положение, скрываясь по чужим квартирам, сараям и расселинам в городе и окрестностях. Многие, подобно моему Олегу, обзавелись солдатскими документами, многих выручил химик Холодный, он в имении Прево под городом устроил мастерскую фальшивых паспортов. Любопытно, что однажды к нему нагрянули с обыском, но кто-то из его домашних успел набросить тряпку на чашку, где мокли паспорта, и чекисты не заинтересовались грязным бельем… Своими паспортами этот великодушный человек выручил множество лиц. И вот чекисты путем перерегистрации задумали выловить ускользнувших. Я никогда не забуду этот день! Из наших окон было видно здание, где должна была происходить перерегистрация. Мы с тетей стояли у окна и смотрели, как стекались туда раненые и больные измученные офицеры – кто в рабочей куртке, кто в старой шинели, многие еще перевязанные! Наш знакомый старый боевой генерал Никифораки прошел туда, хромая, в сопровождении двух сыновей-офицеров. Моя тетя сказала: «Ох, не кончится это добром!» И в самом деле, едва только переполнились залы и двор и лестницы, как вдруг закрылись ворота и подъезды, и хлынувшие откуда-то заранее припрятанные отряды ЧК оцепили здание (гостиницу около вокзала). Я помню, как рыдала моя подруга по Смольному, она проводила туда жениха, отца и брата, радуясь, что они дожили до прощения! Наше офицерство слишком доверчиво, оно привыкло иметь дело с царским правительством, которое было немудрым, близоруким, легкомысленным, но воспитанным в рыцарских традициях. Кто мстил побежденным? Когда сдалась Плевна, раненного султана усадили в экипаж и пригласили к нему русского хирурга. А Шамиль? Его сыновей приняли в пажеский корпус и допустили ко двору. В нетерпимости большевиков есть что-то азиатское! Никакого уважения к противнику, ни признака великодушия ни в чем, никогда! Из этих ворот – там, в Феодосии, – не вышел ни один человек.
Сегодня я весь день воображаю себе Олега в этой темной хибарке, на соломе. Никто не перевязывал его ран, никто не ухаживал за ним. Он так нуждался в моей помощи, он был так близко… Я плакала о нем в те дни с утра до ночи… Видит Бог, если бы я знала, где его искать, я бы пришла, я бы не побоялась, но я не знала, не знала. Так было суждено!
Полковник, который стоит в ожидании подачки, не решаясь просить… Он понимал, что рискует, выходя из убежища, но голод… Голод решил все! Хорошо, что в черепную коробку никому не проникнуть, и никто не может увидеть моих мыслей и той мощной яростной ненависти, которая душит меня сегодня. Неужели ненависть эта не принесет никаких плодов?
Я не спала сегодня ночь под давлением все тех же мыслей. Без конца воображала нашу встречу в хибарке. Вот я приблизилась, огляделась… Вот вхожу и тихо окликаю. Он приподымается… Я рисовала себе даже этот жест. Осторожно меняю ему повязку, так осторожно, что он не чувствует боли. Он кладет мне на грудь голову… Я замечаю, что у него холодные руки, и закутываю его своим плащом… И на каждой детали я замирала, затягивая мгновение… Всю мою действительную живую любовь я вкладывала в небывшее, в воображаемое… Узнает ли он когда-нибудь, что я люблю его? Пройдет время, будут еще и еще встречи, и когда, наконец, он скажет мне, что полюбил меня, я отвечу: «Люблю, давно люблю», но в этих тайных грезах, в том, что ночи не сплю, воображая его раненым и гонимым, в том, что влюблена я даже в оттенки его голоса, даже в жесты, – я не признаюсь никогда! Это умрет со мной. А ведь есть натуры как раз противоположные – такие, которые, не чувствуя и сотой доли того, что чувствую я, найдут потоки слов!
7 апреля. Он – первый, он же – последний. Ничем не поколебать теперь моей уверенности, что встреча, пришедшая после такого испытания верности, – таинственна и значима! Как неясная звездочка, мелькает мне вдали надежда, что здесь же кроется связь с освобождением и спасением Родины. Я хочу, чтобы так было! Да будет так!
10 апреля. Я видела его – встретила у Аси. Когда после чаю он провожал меня домой, я спросила, за что он получил Георгиевский крест. Он ответил: «За те шесть безумных атак, в которые я увлек моих храбрецов». Но ничего не стал рассказывать.
11 апреля. Любовь смотрит ясными неослепленными глазами, хотя и говорят, что она слепа. Я знаю, что именно я постигаю его индивидуальность со всеми ее тончайшими особенностями. Именно мне, которая любит, один жест или слово открывает доступ в глубины и может объяснить сложнейшие движения души. Идеализация любимого человека – выдумки! Любовь, как раз любовь снимает покровы и позволяет проникнуть на дно другой души.
12 апреля. Мне показалось… О, как мне больно! Мне показалось… Я только что вернулась от Бологовских. Он был там… опять был. Я заметила, что он смотрит на Асю так долго, так особенно. Они улыбались друг другу, как люди, которых соединяет что-то, которые понимают друг друга без слов. Потом, когда передавали по радио «Страшную минуту», они переглянулись, и она смутилась, а он улыбнулся ей. Я никому не нужная была, чужая… О, да – любовь смотрит ясными неослепленными глазами, и я увидела ясно, совсем ясно, что они влюблены! Я не знаю, как у меня рука повернулась написать это, но ведь это правда!
13 апреля. Боже мой, неужели?!
14 апреля. Если бы оставалась хоть капля сомнения, но сомнения нет. Я вспоминаю еще одну фразу, которая подтверждает открытие, сделанное мной. Случайно за столом заговорили о том, как мало теперь не только благородных, но просто благообразных лиц. Ну хотя бы таких, какие бывали раньше у наших крестьян, лиц, исполненных патриархального благородства, с высокими лбами, с правильными чертами, с окладистой бородой – иконописных лиц. Теперь такие лица остались только у стариков, а лица молодежи тронуты вырождением. Отсюда перешли на женские лица, и он сказал: «Красивые женщины, может быть, и есть, но изящных нет. Не знаю, как другим, а мне слишком яркая красота часто кажется вульгарной. Мне в женском образе нравится одухотворенность, изящество, нежность!» Он взглянул мельком на нее, и она тотчас опустила ресницы. Она великолепно знает, какие они густые и длинные, и пользуется каждым случаем показать их. Природа дала ей слишком много. Нельзя было разве дать мне хотя бы эти ресницы, которых оказывается довольно, чтобы свести мужчину с ума. Я никогда никого не хотела пленять, ничьей красоте не завидовала, а теперь… Теперь меня словно ядом опоили. Обида и зависть клокочут во мне. Я привыкла всегда говорить самой себе правду и сознаю это.
15 апреля. Пока я вспоминала и грезила, эта девчонка сумела покорить – быстро и ловко прибрать к рукам. Так вот она какая! Отнять у меня, у неимущей, мое единственное сокровище!
17 апреля. Так, значит, не мне суждено утолить его скорбь, сберечь его для спасения Руси, вырастить в нем эту мысль, вернуть ему силы? «Те, кто достойны, Боже, да узрят царствие твое!» Или мое самомнение безгранично, но я полагала, что миссию эту заслужила, выстрадала – я, с моей великой скорбью за родную землю, я, которая как икона Скорбящей, впитывала в себя все горести, разлитые вокруг, я, а не она, не эта девочка с ее улыбками и легкостью бабочки; она еще ничего не пережила, ничего не понимает. Наше идейное родство, все пережитое нами раньше – все оказалось для него пустяками по сравнению с ее физической прелестью! Это какое-то чудовищное искажение божественной мысли, это неслыханная ошибка… Это… Я не могу поверить! Если так будет, я, кажется, превращусь в дерево или в камень. Я не знаю, как я теперь буду жить.
Глава двадцать третья
– Говорите же, Ася, что вы хотели сказать мне?
Длинные ресницы опустились под взглядом Елочки:
– Мне это очень трудно! Прежде чем прибежать к вам, я всю ночь плакала.
Брови Елочки сдвинулись:
– Прошу вас говорить, и говорить прямо – это единственная форма разговора, которую я признаю. Случилось что-нибудь?
– Нет, ничего, а только… – Ресницы поднялись и снова опустились.
– Ася, уверяю вас, мне можно сказать все!
Опять поднялись ресницы:
– Видите ли, я ненавижу хищничество… там, где оно появляется, уже нет места ничему прекрасному… Каждый хватает себе, отталкивает другого… Это безобразие!
– Согласна с вами. Но хищничество это лежит в человеке очень глубоко, и формы его очень разнообразны…
– И все одинаково отвратительны, – перебила Ася. – Хватать… Отбивать… Я не хочу, чтобы так было в моей жизни. – Она остановилась, точно ей сдавило горло.
– Что ж дальше? – тихо спросила Елочка, уже предугадывая, что последует. – Дальше?
Ася как будто задохнулась.
– Олег Андреевич говорит мне чудесные слова, и я… Мне кажется, что он… мы… Скажите, Олег Андреевич не тот ли офицер, который?.. Скажите правду! Если тот – я ему откажу, я отвечу – нет, никогда! Вы спасли ему жизнь, вы узнали его раньше, чем я. Он дорог вам. Я ни за что не хочу отнять у вас… кого-нибудь.
Наступила тишина. Только тикал будильник. Елочка смотрела мимо Аси в окно. Прошли минуты три, потом четыре…
– Глупый ребенок! – прозвучал вслед за этим ее голос. – Откуда могла вам прийти в голову такая фантазия? Ведь я уже говорила вам раз, что тот, которого я любила, погиб от удара дубины или приклада.
– Да, говорили, но видите ли… Олег Андреевич лежал тоже в вашей палате, и его тоже считали погибшим… Могли и вы думать, что он погиб, а он нашелся… В тех строках вашего дневника, которые я прочла еще двадцать девятого марта, мне уже показалось, что вы о своем любимом говорите уже как о живом – не так, как говорили мне в первый раз. А сегодня ночью мне вдруг пришла мысль: не он ли этот человек?
И опять наступила тишина.
– Не он. Тот, кого я любила, не воскрес. Я ведь неудачница – для меня не случится чуда. Ну а если б даже это был он, – и оттенок горькой иронии зазвенел в голосе Елочки, – что бы вы могли изменить в ходе вещей? Вы не сумели бы заставить его полюбить меня вместо вас, а только сделали бы его несчастливым. Это по меньшей мере было бы глупо, Ася. Я отвыкла от мысли о замужестве, мужчины мне противны. Мне жертв не нужно, можете спокойно наслаждаться жизнью.
Ася подняла ресницы, на концах которых дрожали слезинки:
– Вы так суровы со мной… Почему? Не думайте, что я болтаю зря, я в самом деле уйду, если…
В третий раз наступила пауза.
– Так как это не он, то и уходить бессмысленно. Не бередите моих ран. Вам показалось странно, что он из той же палаты? Еще странней было бы, если бы единственный спасшийся оказался как раз «мой».
– Да, в самом деле! Не знаю сама, почему я вдруг вообразила… Извините, Елизавета Георгиевна, что я вас взволновала. Вы так добры со мной и с бабушкой.
– Он уже сделал вам предложение?
– Нет, – ответила Ася шепотом.
– Говорил, что любит вас?
– Да… вчера мы ездили в Царское Село… Я была счастлива… Так счастлива!
– Не будьте легкомысленны, Ася. Если вы согласитесь выйти за Олега Андреевича, вы обязаны думать не о себе, а о нем. Нет никаких данных, чтобы он доставил вам благополучие и процветание. Не смотрите на жизнь сквозь розовые очки. Его вымышленная фамилия, его анкета, его здоровье… Осложнений может быть множество. Взвесьте, чтобы не упрекать потом – недостойно, по-бабьи. Этот человек очень горд и издерган.
Девушка приложила палец к губам, как будто говоря: «Не надо слов». Она бросилась на шею Елочке и убежала… От нее пахло свежестью, как от сирени или молодой березки.
«Так вот что, вот что! Вся его мужская страсть – ей! А мне… мне – дружба в тяжелые минуты, и только! Он теперь не вспоминает, как искал мою руку, – зачем вспоминать?» Ей представились на минуту кровавые тампоны, которые вынимали из его ран, и от которых у нее зазеленело в глазах… «Тогда были боль, жар, бред, отчаяние. Тогда была нужна я. А для счастья, для поцелуев – другая, хорошенькая. Мужчины все чувственны. Она молода, мила, женственна, мечтает о младенце… О, это она получит! Она получит все, но хватит ли у нее самоотверженности, нежности, внимания? Где ей в восемнадцать лет понять всю глубину его издерганности и усталости? Как бы она не оторвала его от мыслей о Родине! Запутает его в семейной паутине. Со мной было бы иначе, совсем иначе!» Она встала и подошла к зеркалу. Посмотрела внимательно на себя. Она должна была бы быть другая, совсем другая! Это ошибка, недоразумение! В жизни нет справедливости – стой теперь и смотри, как счастье проходит близко, совсем близко, но мимо… Мимо! С тоски хоть на стенку бросайся, а до старости еще так далеко. Сколько еще будет летних вечеров и лунных ночей, которые своей непрошенной, ненужной прелестью будут кричать в уши: «И ты могла бы быть счастлива!»
В дверь постучала Анастасия Алексеевна.
– Елизавета Георгиевна, извините, голубушка, что я к вам опять суюсь без приглашения. Я к вам по делу.
– А что такое? – Елочка продолжала стоять в дверях и не приглашала гостью войти. Как противна ее навязчивость! Какое у нее может быть дело? Клопов давить и носки штопать? Тоска, о, какая тоска! Она разлита во всем: в чистоте и аккуратности этой слишком знакомой комнаты, которая выскоблена, как кухня голландской хозяйки; в одинокой чашке крепкого чаю, допить который помешало появление Аси; в томике Блока, который выгрыз ей душу мечтами; в сестринском белом халате, который напоминает госпиталь; а больше всего в портрете матери, которая передала ей свои интеллигентные, но некрасивые черты, однако сама все-таки была счастлива. Впрочем, виноват не портрет – всего больше источает тоску флакон на туалете с остатками духов «Пармская фиалка».
Анастасия Алексеевна мялась на пороге:
– Подумала я, что следует рассказать… опять… этот… как, бишь, его?.. Аристократическая фамилия… Дашков, поручик…
Елочка вспыхнула:
– Зачем вы треплете это имя? Я вас просила забыть о нем!
– Знаю, знаю, миленькая! Дайте рассказать, не сердитесь! Я для вас же стараюсь, когда вы выслушаете, так еще похвалите. Ох, задохлась я и устала. Сесть-то позволите?
Сконфуженная Елочка поспешила усадить Анастасию Алексеевну и притворить двери.
– Чудное дело, голубушка! – заговорила та. – Сдается мне, что этот гвардеец, Дашков жив. Может, вы что и знаете, да мне не говорите?
– Как так жив? С чего вы взяли? – Елочка уже овладела собой и была настороже. – Рассказывайте, рассказывайте все, что знаете!
– Видите ли, Елизавета Георгиевна, пришел ко мне вчера муж. Не в урочное время, приветливый этакий… О том о сем покалякал, а потом давай расспрашивать про поручика. Гляжу – норовит незаметно выведать, ровно кот меня обхаживает. Думает, что я вовсе дура, а я хоть и припадочная, а сейчас смекнула, что ради этого только он и пришел.
– Что ж спрашивал? – с невольным содроганием спросила Елочка.
– Начал с того, точно ли, что два ранения. Незаметно этак подъехал – вот, дескать, помнишь ли, какие случаи тяжелые бывали? На этом я попалась – поддакнула, ну а после насторожилась. Всякие это подробности подай ему: имя да отчество, брюнет или блондин, да верно ли, что красив, да локализацию ранения. Это, говорит, раненый из твоей палаты, мы, врачи, с утра до ночи в перевязочной да в операционной. Перед нашими глазами все равно что калейдоскоп – носилки да носилки… Где уж запомнить каждого! А ты, мол, должна помнить – он лежал долго, сколько ты около него вертелась! Ради вас взяла я тут грех на душу – понапутала! Сказала, что кроме виска ранен поручик был в правую руку, с волосами тоже сбила – уверила, что рыжеватый блондин, а он ведь темный шатен. Ну а имени и отчества я и в самом деле не помню. Потом пристал муж ко мне, точно ли в больнице «Жертв революции» Дашков мне померещился? Может быть, это было у Водников, говорит (оттого, что я примерно в эти дни у Водников замещала). Это мне было на руку: у Водников, отвечаю, у Водников! Нарочно и коридоры, и выходы водниковской больницы ему расписала.
– Поверил?
– Поверил всему, насчет раны только усомнился. Сдается мне, говорит, что путаешь ты что-то! Задыхался он, помнится, – ранение было легочное. Нашлась я и тут: нет, говорю, задыхался Малинин – подполковник, который рядом лежал. Запутался он, заходил по комнате… Потом говорит: «Слушай, ты видишься с сестрой Муромцевой – устрой мне возможность с ней поговорить, позови ее и сообщи мне. Я бы порасспросил ее незаметно. Я твоей памяти не очень доверяю. Мне, говорит, в научном докладе нужно сослаться на легочное ранение с оперативным вмешательством – не достает фамилии. Устрой это мне, только ей ни слова – навяжешь ей свое, коли натрещишь, а мне важно первое ее слово – свежий след в памяти, поняла?» – «Поняла», – говорю, а сама, как только он ушел, сейчас к вам. Знал бы он, какая передатчица, может, поколотил бы меня!
– Он не должен знать и не узнает, – твердо сказала Елочка. – Ну, спасибо вам, дорогая. Я приду завтра же. Постараюсь быть приветливой, говорить буду то же, что и вы. Перепутать его с Малининым вы удачно придумали, только, пожалуйста, уж стойте на своем, не подводите! Он может начать проверять нас на клинических деталях, на уходе. Все, что вспомните про Малинина, относите к Дашкову, и наоборот. Не спутайтесь, пожалуйста, не спутайтесь! – она нервно ходила по комнате.
– Спутать не спутаюсь, а только хотела я спросить вас… Стало быть, жив Дашков, коли розыск идет?
Елочка молчала, обдумывая ответ.
– По всему видать, что жив, – продолжала Анастасия Алексеевна, – и понимаю уже я, что дорогой вам. Жених ваш или, может?..
Красные глаза с любопытством поворачивались за девушкой.
Елочка, все так же молча, завернула остатки колбасы и масла и прибавила к этому не начатый пакетик чаю.
– Вот, возьмите с собой, а теперь я с вами прощусь. Мне пора на дежурство собираться. Итак, до завтра!
– До завтра! Да вы не беспокойтесь, Елизавета Георгиевна! Сделаю, что смогу! Видите, как привязалось ко мне это имя. Теперь, если что случится с этим человеком – если поймают да к стенке, – ведь он от стенки прямо ко мне, уж ведь я знаю. Счастливая вы, Елизавета Георгиевна, счастливая, что спите спокойно, что ничего-то у вас на совести нет. А я вон с таким Иудой связалась и духу не хватает разделаться.
Она вышла. Елочка стояла не шевелясь.








