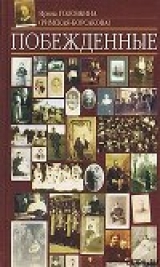
Текст книги "Побежденные"
Автор книги: Ирина Головкина (Римская-Корсакова)
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 61 страниц)
Глава пятая
В третий день пребывания Нины в Клюквенке комендант снова приехал туда. Выяснилось, что на следующее утро в Калпашево отправляется оказия: несколько заключенных и два-три прикомандированных к ним ссыльных, сопровождаемые конвоем под командой младшего коменданта. Среди них – Родион, которого вызвало колпашевское гепеу – после годового ожидания получен ответ на его жалобу, адресованную в Москву. Нине удалось уговорить коменданта прикомандировать и Сергея Петровича к отправляющемуся отряду с обещанием вернуться с ним же. Десять пачек папирос «Сафо», привезенные для Сергея Петровича, перешли к коменданту.
У здания комендатуры уже стояли заключенные, построенные в три ряда; ссыльных выстроили позади. Младший комендант вышел несколько вперед и зачитал выписку из приказа о правилах поведения в дороге. Оканчивалась она словами:
– Шаг вправо, шаг влево считаю побегом. Стреляю без предупреждения.
– Это что еще за угрозы? – возмущенно шепнула Нина.
– Положено по уставу: зачитывают перед каждым переходом. Твой Олег, наверное, помнит эту формулу наизусть, – ответил Сергей Петрович.
– Какое злое лицо у этого младшего коменданта! – шепнула опять Нина, – «мой» хоть и хам, а добродушный.
Как только вышли за зону, она подошла к младшему коменданту и предложила ему закурить.
– Товарищ комендант, разрешите мне идти в строю под руку с мужем?
Он кивнул, забирая себе всю пачку папирос.
Переход продолжался двое суток, шли медленней обыкновенного: мужчины, равняясь по слабым, нарочно замедляли шаг, несмотря на понукание конвоя. Пришлось пройти 60 верст лесами до самой Оби, и уже там, в виду Калпашева, переправиться на другую сторону паромом.
На пристани в Калпашеве комендант опять зачитал приказ, согласно которому ссыльные отпускались из отряда для выполнения своих частных дел с обязательством быть на пристани к семи часам вечера.
– Неявка в указанное время будет рассматриваться как побег, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Получив свободу, Нина и Сергей Петрович поднялись на высокий красноватый берег по сорока размытым глиняным ступеням, и здесь перед ними открылись пустые, заросшие травой улицы и низкие деревянные лачуги глухого городка.
– Вот моя Флоренция! – печально сказал Сергей Петрович.
С загсом дело устроилось сравнительно быстро; расставшись с фамилией, которая принесла ей столько горя, Нина вздохнула:
– Ну, теперь я хоть не «сиятельство»! И то слава Богу!
– Хрен редьки не слаще! – ответил на это Сергей Петрович и прибавил, беря ее под руку: – А теперь ты у меня попалась! Я потребую с тебя сына; отсрочки не дам: довольно уже мы потеряли времени.
– Ах, вот что! Если б я только знала… – шутливо возмутилась Нина.
– Ты бы не записалась? Мы с тобой поменялись ролями! По-видимому, ты давно колыбельных не пела. Я сыграю тебе моцартовскую, когда вернемся. Уж пожертвуй мне одну зиму. Может быть, Ася составит тебе компанию.
К ним подошла девочка, предлагая осенние цветы.
– Вот, получай свадебный букет, а будет все-таки по-моему!
– Но ты забываешь, Сережа, что я должна работать и что без моего пения…
– Кажется, мы начинаем ссориться, едва выйдя из загса. Может быть, вернуться и развестись?
С музыкальной школой не посчастливилось: сколько ни запрашивали и в райисполкоме, и на почте – никто не мог дать никаких сведений. Оба уже отчаялись, когда вдруг увидели человека с виолончелью на другой стороне улицы; бросились догонять. Виолончелист оказался тоже ссыльным, скитавшимся без работы; он играл иногда в единственном кино под аккомпанемент плохонького пианино. Музыкальной школы, по его словам, в городе вовсе не было; тем не менее, он очень обрадовался неожиданной встрече, появление скрипача дало бы возможность составить трио. На всякий случай обменялись адресами, но уже ясно было, что план с переводом на работу в Калпашево рушится, тем более что в общеобразовательной школе они узнали о существовании циркуляра не вербовать в школьные преподаватели репрессированных лиц.
Когда в семь часов вечера собирались на пристани, Родион, узнав, что перевод в Калпашево срывается, признался:
– Сергей Петрович, видать, дурной я человек – чтобы за вас огорчиться, а я радехонек: без вас мне тоска смертная в Клюквенке, сопьюсь запросто.
– Глупый мальчик! Это так понятно! И для меня в Клюквенке ты – родная душа. А спиться я тебе не дам.
– Сергей Петрович! Я такого человека, как вы, отродясь не видывал! И во сне не мерещилось, что бывают такие. Не знаете вы, что они для меня значат, Нина Александровна!
– Не говори «они». Называй имя и отчество, – прикрикнул Сергей Петрович.
Но юноше хотелось выговорить свою мысль, и он пропустил мимо ушей поправку.
– Мне бы должно благословить ссылку за встречу с вами, да я бы, может, и благословил, только вот мать у меня на старости лет одна по чужим избам, бедная, мотается. Ну, и заропщешь другой раз.
Сергей Петрович пожал ему руку.
– Что сказали тебе об отце?
– Сказали: без права переписки; коли помрет – известим. А обвинен, мол, и ты, и тятька твой правильно: кулаки вы, и поблажки вам никакой не будет. А какие же мы кулаки, когда без чужой помощи всю жисть хозяевали? Ну, да я не унываю, Сергей Петрович: везде есть хорошие люди.
Ночевали третий раз под открытым небом, на пристани по ту сторону Оби. С реки дул ледяной ветер; посреди ночи Нина, дрожа от холода, постучалась в хижину паромщика, умоляя впустить ее погреться. И несколько часов провела на печке в обществе детей и теленка, который, не тратя даром времени, пережевывал в темноте уроненную ею косыночку; когда Нина, уходя на пристань, хватилась косынки, нашлось лишь несколько клочков. На заре построились для перехода. День выдался ясный, солнечный; туман расходился золотистой дымкой. Шли бодрым шагом, чтобы согреться. Родион все время запевал то одну, то другу песню; никто, однако, ему не подтягивал. На одном из поворотов дороги, оглядывая лес, который весь золотился в преломлявшихся сквозь прозрачный туман утренних косых лучах, Нина воскликнула:
– Ах, какая рябина! Горит! Огненная! – и указала на молодое деревце несколько поодаль от дороги. В одну минуту Родион выбежал из строя, подскочил к рябине и схватил ветку. Грянул выстрел, и схваченная ветка откачнулась обратно… Крик ужаса вырвался у людей, и вся партия разом остановилась, – юноша, как сноп, повалился на землю. Нина окаменела, не верилось, что все происходящее – правда. Сергей Петрович и еще один мужчина бросились к упавшему.
– Назад! – рявкнул комендант. – На прицел! – крикнул он конвою. Четыре револьверных дула тотчас устремились на двух мужчин. Те даже не обернулись.
– Жив? Отвечай! Жив? Что с тобой? Где рана? – повторял Сергей Петрович и дрожащими руками начал расстегивать на упавшем ватник.
Второй мужчина, стоя под дулом, сказал:
– Товарищ комендант, я – врач: разрешите мне исполнить мою обязанность. – И, хотя револьверные дула остались в прежнем положении, припал ухом к груди юноши, держа его неподвижную руку в своей. Все замерли.
– Кончено, – сказал он и встал с колен. Наступила тишина. Мужчины поснимали шапки.
Сергей Петрович тоже поднялся и с бешенством крикнул коменданту:
– Вы не имели права стрелять! Мы все видели, что это не побег!
– Молчать! – крикнул злобный голос. – Сомкнуть строй! Стреляю в каждого, кто не будет повиноваться!
Нина бросилась к мужу:
– Сережа, молчи! Ты – безумец! Разве ты не видишь: это звери, не люди! Они убьют и тебя… Молчи! – шептала она, вся дрожа, и втащила его в ряды. Кто-то поднял и протянул уроненную им шапку, Нина нахлобучила ее ему на голову.
– Шагом марш! – крикнул комендант.
– А как же он?.. Вы его бросите… – срываясь, пролепетал один женский голос.
– Вперед! – пролаяла повторная команда. Люди двинулись в полном молчании с угрюмыми лицами; конвойные еще держали револьверы наготове. Комендант пошел сбоку, оглядывая строй.
– Гражданка! Вы! Вы! Выйти из строя!
– Я сопровождаю партию с разрешения старшего коменданта, – отважилась выговорить Нина.
– Знаю, что с разрешения. По дороге вам идти не запрещено, а из строя извольте выйти.
Нина и Сергей Петрович молча взглянули друг на друга; он пожал и выпустил ее руку. Лица стали как будто еще сумрачней; за весь переход никто не сказал ни слова, только шаги звучали по лесу.
Комендант сделал остановку в Могильном и ходил к своему начальнику, очевидно, с докладом о происшедшем. Вернувшись, он отдал приказ ночевать в Могильном и увел отряд в здание комендатуры. Нина, не зная, куда деваться, прошла в тот дом, где ночевала по прибытии. Усталая и потрясенная, она не скоро заснула и с трудом поднялась, когда встававшая к корове хозяйка разбудила ее на рассвете. Кутаясь на ходу в ватник, она побежала к комендатуре и в сырой мгле утра увидела отряд выходящим из ворот.
Она не посмела вмешаться в ряды и пошла сзади; сапоги натерли ей ноги, и она с тоской думала о предстоящем дне пути. Только в полдень, во время остановки, когда она подошла ближе к партии, она обнаружила, что Сергея Петровича, а также молодого доктора не было среди других. Страшно испуганная и растерянная, она хотела повернуть назад, но побоялась быть застигнутой сумерками в тайге и, следуя за отрядом, все-таки дошла до Клюквенки. Когда она переступила порог своей мазанки и опустилась на деревянную скамью, ею овладело отчаяние.
– Господи, что же это? Что я теперь должна делать? Его, наверное, перебросят в концентрационный лагерь… я его не увижу больше!
Клюквенка показалась ей теперь насиженным мирным местом… Как хорошо было еще несколько дней назад, когда они пели и играли вот в этой самой комнатушке, и вот что теперь!.. Она озябла и проголодалась – волей-неволей пришлось растапливать печь, варить картофель и кипятить воду. Поужинав в полном одиночестве, она устроила себе постель на лежанке и накрылась всем, что было теплого, трясясь в нервном ознобе. Страшно будет провести одной ночь: хата на краю, за ней пустое поле, а за полем тайга, которая глухо шумит. Вокруг – ни души. Пошел дождь, но она не могла заснуть даже под этот равномерный, убаюкивающий звук. То ей чудились шаги за дверьми, и она, замирая, прислушивалась, не зная сама, чего ждет и чего боится, то чудился вой волков. Детский суеверный страх все больше овладевал ею: наводили ужас темные углы пустой хаты – они, казалось, жили угрюмой, таинственной жизнью, и там, в глубине, в паутине, роились и прятались призраки. Скоро над ней начала протекать крыша; сначала падали отдельные редкие капли, потом забарабанило частой дробью; она не шевелилась – страшно было выйти за освещенный круг. Однако течь скоро стала настолько сильной, что волей-неволей пришлось вылезти, чтобы сохранить сухими теплые вещи, которыми она была накрыта. Когда она встала и осветила дальние углы, то увидела, что течью захвачен еще один угол и могут промокнуть ноты и скрипка. Сердце ее больно сжалось при взгляде на скрипку:
«Я сыграю тебе Моцарта!» – вспомнилось ей. Пришлось переносить все вещи в единственный сухой угол. Весь остаток ночи она просидела, поджав ноги, на скамье, слушая дробь дождя и шелест тараканов, к величайшему ее ужасу перебравшихся из мокрых углов поближе к ней. Ноги ее скоро совсем онемели, но она боялась опустить их на пол и не решалась переменить положение, окруженная армией насекомых.
О Господи! Долго ли еще будет тянуться эта ночь? Она, кажется, никогда не кончится! Надо отговорить Асю от брака с Олегом: он не сегодня-завтра попадет в такую же ссылку, а она окажется с ребенком в таком же медвежьем углу.
Забрезжило, наконец. Она решилась встать и взялась за топор, чтобы подогреть себе воду в чугунке. Топор не слушался непривычных рук, дело не ладилось, слезы досады наворачивались на глаза.
Дверь отворилась – на пороге показалась баба в ватнике и в сапогах и остановилась у притолоки, подперев красную щеку рукой.
– Что вам? – спросила Нина.
– Ничаво, ничаво, родимая. Поглядеть на тебя пришла. Уж не прогневайся.
Нина подивилась и занялась снова дровами и чугуном. Когда она снова взглянула на дверь, баб было уже две, и обе глядели на нее, подперев щеки руками. Нина налила себе чай, поставила чашку на подоконник и села, досадуя на непрошенных посетительниц и стараясь уяснить, в чем кроется неожиданный интерес к ее особе. Должно быть, слух, что она только что зарегистрировалась с ссыльным, уже докатился – в представлении этих баб она была молодой девушкой, у которой сорвалась брачная ночь! Вот именно это и возбуждало их любопытство. Она повернулась: баб было уже три, и все перешептывались, кивая на нее. Нервы Нины не выдержали: она ударила рукой по подоконнику и вскочила:
– Да что же это здесь – театр, что ли? Бессовестные! Сердце-то у вас есть?
Бабы испугались и, может быть, даже пристыдились. Все три разом выбежали вон. Нина захлопнула за ними дверь.
Она повязала платок, влезла ногами в сырые сапоги и вышла на холодный туман. Шла и думала, что сделала величайшую глупость, приехав сюда. «А впрочем, глупость эта, может быть, самое большое и лучшее, что мне довелось сделать!»
Приближаясь после пятичасового пути к логовищу коменданта, она купила дешевого студня. Повторилась прежняя, уже знакомая ей история, с тою только разницей, что после третьей подачки собака уже не скалила зубы, угрожая наброситься, а стояла, выжидая следующего куска и глядя на Нину умными глазами. Нина протянула еще кусок, и собака, вильнув хвостом, взяла его из ее рук.
– Демон, Демончик, хороший Демаша! – завела уже привычную песню Нина и, все еще робея, направилась к крыльцу, а Демон побежал рядом. Встречаясь с умным и внимательным взглядом животного, Нина невольно сравнила этот взгляд и своеобразное благородство собачьей морды с лицом хозяина дома – сравнение было не в пользу человека.
– Здравствуйте, товарищ комендант! – стараясь говорить как можно приветливее, сказала Нина, собирая всю свою волю на предстоящий тяжелый разговор. – Вот решила заглянуть к вам, чтобы прослушать вашу дочку, а также выяснить одно недоразумение. Вы позволите мне войти?
Рука, похожая на медвежью лапу, неуклюже протянулась к ней:
– Просим, просим, товарищ артистка!.. Садитесь. Не желаете ли пивца холодного? Дочка уж мне житья не дает: когда же твоя знаменитая певица меня послушает?
Нина поспешила мило улыбнуться:
– Это очень понятно, товарищ комендант. Я с большим удовольствием займусь с ней; я сегодня не тороплюсь. Но прежде я хотела бы переговорить с вами по поводу вчерашнего инцидента. Ваш помощник, очевидно, уже представил вам рапорт?
– Вы это о чем, гражданочка?
Он до сих пор еще не потрудился узнать имя и отчество Нины.
– Ваш помощник стрелял в ссыльного. Я шла с этой партией согласно вашему разрешению и была невольной свидетельницей.
Спазма сжала горло Нины. Комендант уже не смотрел на нее притворно-ласковым взглядом.
– Так, так, гражданочка, точно. Что ж дальше? Подчиненный мой действовал согласно инструкции. Над нами ведь тоже начальствуют, доложу я вам. Когда ссыльные находятся в пути, большого числа конвойных мы предоставить не можем, и существуют особые правила поведения, о которых мы предупреждаем конвоируемых. Эти правила были зачитаны. По всей вероятности, и вы их слышали. Никакого упущения по службе не было – могу вас уверить! Нам с вами говорить-то об этом не для чего. Ну, разумеется, вы человек непривычный: вам оно… страшновато показалось. Забудьте думать, гражданочка; забудьте – вот и вся недолга! Мой вам совет: от ссыльных лучше держитесь подальше; особенно пятьдесят восьмых – неспокойный народ! Должен я вам сказать – с уголовниками куда легче: свои ребята! А эти пятьдесят восьмые нас, советских людей, презирают и все в лес смотрят.
Глухое, больное возмущение, накипавшее в Нине, комком давило ей в грудь и сжимало виски до дурноты. Упущения по службе не было! Ему все равно, что погиб талантливый, милый, жизнерадостный юноша! Важно, что соблюдены все правила, при которых разрешается безнаказанно стрелять в человека.
Она сделала усилие, чтобы овладеть собой, и сказала спокойно:
– Я не собираюсь обвинять вашего помощника в нарушении правил: это меня не касается. Я хотела узнать, за что вы задержали двух других из этого отряда? Один из них мой муж, ради которого я так далеко приехала. Могу вас уверить, что ровно ни в чем не провинился. Я здесь могу пробыть считанные дни, поэтому решаюсь обратиться к вам с просьбой освободить его как можно скорей.
И опять ей перехватило голос.
– Подождите, подождите, гражданочка: дайте я справлюсь в рапорте – я не упомнил фамилии. Минуточку.
Он вышел из комнаты и вернулся с листом бумаги и с очками на носу, придававшими ему несколько комический вид.
– Как фамилия вашего супруга, гражданочка?
– Бологовский, Сергей Петрович.
– Так, так; совершенно верно; Бологовский под арестом: «Пытался возмутить против конвоя…» – видите ли, какая штука! Это вам не фунт изюма, гражданочка! Вы извините: я попросту.
– Это ничего, что попросту. Я тоже с вами буду говорить попросту. Товарищ комендант, вы информированы неправильно! Снимите показание с меня, допросите всех шедших в партии, и вам станет ясно!
– Я не собирался заваривать дела и чинить допрос по всей форме, гражданочка; домашним образом думал справиться. Тут, чего доброго, нагореть может, ежели пойдет по законной линии. Число конвойных я, видите ли, выделил недостаточное и в Калпашеве людей отпускал только по моей мягкости – одолевали меня с просьбами: кому к доктору, кому просьбу подать, кому устроить вызов по специальности… Ну, и соглашался; вот и вас прикомандировал, а по всей строгости оно бы не следовало, да где уж, думаю, вам одной по тайге шататься… Ну, а начальство может косо на это поглядеть: мирволит, скажет!
Невольно шире открылись глаза Нины: так этот держиморда опасался обвинений не в самоуправстве или жестокости, а напротив – в мягкосердечии и гуманности! Хороши же были типики, сидящие над ним, уже кончившие школу палачей! Но так или иначе, а огласки этот великолепный администратор не желал! Нина тотчас это учла и очень дипломатично сказала:
– Могу вам обещать, что если мне случится говорить о происшедшем в Томске, я приложу все усилия, чтобы не повредить вам.
– А с кем вы там говорить намерены?
– Я знакома кое с кем в Томске, – храбро солгала Нина. – Я отнюдь не желаю бегать по учреждениям, но придется, по-видимому, выручать мужа, если вы не пожелаете его выпускать.
– А вы меня, гражданочка, уж не припугнуть ли желаете? Из этого, доложу я вам, ничего не выйдет: я в партии с семнадцатого года, старый чекист, и заслуги мои всем хорошо известны; партийных взысканий не имел, стою твердо – не подкопаетесь.
– Припугивать вас я не собираюсь, но если вы не хотите дать делу законный ход, тогда прикажите выпустить задержанных, а что значит «кончить домашним образом» – я не понимаю! Ведь вы должны же будете отчитываться перед Томском в гибели ссыльного и в аресте двух других?
– Никак нет, гражданочка! Ссыльных у нас тысячи, и они вверены мне бесконтрольно. У нас в тайге и на дорогах задаром, без следа, пропадают люди самые полноправные, а не то что высланные! Конечно, когда идет судебный процесс, за каждого из подсудимых тюремный персонал отвечает своею головой, но у меня здесь или осужденные, или административно-высланные. Таких тысячи в каждом из здешних районов. Где тут отчитываться в каждом? Погиб и погиб – довольно, что знаю я. Для знаменитой артистки я всегда готов стараться!
Засадил я тех двоих за нарушение дорожной дисциплины; вот завтра выберу времечко и допрошу. Тогда сам увижу, что мне с ними делать. На моем участке я могу распоряжаться, как сам нахожу нужным, – запомните, гражданочка! Хоть повесить, ежели заблагорассудится; но я, имейте в виду, не суров.
Нина поднялась и взяла рукой забрызганную грязью юбку, как взяла бы шлейф, спускаясь с эстрады.
– Я вас поняла, товарищ комендант: Благоволите теперь провести меня к вашей дочери.
Два часа она просидела с кривляющейся, намазанной, завитой девицей, пробуя ее голос, исправляя постановку, прививая навыки. И когда, наконец, вышла – чувствовала головокружение от усталости и нервного перенапряжения, а надо было до сумерек пройти опять тридцать верст. Великолепный хам не догадался предложить ей хоть какой-нибудь вид транспорта. Утешая себя, что эта дорога сравнительно людная, благодаря постоянному сообщению между Могильным и Клюквенкой, и встреча со зверем или с бродягой маловероятна, она вышла из поселка и потащилась по грязи в злосчастную Клюквенку.
Она шла уже часа три, время от времени присаживаясь на камень и съедая кусок хлеба, которым запаслась, чтобы не ослабеть в дороге. Затянутый холодной осенней дымкой лес хмуро молчал. Она шла, не глядя по сторонам и стараясь не думать, что идет одна через тайгу. Натертые ноги мучительно ныли. Вдруг она увидела неподвижную мужскую фигуру впереди на повороте.
Со времени травмы, пережитой ею в Черемухах десять лет назад, каждая незнакомая мужская фигура, встреченная в уединенном месте, внушала ей опасения. Этот постоянный страх портил ей все прогулки, когда она попадала за город. Теперь при одном взгляде на стоявшего впереди человека сердце у нее отчаянно заколотилось.
Она увидела, что прохожий решительно направился к ней. В эту минуту взгляд ее остановился на большой палке, валявшейся на дороге, и она быстро схватила ее.
Человек подходил все ближе и ближе, и вдруг она узнала эту неуклюжую бородатую фигуру – философ Яша! Слава Богу!
– Нина Александровна! – сказал старый еврей, подходя неуверенной, шаркающей походкой, – ну, как это вы ушли одна? Ну, сказали бы мне. Я, правда, стар и плохой защитник, но таки лучше чем никто! Не бросайте палку через час будет темно – почем знать? Идемте скорей.
Они пошли рядом. Он не решился предложить Нине руку, видимо, не был уверен, что русская дворянка примет ее. Выслушав про Сергея Петровича, сказал:
– Немножко утешу вас, Нина Александровна! В вашей мазанке сейчас чинят крышу. Несколько женщин из здешних крестьянок подняли гвалт, что у вас заболочена вся хата; у одной из них муж плотник; она потащила его чинить, потом подговорили еще одного и обещали, что все будет готово к вечеру.
Он внимательно взглянул на расстроенное лицо своей спутницы.
– Я понимаю ход ваших мыслей, Яков Семенович. Отвечу вам правду – нет, давно нет! Всенощное бдение в институте, причащение с другими девочками – все это поэтическое воспоминание, и – только! Христос, который учил человечество милосердию или бессилен и, стало быть, не Бог, или не милосерд вовсе!
– Страшные слова вы произносите, Нина Александровна. У вас такая тонкая душа, а о Спасителе вы, простите, рассуждаете по-обывательски плоско. Если бы наградой за веру и праведную жизнь служило процветание здесь, на земле, в земных формах, – все вокруг были бы верующие, но грош цена была бы этой вере! Из века в век заботливо выращивают наш дух светлые Учителя, и скорби на этом долгом пути к вечности служат нам искуплением и очищением. Есть люди, которые благословляют их, – они начинают интуитивно постигать неисповедимость Божественных путей. Вы, Нина Александровна, может быть, и сами с любовью и умилением оглянетесь когда-нибудь на нынешний день и этот крестный путь в Могильное, который дал вам выявить на деле вашу любовь и верность. Цените ниспосланные вам минуты, которые глубоко и неразрывно, нитями родства потустороннего, связывают вас с любимым человеком.
– Яков Семенович, вы христианин?
– Не знаю… Вернее будет сказать – антропософ, постигающий Христа. Родился в иудействе – я сын виленского раввина. Я мальчиком был, когда мне в руки случайно попало Евангелие и, когда я стал вчитываться в строчку за строчкой, вырос из них передо мной образ Христа и завладел навсегда моими мыслями. Я понял роковую ошибку моего несчастного народа, я понял, насколько христианство человечнее, светлее и шире нашего узкого иудейства, – я многое понял тогда. Помню, что делалось со мной, когда, спрятавшись за шкафом, в углу моей бедной комнаты, я читал: «Сия есть Кровь Моя Нового Завета, Еже за вы проливаемая…» Наступила Страстная; занятия в гимназии были прерваны, и вот потихоньку, как вор, побежал я – еврей – в христианскую церковь, не в нашу гимназическую, нет – разве я бы посмел туда явиться? – в монастырское подворье на окраине. Шла литургия, и когда я робко переступил порог храма, я услышал голос из алтаря: «Пийте от нея вси сия есть Кровь Моя» – те как раз слова, которые переворачивали мое сознание. Я слушал, слушал и, знаете ли, что я сделал? Я подошел с другими к Чаше, движимый самым горячим желанием. Я несколько раз делал так, не зная сначала, что это недопустимо. Много было после пережито тяжелого: и страшный протест окружавшей меня среды узкого провинциального еврейства, и косность ваших священников, и порочность вашего христианского мира – все это обрушилось на меня еще в ранней юности и едва не затушило отблески дальних сияний, которые нашли место в моей душе. Но дивный Образ, раскрывшийся однажды моему воображению, укреплял мой дух. Крестился я много позднее – уже когда окончил университет. Крещение давало мне права гражданства наравне с русскими, а я не хотел ни перед своей совестью, ни перед людьми, чтобы вера моя перепутывалась с вопросами житейских благ, и лишь когда окончание университета дало мне право и жить и работать в Петербурге, я принял крещение. Здесь выплыли новые трудности священники, к которым я обращался, после бесед со мной отказывались меня крестить, находя, что я, выйдя из иудейства, заблудился в безднах теософии и по существу моих воззрений не христианин. Среди них были очень образованные, и они соглашались, что в русской интеллигенции есть множество лиц, отстоящих по своим воззрениям еще далее меня от Православия в самой его сути, но крестить заново обращенного с такими воззрениями, тем не менее, отказывались. И все-таки, великая Церковь ваша, обладая таким сокровищем, как Евхаристия, осенена благодатью, как бы ни были погрешны отдельные представители. И эта благодать сошла на меня. Я вошел в лоно Церкви Один из священников обратился за разрешением вопроса к епископу, и тот меня понял! Больше того; мое самовольное причащение он рассмотрел не как грех, а как особое призвание. Он согласился меня крестить и сказал при этом «Храните символ Веры и не порывайте с Причащением, тогда, исполняя по мере сил заповеди Господни, вы пребудете в Церкви. На исповеди кайтесь в том, что вам укажет совесть, но не вступайте в богословские прения» Всю жизнь я с благодарностью вспоминаю этого человека. Я – близорукий – страшился упрека в материальной заинтересованности при переходе в Православие, и даже помыслить тогда не мог, что моя вера повлечет за собой, напротив, гонение и исповедничество, а Христос в Своем милосердии послал мне жребий, о котором я не смел мечтать! Кто бы мог это предвидеть в те годы? Вот теперь я в ссылке, одинокий, больной и уже старый; у меня нет ни угла, ни семьи, но поверьте мне, Нина Александровна, что я счастлив и что мне в самом деле ничего, совсем ничего не нужно! Долгое время горем моим была потеря моей библиотеки – книги были моею страстью, и на них я тратил все мои средства; за годы петербургской жизни мне удалось собрать огромную библиотеку религиозно-философского содержания, ее опечатали при аресте, и случайно мне стало известно – от соседей по квартире, – что книги были погружены в огромный грязный грузовик, который умчал их прямо на свалку, – это говорил соседям лично увозивший книги шофер. Теперь и эта боль отошла; не осталось ничего кроме радости идти за Распятым Учителем. Эту радость уже никто не может у меня отнять. Вы, Нина Александровна, еще молоды и хороши собой – да пошлет вам Господь счастье с избранным вами человеком, но не падайте духом и не унывайте в дни печалей. Они не так страшны, как кажутся сначала: как раз в их гуще и толще нас посещают новые и самые дивные радости. Где крест, там они вьются вереницами.
Молодая женщина молчала, озадаченная и удивленная.
– Не отвечайте мне ничего, а только запомните мои слова, сохраните их в своем сердце. Быть может, когда-нибудь они найдут в вас отклик. Мы сами не знаем минуты, когда в нас просыпается тайное, лучшее, внутреннее. – И он прибавил с улыбкой: – Странно, не правда ли, что вы – христианка по рождению – выслушиваете о Христе от еврея? Случается и так!
– Нет, Яков Семенович. Я этого не думала… Спасибо за хорошие слова и за участие. Мой муж и я, мы оба вас так уважаем… Я сейчас вспомнила своего брата… вот бы вам поговорить с ним – вы бы друг друга поняли, а я…
Она заговорила о библиотеке своего отца, которой завладела тетка, и о некоторых уникальных изданиях, хранящихся в ней, и за этими разговорами дорога прошла незаметно.
Когда, уже в сумерках, они подошли, наконец, к Клюквенке и Нина вошла в свою хижину, починка и в самом деле была закончена, пол подметен и даже печь вытоплена; а чугун полон печеной картошки, аккуратно закрытой вышитым полотенцем; очевидно, женщины предполагали, что она вернется из Могильного с мужем, и решили обеспечить молодым счастливый вечер. Нина была тронута неожиданной заботой, однако, она так устала, что не могла есть, а тотчас улеглась на лавке и в этот раз проспала всю ночь как убитая. День не принес ей ничего нового. К вечеру она опять затопила печь, вскипятила чайник и села у огня, настороженно прислушиваясь: может быть, и в самом деле отпустит после допроса! Стук в оконную раму заставил ее вздрогнуть, но это оказался всего только десятник, который обегал ссыльных, вызывая на перекличку к коменданту, как обычно в понедельник. Она села, и ей стало еще грустнее после минутной надежды.
Поднялся ветер и завыл в трубе, нагоняя тоску, ей опять делалось жутко; неужели начнут повторяться все ужасы предшествующей ночи? Черные тараканы начинали опять выходить из своих углов, а свеча, колеблясь неровным светом, уже рисовала устрашающие тени на закоптелом потолке, когда ей показалось, что кто-то шарит рукой за дверью.
– Кто? – спросила она, вскакивая, но не снимая крючка, и дрожа.
– Нина! Открой! Это я!
Она выскочила под дождь и бросилась на шею мужу.
Пароход издавал протяжные гудки в знак того, что не придет больше – не придет до весны! Этот прощальный сигнал всегда звучит на Оби, как только шуга – ледяное крошево – проявляется на могучих волнах. Затерянные в лесных селеньях ссыльные с грустью вслушиваются в этот заунывный гудок. Стоя на борту парохода, покидавшего Калпашево, Нина всматривалась в полосу тайги на противоположном берегу и вытирала слезы.








