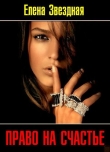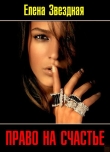Текст книги "Под крылом доктора Фрейда"
Автор книги: Ирина Степановская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Таня
– Я не могу поверить, что этот приступ случился с тобой просто так, без всякой причины.
Давыдов сидел в затемненной комнате рядом с женой и держал ее за руку. Таня молчала.
– Скажи, ты, наверное, все-таки употребляла наш опытный образец? Ну, сознайся! Об этом нужно обязательно сказать врачу.
«Опытный образец? Что такое опытный образец? – Таня напряглась. – Это из далекой чужой жизни. Разве та жизнь имеет к ней какое-то отношение?»
Давыдов помолчал. Тане стало неудобно лежать на спине. Она шевельнулась, с трудом повернулась на бок. Давыдов с ужасом наблюдал за ней. Начать ее трясти, орать ей в самое ухо? Сделать что-нибудь ненужное, пусть глупое, даже болезненное, лишь бы вывести ее из состояния этой безучастной дремоты! Он наклонился к самому лицу жены, зашептал:
– Ну, что ты запираешься? Строишь из себя героиню?
Таня только закрыла глаза.
– Пойми, я не ругаю тебя! Я даже тобой восхищаюсь! Твоей смелостью, твоим бесстрашием. Ты ведь у нас великая экспериментаторша! Только почему ты поступила так безрассудно? Разве можно было, не сказав мне ни слова, пойти на такой риск? Хоть скажи теперь, сколько ты выпила? Я подниму протоколы опытов и посмотрю у мышей. Да ты и сама наверняка можешь сказать, как долго это у них длилось?
Таня медленно вынула свою руку из его руки. «Чего он пристал? Она не понимает ничего из того, что он говорит. Что он хочет, чтобы она сказала?»
На нее навалился сон. Нижняя челюсть слегка отвисла, мышцы лица расслабились, и из носа вырвался легкий свист.
Давыдов оторопел. Он никак не мог поверить себе, что лежащая перед ним отекшая женщина и есть его жена Таня.
– Ты разыгрываешь меня?
Как будто под влиянием новой интонации свист прекратился.
– Я знаю, зачем ты это сделала, – сказал Давыдов. Ему показалось, что Таня не спит, что она слушает его молча, с закрытыми глазами. – Ты поняла, что ты уже не любишь меня так, как раньше. Главное место в твоей жизни заняла работа. И ты решила поставить на себе этот опасный эксперимент. Я бы не смог. А ты – запросто. Ты ведь всегда принимала главные решения за нас двоих. Но черт возьми! – Он в сердцах стукнул кулаком по спинке кровати. – Ты не подумала, как мы теперь будем из этого выпутываться?
Она почувствовала удар, хотя до этого спала и не слышала ничего из того, что он говорил. Однако прежние его фразы все-таки застряли в ее голове, и, словно на автомате, она медленно проговорила:
– Я ничего не пила.
Он схватился за голову.
– Таня, Таня! Послушай, я очень прошу тебя, поверь мне, я делаю все, чтобы тебе помочь! Мы достанем лекарства, любые, которые тебе нужны, за любые деньги, если надо – из-за границы. Поверь мне, ты обязательно поправишься! Но только ты должна рассказать врачу правду! Иначе как тебя можно лечить? Возьми себя в руки! Ведь больной тоже должен хотеть выздороветь!
Она все так же с трудом отвернулась к стене.
– Я хочу спать…
Он встал.
– Ты не хочешь напрячься, помочь себе. Почему, Таня? – Он заглянул ей в лицо.
Она уже опять не слышала его, но в голове промелькнула мысль: «Это – Виталий. Он – мой муж. Что такое „муж“? Неважно, но он со мной». И впервые за все эти страшные дни она улыбнулась. Но муж уже не видел этой улыбки. Он вышел из палаты.
Настя
Настино выстиранное одеяло розовым флагом неизвестной, но не поверженной страны лежало на голой сетке кровати, сушилось. Сама Настя, теперь уже свернувшись в клубок, по-прежнему лежала в нижнем ярусе – на матрасе. Глаза ее были открыты – она наблюдала игру света и теней под пыльными прямоугольниками чужих кроватей, и мир представлялся ей таким же скучным, как пол, на котором она лежала. Она считала дни до приезда матери. Мать приедет, наверное, не одна. Вместе с отчимом. Этого труднее перехитрить. Но ничего. Она снова скажет, что все поняла, что будет слушаться, что не будет исчезать по ночам. Вернется в институт, пусть только ее выпишут.
Лязгнул замок, вдалеке открылась дверь, и женские ноги в легких туфлях энергично процокали к ее койке. За туфлями передвигались кроссовки нового врача. Насте было все равно, кто там ходит. Живот еще болел, но уже не так сильно.
– Что это, Настя, ты тут опять устроила? – послышался совсем близко над головой недовольный голос.
Настя состроила скорбную мину. С Альфией Ахадовной лучше не спорить.
– Я же ее вытащил, а она опять под кроватью. – Это уже удивленный молодой врач.
– Уберите одеяло, – приказала Альфия.
Нинель, следовавшая за ней по пятам, с готовностью его свернула.
– Ну-ка, Полежаева, давай-ка вместе с матрасом ложись на кровать. Хохлакова, помоги ей!
Ольга с готовностью вскочила со своей постели. Пружинистая сетка постели колыхнулась, освобожденная от ее грузного тела. Альфия с удивлением увидела, как Сурин сам взялся помогать девчонке. Вытащил и матрас, и подушку, помог лечь. «Если бы он не работал у меня первый день, я бы решила, что он как-то заинтересован в этой истории…»
– Подними платье! – Альфия бочком присела на кровать. Загорелый плоский живот, черные кружевные трусики выглядели заманчиво. – Где загорала-то? – спросила не без зависти Альфия.
– У нас в палисаднике. Во время прогулок. – Настя слегка морщилась, пока Альфия пальпировала ей живот.
– Везет же тебе. Торопиться никуда не надо, на свежем воздухе минимум два часа в день… Повернись-ка на левый бок! – Альфия болтала просто так. Ей нужно было, чтобы Настя отвлеклась и расслабила мышцы.
– Не надо, у меня уже не болит.
Настина голова была повязана все той же маленькой косынкой, облагораживавшей высокий выпуклый лоб. И нежный профиль запрокинутого лица вдруг напомнил Диме Джульетту. Димина мама любила балет, и он смутно помнил их всех, романтических героинь своего детства: Одетту с ватным валиком вокруг головы, злую Одиллию в черной пачке с красным треугольным поясом, нежную Жизель в неожиданно длинной для балерины юбке и, наконец, Джульетту – в маленькой бархатной шапочке, расшитой жемчужинами. Вот эту шапочку и напомнила ему Настина косынка. Сам Дима никогда не смог бы объяснить эту подсознательную игру ассоциаций. Настя тронула его душу; а как, почему – разве это важно?
– Видишь, не болит! – шутливо подняла к Диме лицо Альфия.
– Но как же? Я не мог ошибиться! Давайте я вам сам покажу!
Сурин испытывал одновременно и неловкость, и злость, и недоумение. Альфию поразило его возмущение.
– «Ну, об чем это вы, молодой человек, загораетесь?» – Она процитировала ему одновременно и своего профессора, и писателя Зощенко. Когда ее любимый преподаватель хотел показать, что волнения напрасны, он всегда цитировал великого сатирика. Дима, как подавляющее число молодых современных людей, Зощенко не читал, однако иронические интонации уловил.
– Я об острой хирургической патологии загораюсь, – хмуро и тупо повторил он.
– Ну, опять двадцать пять. Рвота была? – Альфия осматривала Настин язык и, казалось, уже не обращала на Диму внимание.
– Нет! – Настя отрицательно покачала головой.
– А мне она сказала, что была!
Дима беспомощно огляделся по сторонам, как бы желая найти подтверждение своим словам. Все сидели, отвернувшись от него, как нахохлившиеся птицы, и делали вид, что не слушают. Только Оля Хохлакова недвусмысленно подмигивала ему одним глазом.
– Тебя никто не бил? Головой не ударялась? – продолжала расспрашивать Настю Альфия.
– Нет.
Альфия закончила осмотр. Повернулась к Диме.
– У вас еще вопросы будут?
– Нет.
– Тогда пойдемте. – Альфия направилась к выходу, но Дима не пошел за ней. Дождавшись, когда ее стройные ноги скроются за поворотом, он сел к Насте на постель, еще теплую после Альфии. Помолчал немного и тихо спросил:
– Ты что, обманула меня насчет рвоты?
Настя перевела взгляд с потолка на его лицо. При этом тень от ее длинных густых ресниц красиво упала на бледные щеки.
– Я не специально.
– Не специально? А как?
Дима весь подобрался, как сеттер, выследивший утку. Он был готов услышать что угодно и поверить всему. Настя слегка поманила его к себе пальцем.
– Я не хочу здесь лежать. Я не больна. Я ненавижу эту ужасную больницу! Мне кажется, я ненавижу все больнице на свете. Я должна выписаться отсюда. Ты понимаешь?
Он согласно кивнул. Ее слова упали в благодатную почву. Она хочет выписаться! Так это же прекрасно, замечательно, восхитительно! И он просто обязан ей в этом помочь. Только как?
– Давай я все-таки снова посмотрю твой живот. Я не сделаю тебе ничего плохого. Ты мне веришь?
Настя внимательно посмотрела на него и осторожно подняла на животе платье.
Володя
Альфия убедилась, что Сурин за ней не пошел, и это привело ее в ярость. Как он посмел? Хорошенькое начало! Она велит ему идти, а он и в ус не дует! Альфия вся вспыхнула, как весенний мак, отчего ее синие глаза еще больше засверкали, и решила, что высказать все, что она думает по этому поводу, может только одному человеку – ее признанному всей больницей кавалеру и другу Владимиру Михайловичу Бурыкину. Поэтому, еще раз оглянувшись и увидев, что коридор по-прежнему пуст, Альфия, рассерженно стуча каблуками, вышла из своего отделения, поднялась на этаж и напористо нажала на кнопку звонка.
Дверь сразу открылась, будто доктор Картошка стоял за дверью и ждал, когда Альфия о нем вспомнит.
– Как ты узнал, что это я? – Она переступила порог его отделения, как своего собственного.
– Я всегда чувствую, когда ты еще только поднимаешься по лестнице, дорогая.
Альфия прошла в его кабинет, расположенный прямо над ее собственным, и с размаху плюхнулась в широкое кожаное кресло.
– Володя, есть у тебя коньяк?
– Для тебя, Алинька, все что угодно.
Картошка вытащил из шкафчика бутылку хорошего коньяка и с удовольствием плеснул по рюмкам.
– Твое здоровье, родная!
– Боже, как пафосно, – Альфия выпила коньяк залпом. – Нет, Вова, подумай только, ну и молодежь нынче пошла! – Она вытянула длинные ноги, закатила глаза и картинно скривила губы. – Взялся черт знает откуда, я ему еще ставку отдала, и долдонит, как попугай на птичьем рынке: «Я хирург, я хирург! Я психиатрию не знаю, но никого слушать не буду!» Не хочешь – катись отсюда к чертовой матери!
– Алечка, не надо так страшно ругаться. Дай черту отдохнуть, зачем ты его беспокоишь? Твоему личику это не идет. – Доктор Картошка подсел к Альфие на ручку кресла и нежно обнял ее за шею.
– Володя, отстань! Мне сегодня не до нежностей. Из меня просто искры летят, так я зла!
– Ну вот и не надо злиться, дорогая! Скушай лучше конфетку! Или вот яблочко!
– Ничего не хочу! – Она закрыла коробку, чтобы не смотреть на конфеты. – Представляешь, я с этим типом ехала сегодня в автобусе. Ты, наверное, видел.
– Не только видел, но и ревновал. – Володя решил налить себе чаю.
– Так не к чему было! – Альфия вдруг поймала себя на том, что как будто оправдывается. – Ну, пошутила с ним немного, в таком стиле, как я люблю.
– Он не скончался на месте от твоих шуток?
– Даже не подумал! Ну, подпустила я немного этакой сладкой жути, пококетничала минуток пять. Вот и все! Но я никак не ожидала, что Саня присватает этого хирурга ко мне в отделение!
– Подумай сама, к кому же еще наш дорогой Александр Борисович мог направить на учебу молодого специалиста, как не к тебе – нашей единственной умнице и красавице. – Володя говорил, а сам нежными, сильными движениями массировал ей шею. – Но все-таки я не понял, что же такого этот парень сделал?
– Он меня не послушал!
– Да как он смел?!
Альфия жалобно добавила:
– Он гнет свою линию.
– В чем?
– Считает, что у девчонки Полежаевой какая-то хирургическая патология.
– Алечка, хочешь, я убью этого придурка?
– Уймись, Володя! – Альфие все-таки было не до шуток. – Ты сегодня приторен, как эти дурацкие конфеты. – Она резко встала и одернула платье. – Мне пора! Пойду, начищу ему все-таки нюх!
Она направилась к выходу, но вдруг остановилась, обернулась и посмотрела Картошке прямо в глаза:
– На душе как-то неспокойно, Володя! Не понимаю даже, в чем дело. Будто что-то отвратительное должно случиться.
Бурыкин спросил уже серьезно:
– Но ты посмотрела эту больную?
– Конечно.
– И ничего не нашла?
– Абсолютно. Но все равно у меня какое-то тягостное предчувствие, от которого невозможно избавиться…
– Тогда, может, четверть таблеточки? У меня есть французские, – предложил Владимир Михайлович.
– А чем собираешься потчевать?
Альфия взяла с его ладони кусочек блестящей облатки с крошечной таблеткой, желтевшей в воздушном гнезде. Перевернула и прочитала название на обратной стороне.
– Ну уж нет. Лучше обыкновенного пустырника тресну. – Она задумалась, и в памяти ее всплыло нахальное, как ей показалось, лицо непрошеного новичка. – Каков все-таки гусь! Журнал «Психиатрия» ему, видите ли, старье!
– Да плюнь ты на него! – Картошка убрал таблетку назад и смачно прихлебнул чай. – Помается он у тебя месяца три, а потом или сам смоется куда-нибудь, или попросишь Саню его забрать от тебя.
– У меня такое ощущение, что это все как-то не к добру! – Альфия задумалась. – Кстати, а сколько сейчас времени?
Картошка посмотрел на свои дорогие наручные часы.
– Почти четыре.
– Надеюсь, наш больничный хирург никуда не ушел. Я ему сейчас позвоню.
– Мудрое решение. Да и куда он, Алечка, денется с подводной-то лодки? Он же на «Шапочке» ездит. А она уходит в город в пять.
– Отлично. Дай-ка мне список внутренних телефонов. – Альфия быстро набрала номер. – Нет никого! Не отвечают. Может, он где-нибудь в отделениях?
В трубке раздался щелчок. Женский голос недовольно ответил:
– Алле-е!
– Это Левашова. Мне Николая Павловича.
Голос в трубке нисколько не подобрел.
– А его нет!
– Где же он?
– Нет и все. Заболел. Имеет право человек заболеть?
Альфия с недоумением посмотрела на Картошку.
– Имеет, конечно, но как же нам быть? Нам нужна срочная консультация.
– Ничего не знаю! Николай Палыч сказал, что, если что случиться – пускай договариваются и в райбольницу везут. Не умирать же теперь ему самому!
– А что с ним случилось? Что-нибудь тяжелое?
– Тяжелое, нетяжелое! Откуда я знаю! Отпросился человек и ушел. Может, ему зуб надо вырвать!
– Ну да. Самое время, – буркнула Альфия и бросила трубку. – Пойду.
Она послала Картошке воздушный поцелуй и вышла из комнаты.
Дима
А Сурин в это время не мог найти себе места от беспокойства.
От природы он был плохой дипломат, но, к его чести, и не лез в дипломатию. Достаточно уравновешенный и порядочный, Дима дожил до двадцати шести лет без особых страстей и тревог. Он не курил, не увлекался спиртным, не гонялся за девочками. В школе Дима был почти незаметен. Начиная с восьмого класса родители оставляли его одного на много месяцев, уезжая работать в разные, преимущественно жаркие страны, и одноклассники, если бы об этом узнали, попытались бы воспользоваться ситуацией, но Дима не делился с друзьями своими хозяйственными проблемами. Собственно, и друзей-то как таковых у него в школе не было. Он твердо верил, что настоящая жизнь и настоящие друзья ждут его где-то там, впереди. Он наблюдал за ребятами как бы свысока, не испытывая одиночества.
Он знал, что должен учиться. Был уверен, что станет врачом. Это знание пришло к нему как-то само собой, в процессе обычных полных сомнений подростковых размышлений о выборе профессии. Никто в его семье не был серьезно болен, наблюдать было особенно не за кем, но Дима естественным образом пришел к выводу, что именно в профессии врача соединяется возможность проявить разумную власть, ум, смелость и человеколюбие. Слово «милосердие» он даже в мыслях не употреблял – оно вышло из обихода у современных молодых людей. И аполитичный Дима решил, что вся его жизненная политика должна заключаться в том, что он должен стать специалистом самого высокого класса. Он подчеркивал: специалистом, не чиновником. Что чиновник? Лишат его кресла – и он никто. Хороший врач – он и в Африке врач, и в Москве врач.
Первый удар постиг его в виде аллергии. Вторым (Дима пока это не осознавал) стало то, что он внезапно влюбился.
Недаром Булгаков, описывая чувства любовников в «Мастере и Маргарите», употребил выражение «любовь настигла…». Сегодня Дима вдруг ощутил некое странное тяготение к незнакомой девушке. Говорят же, «притягивает как магнитом». Он даже не отдавал себе отчета, как разом, вдруг, изменилось его поведение, изменилось восприятие мира и окружающих. Разве когда-нибудь он мог бы вообразить, что, явившись первый день на работу, тут же подвергнет сомнению высказывания своего прежнего профессора? Этого быть ни за что не могло. И это при том, что хирургией он занимался со второго курса, а в отделение к Альфие явился вообще первый раз. Это был нонсенс! И странность заключалась еще и в том, что в глубине души он осознавал нелепость своего поведения, но все равно продолжал думать по-своему и настаивать на своем.
Еще Диме казалось, что в его необычном поведении виновата Альфия. От нее исходило какое-то напряжение, как в воздухе после грозы. Если по отношению к Насте, кроме искреннего желания помочь и разобраться в ее состоянии, он испытывал сильную потребность произвести впечатление умного и красивого мужчины, то при виде Альфии чувствовал постоянное желание противоречить. Так умные и самолюбивые ученики на уроках хамят молодым учительницам, стремящимся навести в классе порядок.
Сейчас, когда он остался в отделении один, этот дух противоречия утих, разум возобладал – и Дима, снедаемый плохо осознанными чувствами, поплелся читать раздел «Симуляция и аггравация» в учебнике, который ему дала Альфия.
Читал Дима тоже со странным ощущением. Раньше он думал, что хирургия – самая интересная и трудная наука на свете. Сейчас он поразился, как, оказывается, мало он знает и помнит из институтского курса и как на самом деле трудна диагностика состояния больных в психиатрии, даже по-новому зауважал психиатрию и психиатров. Но вместе с тем его не покидала уверенность, что он не ошибся – ни в осмотре, ни в оценке состояния девушки. «Анастасия Полежаева» – когда он произносил про себя это имя, оно казалось ему очень гармоничным. Как нужно действовать дальше? В конце концов, Альфия – его начальница, вся ответственность на ней. Но если он прав… Ах, как бы он хотел, чтобы сюда каким-то чудом переместился бы его прежний завотделением! Он бы показал ему Настю…
Дима оборвал себя. Альфия должна скоро вернуться. Выглядеть дураком перед ней тоже не хотелось. Некоторое время он еще подумал, потом все-таки круто развернулся и пошел к очкастой Сове.
– Пригласите, пожалуйста, в кабинет Полежаеву.
Сова не ответила. Он не понял, выполнит она его просьбу-приказ или нет, но решил подождать.
Минут через десять Сова появилась в дверях кабинета со словами:
– Да не волнуйтесь вы особенно, Дмитрий Ильич! Чего у нас здесь только не бывает! Вон в прошлом году одна больная иголку себе под ноготь загнала. Специально, чтобы ее в хирургию перевели. Отдохнуть от нас, видите ли, захотела. Представляете?
Дима промолчал. Сова обернулась, и за ее спиной Дима увидел Настю. Она стояла бледная, как гипсовая модель для студентов художественных вузов, под глазами у нее четко выделялись темные круги. Разница с летящей девушкой, которую он видел в холле перед обедом, была ошеломительной. Сурин ужаснулся.
Настя прошла и уселась перед ним на стул. Дима выразительно посмотрел на Сову. Та поджала губы и ушла.
– Ведь ты врешь, что у тебя живот не болит! – начал он прямо, когда они остались одни. – Я же вижу, ты сюда еле дошла!
Настя смотрела как бы на него, но в то же время мимо.
– Отвечай, пожалуйста, – мягко сказал он.
– Я не хочу говорить. – Настя отвернулась.
– Почему?
Она искоса на него посмотрела.
– Потому что все, что я здесь скажу, обязательно передадут маме. А она сделает так, чтобы меня здесь продержали как можно дольше. По принципу: «Болит голова – надо лечить голову. Болит живот – надо лечить живот». Все равно что лечить, лишь бы в больнице.
Сурин оторопел. Такого ответа он не ожидал.
– Зачем же твоей маме держать тебя в больнице?
– Она меня ненавидит. Мечтает избавиться от меня, чтобы я не путалась у нее под ногами. Не мешала ее личной жизни. У мамы теперь новый муж и новый ребенок.
Они помолчали, не глядя друг на друга. Дима испытывал неловкость. «Это, наверное, бред». И тут же спросил себя: «Ну, допустим, бред. И что, при этом не может случиться, к примеру, аппендицита?» А чувствительность у этих больных (он только что это прочитал) может быть не такая, как у обычных людей. Кроме того, вдруг то, что говорит эта девушка, вовсе не бред?
Он осторожно переспросил:
– Но ведь живот все-таки болит?
Настя посмотрела на него с вызовом и даже улыбнулась:
– Ни капельки!
И тут же, вдруг согнувшись пополам, замотала головой, закусила губу и боком повалилась на пол со стула. Дима оторопело вскочил. Настя ерзала на животе по вытертому ковру, постеленному возле стола Альфией, чтобы зимой и осенью не мерзли ноги, и бледными длинными ногтями судорожно скребла по пыльному голубоватому ворсу.
«Это истерика», – подумал Дима. Настя затихла, пальцы ее разжались. Он наклонился к девушке и тронул за плечо. Она не двинулась. Тогда он перевернул ее на спину и с ужасом увидел, как глазные яблоки медленно покатились под бледные открытые веки.
– Дождались! – заорал Дима в сторону Совы. – Срочно сюда «острую» аптечку! Шприцы! И Альфию Ахадовну! Срочно!
Он стал нащупывать Настин пульс, сначала на руке, словно не решаясь еще прикоснуться к ее тонкой, нежной шее.
Альфия, от двери отделения услышав его крик, уже сама бежала к кабинету. «Что он там, рожает, что ли?» С другой стороны спешила Сова со склянкой с нашатырем.
– Я же сказал, шприцы!
– Да будет вам, Дмитрий Ильич! – Сова поводила ваткой перед Настиным носом. – Сейчас придет в себя.
Альфия на секунду задержалась на пороге, потом решительно подошла ближе. Черт чем не шутит, может, правда, нужен хирург? Совсем этот молодой сбил ее с толку. С другой стороны, Полежаеву она все-таки уже хорошо изучила. Голову, конечно, на отсечение бы не дала, но все-таки то, что она сейчас демонстрирует, не похоже на болевой приступ.
Дима поднялся с колен, посмотрел на Альфию так, что ей показалось, что он схватит ее за горло.
– А как насчет разорвавшейся маточной трубы? Или лопнувшей кисты?
Альфия подошла еще ближе, заглянула Насте в лицо. В некотором смысле он прав. Все может быть. Гинеколог, конечно, осматривает больных при поступлении, но они могут и соврать, и срок может быть маленький… Лопают тоже черт знает что. Хоть Нинка, конечно, и проверяет передачи, но разве за всеми углядишь? Конечно, проносят неразрешенное, в том числе и из магазина… Только вчера она, Альфия, сама велела отобрать у одной больной целый мешок грязных не жареных семечек. И это, как говорится, еще «семечки»…
Запах нашатыря разлился в воздухе. Девушка застонала. Сурин встал пред ней на колени, осторожно поправил голову.
«Как это трогательно! Ну прямо Ромео и Джульетта! Только Джульетта малость подкачала, больная на всю голову!»
Альфия подошла к своему столу и стала набирать номер секретаря больницы.
– У меня экстренная ситуация. Где Александр Борисович?
Ей что-то ответили, она повторила:
– Уехал на «Шапочке». Отлично. Нашего хирурга тоже нет. Что же мне делать?
– Звоните в местную «Скорую». Договаривайтесь с ними.
Дальше последовала пикировка со «Скорой», которая не знала, какая именно больница подмосковного города принимает московских психиатрических больных. Все это время Дима находился возле Насти. Он поднял ее и усадил в кресло. С неизвестно откуда взявшейся ненавистью он слушал разговор заведующей со «Скорой» и с дежурным врачом районной больницы. «Что б вы все сдохли! Что б сдохли!» – сжав кулаки, про себя бесконечно повторял он.
Наконец, Альфию соединили с заведующим хирургическим отделением.
– Если обеспечите сопровождение специалиста, мы примем под вашу ответственность, – сказал он. – Но только караулить вашу больную будете сами.
– А-а, поняла, – плотоядно улыбнулась Альфия. – Пришлю вам отличного парня. Тоже, между прочим, хирург. В прошлом. Сейчас уже непревзойденный психиатр. Спасибо, что вникли, коллега!
Дима подумал: «За что она хочет меня наказать?» Но размышлять на эту тему ему было некогда. Кто-то уже звонил в дверь. Сова вышла в коридор и оттуда крикнула:
– Наша секретарша перевозку подослала!
Альфия лихорадочно строчила переводной эпикриз.
– Нинель, вперед! Проводишь доктора и Полежаеву до машины.
Она быстро запечатала Настину историю болезни в специальный конверт. Сказала Сурину:
– Историю передашь хирургу лично!
Настя застонала. В ней не осталось ничего ни от благородной романтичной Джульетты, ни от полной надежд молоденькой балерины. Худенькие лопатки торчали вверх, как недоразвитые крылья у задохшегося и ощипанного цыпленка, – но этот цыпленок вдруг стал Сурину дороже всех жар-птиц на свете.
Так, скрюченным комком, Настю и положили на носилки, накрытые не первой свежести простыней – и вся процессия быстрым шагом спустилась по лестнице. Дима первым вышел на улицу, придержал дверь.
Прекрасный летний день терял силу. Сосны горели стволами до самых верхушек, и их высокие, поднятые к небу темно-зеленые макушки легко качались в начинавшей синеть высоте.
Санитары погрузили Настю в машину – старый раздолбанный «уазик».
– Вы за вещами-то своими завтра приедете? – спросила Диму Сова, когда он усаживался рядом с Настей в салон.
– Не знаю. Как получится.
– Ну, я их приберу.
Шофер завел двигатель. Сова уже почти захлопнула дверь.
– Секунду постойте!
Сова с удивлением всунула в салон голову.
– Что все-таки стало с той больной, которая загнала себе в палец иголку?
Нинель оторопело посмотрела на него сквозь свои очки.
– А ничего не стало! Альфия Ахадовна взяла пинцет да иголку и вытащила. Йодом ранку намазала. Все и зажило. А я еще этой дуре наподдавала как следует, чтобы больше не вздумала себя калечить. В общем, удачно съездить!
Сова с силой захлопнула дверь. У Дмитрия Ильича мелькнула мысль, что звук хлопающих дверей теперь будет преследовать его всю жизнь. А у Насти ничего не мелькнуло. Она вдруг спокойно перевернулась на носилках на спину и заснула.