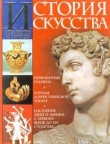Текст книги "История Древнего мира, том 1. Ранняя древность"
Автор книги: Ирина Свенцицкая
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 40 страниц)
В отличие от Мари, Ашшур гораздо меньше пострадал от превратностей этой эпохи; граждане города сумели накопить за предшествующий период большие богатства, город был невредим и по-прежнему находился на перепутье важнейших дорог; в результате касситского вторжения в Нижнюю и Среднюю Месопотамию в середине XVIII в. при Самсуилуне Ашшур был отрезан от Вавилона и освобожден от его политических посягательств; хотя в то время город возглавляли слабые правители и сохранялось архаическое полуреспубликанское устройство, существовали уже и предпосылки нового расцвета Ашшура.
В разделе 3 использованы материалы Дьяконова И.М.
Государство Митанни.
Мы не знаем точно, когда началось движение хурритоязычных племен на юг и юго-запад с их предполагаемой прародины в северовосточной части Закавказья (само название «хурриты» означает «восточные» или «северо-восточные»). Если хурриты – это те же племена, которые назывались в Шумере народом су, су-бир, а у аккадцев – субарейцами, то они были в поле зрения жителей Нижней Месопотамии уже с середины III тысячелетия; это как будто подтверждается большим числом заимствований названий нестепных растений и т.п. из хурритского в аккадский («яблоня», «слива», «мята», «шиповник»). Однако не исключено, что су было названием племен и народов, вообще живших в горной полосе независимо от их языка и происхождения. Первые достоверные известия о хурритах дают нам надписи последней четверти III тысячелетия до н.э.– на каменных таблицах (Тишадаль, энда (Слово энда означает по-хурритски, согласно одному толкованию, «жрица», согласно другому – «жрец-правитель».) Уркеша; Аришена, царь Уркеша, Хавала и Навара) и на печатях (Аришена, царь Карахара), а затем в начале II тысячелетия до н.э. появляются имена собственные разных лиц, от правителей до подневольных работников, происходящие с гор Тавра вблизи их восточных перевалов (в области, впоследствии называвшейся Киццувадна) и из северной зоны Верхней Месопотамии (городище Шагер-Базар в верховьях Западного Хабура), а также из Ллалаха недалеко от устья р. Оронт в Сирии.
Однако же еще при Шамши-Ададе I (XIX—XVIII вв. до н.э.) все названия номов и местностей и имена правителей в Верхней Месопотамии остаются семитскими.
По лингвистическим данным, как показала М.Л. Хачикян, можно заключить, что переселение хурритов в Переднюю Азию шло волнами, причем первая и зашедшая далее всех волна (вплоть до Северной Палестины?) должна быть отнесена едва ли не к середине III тысячелетия до н.э.; более поздняя волна создала хурритское население, засвидетельствованное только что перечисленными источниками. Но продвижение продолжалось и в последующие столетия; так, еще в XX—XIX вв. центр района севернее горной гряды Хамрин носил древнейшее название Гасур, но к XVI в. этот район заняла группа хурритов, давших ему название Арранхэ, а Гасур переименовавших в Нузи. Хурритское население Алалаха в Сирии становится между XVIII п XIV вв. значительно более многочисленным (неясно, за счет ли притока новых групп хурритов или за счет большей хурритизации местного западносемитского населения). К середине II тысячелетия население Угарита на побережье Сирии становится двуязычным – западносемитским и хурритским.
Почти нигде мы не можем предположить, что хурритское население уничтожало, вытесняло и сменяло предшествующий этнос: явные признаки продолжающегося сосуществования этих этносов наблюдаются всюду, возможно, за исключением Аррапхэ. Не происходит и заметных принципиальных изменений в материальной культуре. Очевидно, подобно степнякам-амореям, горцы-хурриты сначала нанимались к местным царькам воинами, а позже захватывали власть в городах, сливаясь с местным населением или сосуществуя с ним.
Начало политического преобладания хурритов в Верхней Месопотамии принято было относить ко второй половине XVI в. до н.э., но недавно Г.М. Аветисяну удалось доказать, что ыощпое хурритское государство Ханигальбат возникло не позже XVII в. до н.э. Концом этого века датируется большой поход хурритов Ханигальбата в глубь Малой Азии при хеттском царе Хаттусили I (который был в это время отвлечен экспедицией на запад полуострова); очевидно, это хурритское государство должно было консолидироваться раньше. Набег хурритов был но без труда отражен хеттским властителем, который закрепил за собой территорию между горами Тавра и Евфратом. В позднейших текстах Ханигальбат – это лишь другое название царства Митанни, поэтому можно думать, что образовавшееся не позднее XVII в. крупное хурритское государство как раз и было хорошо известным из истории середины II тысячелетия царством Маитани (так в ранних текстах), или Митенни. Представляется вероятным, что Ханигальбат было названием страны, а Митанни – одного из хурритских племен и его династии.
Сын Хаттусили I, Мурсили I, прославился своим походом 1595 г. до н.э. на Халеб в Северной Сирии и на Вавилон. Он покончил с государством, основанным Хаммурапи, и предоставил захватить его касситам (которые до этого обосновались в Хане на среднем Евфрате и поэтому, очевидно, должны были быть союзниками Мурсили). Насколько можно судить, Мурсили прошел только вдоль Евфрата, не углубляясь в Ханигальбат (т.е. во внутренние части Верхней Месопотамии), и имел с хурритами лишь небольшие стычки. После Мурсили в Хеттском царстве начались длительные внутренние междоусобицы, что способствовало возвышению и укреплению Митанни.
Мы уже упоминали о том, что хурритские племена двигались в сторону Верхней Месопотамии и Сирии отдельными волнами; их примерная последовательность может быть установлена по особенностям диалектов и отчасти – местных пантеонов. Первая волна (если не считать возможного продвижения хурритов в середине III тысячелетия до н.э., достигшего Сирии – Палестины) отражена в языке надписи Тишадаля из Уркеша, еще сохранившем много общего с языком родственных урартов, не вышедших за пределы Армянского нагорья. Последняя волна представлена языком Митанни, дошедшим до нас в очень пространном письме митаннийского царя Душратты к египетскому фараону.
Наиболее интересной особенностью этой волны является то, что митаннийские цари носили индоиранские имена наряду со вторыми хурритскими и поклонялись, в числе прочих, индоиранским богам; к митаннийской же традиции, очевидно, восходит распространение индоиранских терминов для коневодства. Немецкой исследовательнице А. Камменхубер удалось показать, что все индоиранские термины и имена собственные, выявленные в митаннийской традиции, отражают не индоиранское, а хурритское произношение: династия и ее сторонники сохраняли индоиранские обычаи и заимствования из индоиранского языка, но сами говорили уже только по-хурритски; это указывает на ее происхождение из районов, где возможны были контакты с подлинными носителями индоиранского языка, к числу которых, очевидно, относились и основатели династии. Наиболее вероятной локализацией представляется район около оз. Урмия в Северо-Западном Иране, в области, которую еще греческие историки и географы второй половины I тысячелетия до н.э. называли Матианой или Матиеной.
Спорным остается вопрос о положении индоиранского языка, сохраненного глоссами, внутри группы индоиранских языков. В собранном материале нет черт, характерных для иранских языков, в то же время есть черты, архаичные уже для индийских ведических текстов, но и черты, заведомо возникшие в языках индийской ветви лишь в I тысячелетии до н.э. и отсутствующие в санскрите. Вывод из этих данных может быть различен: 1) «митаннийский арийский» – очень древний язык индийской ветви, однако уже выработавший некоторые черты, возникшие в других индийских диалектах лишь позже; 2) «митаннийский арийский» – это диалект будущих иранских племен, по относящийся ко времени до выработки фонетических особенностей, отделивших иранскую ветвь от индийских, – и, однако, имеющий уже и некоторые позднейшие, все-таки неиранские черты; 3) «митаннийский арийский» принадлежит к ветви, промежуточной между иранской и индийской, а именно к дардо-кафирской. Эта ветвь, сохранившаяся ныне лишь в Северо-Восточном Афганистане, Пакистане и в Кашмире, считается специалистами первой по времени выделения из индоиранской общности и по времени переселения в ирано-индийский регион; поэтому вполне возможно, что диалекты этой ветви имели вначале более широкое распространение в Иране, пока не были вытеснены позднейшими волнами собственно ираноязычных племен, появившихся здесь не позже последних веков II тысячелетия до н.э. Именно это решение удовлетворяет всем отличительным признакам «митаннийского арийского».
Заметим, наконец, что индоиранизмы в культуре, языке н именах собственных обнаруживаются только у хурритов митаннийской группы: их нет в ранних хурритских надписях, нет ни в Алалахе близ устья р. Оронт, ни в Киппувадне, ни в богазкёйском архиве (исключая дипломатические договоры с Митанни), ни в Аррапхэ.
Первый известный по имени царь «Маитани» – Шуттарна I, сын Кирты, известен по оттиску печати в Алалахе конца XVI в. до н.э. После него правил Парраттарна, известный по большой надписи Идрими, царя Алалаха; Идрими был вынужден бежать от своих врагов в Эмар на Евфрате – видимо, в митаннийские владения – и впоследствии был восстановлен на престоле Алалаха с помощью Параттарны. С этого времени следует датирвать начало проникновения митаннийского влияния в Сирию.
Наиболее могущественным царем Митанпи был Саусаттар, или Саусадаттар. Он носил титул «царя Маитани (или Ханигальбата), царя воинов хурри». При нем Аррапхэ за Тигром находилось если не под властью, то под влиянием Митанни; он же заключил договор с царем Киццувадны к югу от гор Тавра. Ему подчинялся автономный Алалах. Ему же удалось захватить и разграбить Ашшур. Этот город, однако, не вошел непосредственно в состав государства Митанни, но в нем сидел митанвийский посол (суккаллу), видимо принимавший участие в работе совета старейшин Ашшура и носивший наравне с другими звание годичного эпонима-лимму. На «вассальных» правах (подобно Алалаху) Митанни подчинялись многие города восточной части п-ова Малая Азия. Непосредственно в состав Митанни входила область Кадмухи на верхнем Тигре, а возможно, и некоторые области севернее его притоков. Египетские фараоны в своих завоевательных походах XVI и последующих веков до н.э. на Палестину и Сирию постоянно соприкасались с местными правителями, носившими индоиранские имена – очевидно, состоявшими в родстве с митаннийской династией и бывшими ее ставленниками. Египетские надписи называют Митанни термином Нахрайна– «Двуречье», или «Междуречье», из чего видно, что они отождествляли это государство со всей территорией Верхней Месопотамии между Евфратом и Тигром. Фараону Тутмосису I (конец XVI в. до н.э.) впервые удалось выйти на Евфрат, но война с Митанни шла с переменным успехом вплоть до правления Артадамы I в Митанни и Тутмосиса IV в Египте (конец XV в. до н.э.), когда между ними был заключен мир и Артадама отдал свою дочь в гарем фараона. Это замирение объясняется мощной угрозой Митанни со стороны усилившегося Хеттского царства, царь которого Хаттусили II проник глубоко в Сирию. Весь последующий период идут войны между хеттами и митаннийцами (и сторонниками тех и других), а в Митанни начинается полоса династических распрей. Тем не менее царь Душратта, опираясь на дружбу с Египтом, смог успешно сражаться с хеттами и благополучно долгое время процарствовать в Верхней Месопотамии (вплоть до вступления Аменхетепа IV на египетский трон).
По смерти Душратты престол Митанни формально переходит к престарелому и больному сопернику Душратты, Артадаме II, издавна претендовавшему на него. Фактически страной правит его сын Шуттарпа. Эти события, несомненно, не могли совершиться без хеттской поддержки, помимо прямой помощи, которую Артадама II и Шуттарна получили от Алзи (хурритского царства в долине р.
Арацани-Мурадсу на Армянском нагорье) и от Ашшура. Схватив большую группу знати – сторонников Душратты, Шуттарна попытался передать их в Ашшур, но ашшурские власти, очевидно не желавшие связывать себя ввиду неопределенности дальнейших событий в Митанни, отказались их принять, и Шуттарна сам приказал всех их казнить. Положение остальных сторонников Душратты в Митанни стало безнадежным: хетты поддерживали Артадаму, Сирия была в руках хеттов, на севере Алзи, а на востоке Ашшур были враждебны. Двести колесниц во главе с их начальником Аги-Тешшубом бежали в дружественную страну Аррапхэ. Опираясь на них, Шаттиваса сын Душратты отправился оттуда искать поддержки у касситского царя, но тот отнял у него все колесницы, и царевич, едва спасшись бегством, обратился за помощью к хеттам. Там он появился с одной-единственной колесницей и двоими сопровождавшими его хурритами, не имея даже сменной одежды, но был встречен по-царски: Суппилулиума отдал ему в жены свою дочь, предварительно выяснив, какое она займет положение в Митанни, и предоставил ему войско во главе со своим сыном. После разгрома митаннийской армии он, по просьбе Шаттивасы, сделал его наследником престола и оставил на троне тяжело больного Артадаму, дядю Шаттивасы. События завершились тем, что гегемония Митанни пресеклась: на западе возобладали хетты, на востоке поднялась Ассирия, прежде до крайности утесненная государством Аррапхэ.
Мы знаем очень мало о внутреннем политическом и социальном устройстве Митанни; можно только сказать, что это была не монолитная империя, а рыхлый союз номов, которые объединялись вокруг Вашшуканни, столицы Митанни-Ханигальбата (местоположение ее еще не установлено), которые платили ми-таннийскому царю дань и выставляли на помощь ему воинские контингенты; что «люди хурри» – очевидно, воинская знать – играли значительную роль при царе и упоминались иной раз вместе с царем в государственных договорах; и что большую роль в войне, а может быть, и в управлении играли колесничие – марианна. Сами колесницы как род оружия и тактика колесничного боя были, без сомнения, заимствованы у индоиранцев, но колесничие в это время, судя по их именам, были чистыми хурритами. Термин марианна вопреки постоянным утверждениям ряда исследователей – чисто хуррито-урартский (северокавказский), а не происходит от древнеиндийского марья – «муж, юноша». Это доказывается не только наличием хорошей северокавказской этимологии этого слова, но и тем, что институт марианна существовал не только у митаннийцев, испытавших индоиранское влияние, но и у всех хурритов вообще, включая Алалах и Аррапхэ. И нужно заметить, что эти марианна были не «феодальной знатью», а дворцовыми служащими, получавшими свои колесницы с казенных складов.
Гораздо больше мы знаем о хурритском обществе за пределами Митанни – в Алалахе и особенно в Аррапхэ; этому будет посвящен следующий раздел.
В разделе 4 использованы материалы Дьяконова И.М. и Аветисяна Г.М.
Хурритское государство Аррапхэ.
Государство Аррапхэ может служить примером периферийных ломовых структур этой эпохи, весьма мало сходных с ирригационными обществами Месопотамии, Элама и Египта; в отличие от большинства подобных образований, вовсе не документированных, Аррапхэ дало нам обширные клинописные архивы.
Когда в руки исследователей попали аккадоязычные архивы этого царства (Аррапхэ, точнее, Аррафхэ – слово хурритское и, по-видимому, означает «город, принадлежащий Дающим» (закономерно из ари-на-хэ-ве); Ал-илани – «Город богов» – вероятно, аккадский перевод того же названия.), восходящие к XV—XIV вв. до н.э., сначала из царской резиденции, Ал-илани – «Города богов» (совр. Керкук), затем из Нузи (бывшего Гасура, совр. Иорган-тепе) две особенности юридических актов на передачу недвижимости вызвали недоумение. Прежде всего, наряду с обычным обозначением территориальной общины – термином алу – постоянно встречалось обозначение димту, что по-аккадски значит лишь «башня». Затем, вместо обычных документов отчуждении земли обнаружились во множестве передачи ее через усыновление взрослых состоятельных лиц (до пятидесяти одновременных актов на одного и того же человека). В следующем поколении эти сделки оспаривались по суду, хотя и безуспешно, и появилась новая, снова необычная форма сделки, вовсе не имеющая аналогий: диденнуту (от хурритского диденни – «выдел») – их определили как антихрезу, т.е. залоговые с правом получения кредитором продукции с заложенной земли, без права кредитора на распоряжение этой землей.
Этим загадочным явлениям сначала было дано следующее толкование: димту будто бы означает «округ», а не «башня», чему нет подтверждения во всем остальном корпусе аккадоязычдых текстов, но предполагалось, что у хурритов, аборигенов Аррапхэ, все возможно! Усыновление же трактовалось как форма обхода царского запрета на передачу ленных земель, и вместе с тем, поскольку главный скупщик земель оказался должностным лицом, было выдвинуто предположение, что он таким образом возвращал ленные земли короне. В нашей стране было предложено объяснение димту как «башни». Башенные комплексы широко известны в качестве большесемейного жилья(Эти архаические башенные жилища, распространенные, как показал М.И. Джандиери, по всему миру, часто скученные в пределах одного селения, ни в коем случае нельзя путать с «феодальными замками», имеющими совсем иную структуру и другое социальное назначение. Обычно различаются жильте и боевые башни – первые отчуждаемы, вторые – нет; но зато вторые несут оборону общества в целом, приближаясь по своим функциям к крепости – хальцу.), поэтому и угодья их назывались тем же словом.
Кстати сказать, сделки на недвижимость оспаривались исключительно родичами продавцов-усыновителей – власти в эти сделки не вмешивались и не ограничивали их.
Кроме повсеместно представленных дворцовых архивов Аррапхэ дает два крупнейших среди клинописных находок семейных архива: один охватывает срок жизни пяти поколений, другой – трех. Первый принадлежал клану Техиб-Тиллы и был главным объектом изучения с самого начала. Восхождение этого клала началось с приобретения отцом Техиб-Тиллы сотни гектаров садовой земли в районе Надмапи (совр. Телль-Али), расположенного неподалеку от древней Турши (совр. Телль-Махуз). Здесь находилась переправа через Нижний Заб
– важнейшая на северной дороге страны. Это тыл Ашшура, а роль Ашшура в международной торговле известна. В таком районе коммерческая основа хозяйства садоводов могла иметь важные последствия: садоводы Аррапхэ расплачивались с казной металлом (деньгами), поскольку их продукция не рассматривалась как необходимый провиант для дворцового персонала. В дальнейшем Техиб-Тилла смог приобрести в семи разных районах страны более тысячи гектаров земли; сделки оформлялись как «усыновления» Техиб-Тиллы его соотечественниками. Выбор чаще всего падал на придорожные участки: дороги – опора коммерции, контроль над ними
– реальная власть. По норме наделов в Аррапхэ, равной примерно гектару земли на одного работника (урожая с такого участка хватало на одну парную семью), Техиб-Тилла получил возможность снаряжать тысячу воинов. Видимо, эта его деятельность и вывела Техиб-Тиллу в круг начальников военного округа, хальцухлу, именно тысячу воинов выставлял один воинский округ, хальцу.
Все сделки Техиб-Тиллы оформлены через принятие его в качестве «сына» в семью прежнего хозяина парцеллы, выделенной из семейного общинного фонда (айтту). Актов принятия его в качестве «брата» нет, хотя практике общинного суда Аррапхэ известны оба типа сделок на недвижимость. Смысл, видимо, в том, что эти два уровня различались не только правами, но и обязанностями. Так, приобретая в дом коня и рабов на общую сумму 100 сиклей серебра, брат Техиб-Тиллы делит эту сумму расходов следующим образом: половину, 50 сиклей, вносит сам, другую половину вносят совместно два сына Техиб-Тиллы, каждый по 25 сиклей. Тем самым на каждом уровне сверстники равны, но между старшим уровнем и младшим равенства нет. Почти во всех случаях, кроме единичных, где передается не парцелла, а все владение прежней семьи, Техиб-Тилла освобождался от несения службы, если она была закреплена за передаваемым участком. Вероятно, обоснованием этого было его положение «сына», которое предполагает лишь ограниченное участие в делах дома, а то и вовсе никакого.
Цену земли во всех актах ее передачи называют «подарком». Дело в том, что по нормам обычного права подарок поступал в личное распоряжение передающего имущество. При попытке начертить график «цен» получилась некая беспорядочная россыпь точек. Единственный момент, где прощупывалась рыночная конъюнктура, – это последовательное снижение сравнительной ценности «подарка» за дом, за сад и за поле.
В системе связей сверстников в общинно-родовых структурах решающее значение имеет обязанность взаимопомощи. Суть отношений взаимопомощи состоит в том, что они добровольно-принудительны и в них вовсе не предполагается адекватных возмещении, а лишь готовность поддержать другую сторону в любой форме, когда и где это потребуется. Приняв за норму отношении не рыночные расчеты, якобы исходные, а совершенно иную систему – взаимной помощи, мы найдем наконец объяснение сделкам, где вовсе нет ответного «подарка»: в полосу длительной засухи, охватившей в это время всю Переднюю Азию, получить наиболее часто встречающееся возмещение за отданное поле, равное полутора урожаям,– это много, отнять же у младшего поколения, еще не вступившего в силу, бесполезный в данный момент участок земли – это для старшего действующего поколения выход с наименьшими потерями.
Общинный суд, выше которого стояло только народное собрание каждого города Аррапхэ, не зависел от царя и был представлен старейшинами, в том числе бывшими колесничими. Категоричность и беспощадность характерны для этого суда. Это была реальная власть общинно-родовых структур вне дворцового сектора страны.
Став хальцухлу, начальником военного округа, Техиб-Тилла уже без старейшин заверил в один прием полсотни передаточных актов на недвижимость, причем, вопреки всей практике клинописных юридических документов, они имели только три печати: самого Техиб-Тиллы, царского брата и главы пастушеского клана. Стяжание общинных земель Техиб-Тиллой совпало по времени с разгулом произвола градоначальников. Одного из них судили в дворцовой канцелярии Нузи: сохранилась серия записей очных ставок с пострадавшими. Жалобы же на сыновей Техиб-Тиллы разбирала не дворцовая коллегия судей, а общинный суд. Кое-где общинникам удалось их немного потеснить. Знаменателен сам факт приема этих дел к рассмотрению. Эта волна судебных процессов поднялась тогда, когда бывшее младшее поколение, обездоленное сделками Техиб-Тиллы, стало опорным для страны. На это же время падает и первый царский указ о ликвидации долгов – несомненно, акт разрядки создавшегося напряжения.
Могущественный клан Техиб-Тиллы не был единодушен; младший из его сыновей, Агибташенни(В упомянутом ранее акте раскладки семейных расходов дома Технб-Тилльт этот сын не упомянут вовсе. Видимо, он входил в самую младшую возрастную группу.), разделил судьбы своих сверстников: два старших теснили его, а сын среднего, Тарми-Тилла, и вовсе разорил его потомков. Тарми-Тилла, старший внук Техиб-Тиллы, стал тоже начальником военного округа. В доме, где обитал некогда Техиб-Тилла, этот его внук отделился от родичей двойной стеной. Отделил он и свои земли: только он один нанимает людей на уборку урожая (за мизерную плату зерном, рацион одного-двух дней, он требует выставления двух десятков людей под угрозой значительного штрафа). Видимо, все вместе было причиной того, что весь его военный округ вышел из повиновения: но приказу царя следовало расчистить канал, но никто не вышел на работу. Царь в наказание отнял у Тарми-Тиллы вола. Тот, однако, пожаловался в общинный суд на инспектора по распределению воды и на глашатая, которые по обеспечили сбор людей. Приглашенные в суд инспектор и глашатай но сумели оправдаться, и старейшины передали их Тарми-Тилле до тех пор, пока они не возместят ему отобранного царем вола.
Один из правнуков Техиб-Тиллы, потомок старшего сына, был сначала градоначальником Нузи, а затем и шакин-мати – первым после царя должностным лицом, вероятно главой общинного самоуправления (то же что сакину в Угарите, см. лекцию 11). Это случилось в период жестокого обострения международного положения Аррапхэ, когда наступлением ассирийцев преграждались пути, соединявшие Аррапхэ с союзным государством Митанни – гегемоном тех лет. За переправой у Турши, а возможно, и за Тигром (если Карана текстов Аррапхэ тождественна городищу Телль ар-Римах) были расположены владения клана Техиб-Тиллы, утраченные в хода этого наступления.
Однако крыло гарнизонной крепости Нузи рядом с домом, Тарми-Тиллы занял новый хальцухлу, Кель-Тешшуб, не связанный с кланом Техиб-Тиллы. Кель-Тешшуб получил в свое распоряжение крепость Киссук, расположенную у переправы на границе с касситами. Десять окрестных селений принесли ему присягу, отказавшись признать сына их прежнего начальника, поставленного над ними царем. Царь велел шакин-мати опросить все эти селения и передать власть над ними тому, кого примет народное собрание. С утратой северной дороги и переправы в районе Турши касситская, южная переправа стала осбенно важна. Видимо, через нее митаннийский царевич Шаттиваса вывел двести колесниц в поисках поддержки касситского царя в борьбе за престол. «Новое» царское освобождение граждан Аррапхэ от долгов упоминается в одном из документов: Кель-Тешшуба, отмечая повторное нагнетание напряженности в стране.
Второй крупный семейный архив Аррапхэ младше рассмотренного на два поколения. Этот архив принадлежал клану царевичей, связанному с Митанпи династийным браком: митаннийская принцесса Амминайя была отдана Итхи-Тешшубу, наследнику престола Аррапхэ. Их сын, Хишми-Тешшуб, поселился сначала во дворце Нузи, где ему и всей его свите были отведены комнаты и даны завесы для дверных проемов. Потомки царевича перебрались в дом вне стен города. Жанры документации найденного здесь архива царевичей совершенно иные, нежели архива Техиб-Тиллы. Если там представлены почти исключительно судебные акты, то здесь абсолютно преобладают учетные документы. Царевич Шильви-Тешшуб, наиболее деятельный член этого клана, сверстник внуков Техиб-Тиллы, тоже раздавал зерно, однако он предпочитал беспроцентно кредитовать крупные общины, а мелкие ссуды отдавать под залог недвижимости, чего никогда не делал Техиб-Тилла, предпочитавший брать заложников для отработки процента. В результате царевичу в начале его деятельности пришлось самому взять в долг зерно для пропитания людей своего дома. Ничего подобного с Техиб-Тиллой не случалось ни разу. Времена изменились: царевич теперь уже изымал недвижимость неоплатных должников через дворцовую канцелярию – Техиб-Тилла прежде делал это через общинный суд, публично и гласно. Не исключено, что такое изменение в оформлении сделки было продиктовано практикой судебных процессов при сыновьях Техиб-Тиллы. Резерв морального кредита должен был иметь важное значение для правящего клана. Залоговые сделки формально обратимы, в отличие от передач недвижимости через усыновление кредитора, практиковавшихся Техиб-Тиллой.
Большесемейные общины были опорой государства Аррапхэ не только в управлении страной, но и в ее производстве: престижными башнями – оборонным жильем большой семьи – владели община ткачей, община керамистов, община торговцев. Царевич был патроном керамистов, поэтому об этой профессиональной общине известно больше, чем о других. Один из списков людей общины керамистов перечисляет 46 мужчин; следовательно, по минимальному подсчету их семей в общине было от полутораста до двухсот человек. Примерно такое же число людей было в 17 семьях общины Шельвихэ, отошедшей царевичу за долги ее прежнего хозяина. Персонал дворца Нузи, одного из крупнейших в стране, насчитывал немногим больше людей. С десяток дворцовых хозяйств, разбросанных по культовым центрам, расположенным внутри страны, обеспечивали праздничные наезды царского эскорта, прием посольств и поддержание сирот и вдов бедных семей. В полосу продовольственного кризиса, возникшего из-за военных действий, весь персонал дворца Нузи получал блокадный паек (норму, обычную для женщин, получали все мужчины) и царь распределил всех сирых и убогих, кормившихся на дворцовой кухне, по состоятельным домам (запретив хозяевам этих домов делать сборы для пропитания этих людей – это прерогатива дворца!).
Архивы обрываются внезапно, следы погромов свидетельствуют о насильственном прекращении документации. При стабильной большесемейной организации письменность не является необходимой: как можно было заметить из характеристики архивов, они возникли лишь в связи с нарушением традиционного распределения и последующими попытками стабилизации обстановки.
Аррапхэ утратила своего главного союзника – Митанни и превратилась в плацдарм сражений между ассирийцами и касситами за гегемонию. Ассирия при Ашшур-убаллите I (1365 – 1330 гг. до н.э.) уже претендовала на положение великой державы: царь Ассирии дважды вмешивался в касситские дела и ставил в Вавилонии своих людей, но в конце концов ассирийцы были отброшены, и касситы вели бои в ассирийском тылу.
Культура Хурритов.
Мифологии и культам, лежащим в основе хурритской культуры, присуща архаичная концепция тождества гнева богов и ритуальной скверны, которые снимаются очистительной жертвой. Первобытный коллективизм сакральных трапез ещё не преодолен; разобщенность намечается, но еще не состоялась. Главой пантеона хурритов был Тешшуб (бог грома, аналог Зевса), в сердце Северной Сирии, Халебе, его супругой выступает Хебат (иногда сопоставляется с западносемитской праматерью Евой), сын их – Шаррума. В Аррапхэ почитается та же пара: Тешшуб и Хебат (их священные животные – бык и корова); их дитя – теленок Тилла. Вместе с тем в Киццувадне – хурритском государстве, ближайшем к хеттам, почиталась совершенно иная триада: Тешшуб, Хебат и сестра Тешшуба, Шавушка. Эти две богини существенно различаются как по генеалогии (первая – супруга, вторая – сестра), так и по функциям: атрибут первой – трон, второй – ложе. Это противостояние богинь отмечается и в размещении покоев служительниц той или другой во дворце Нузи. Если стоять на главной улице города, спиной к храму, посвященному Иштар Нузийской, и лицом ко дворцу, то относительно новая, парадная секция дворца, расположенная справа, занята царствующей жрицей (собственно «женщиной-царем», шумерское ми-лугаль); здесь в глубинных комнатах находился гарем, дети и кормилицы (секция украшена расписным фризом с изображением масок быка, коровы и теленка); левая – хозяйственная секция, она соединяется с помещениями, где хранился дипломатический архив дворца и записи о расходах на праздничные наезды царя. Это старейшая часть цитадели; она содержит архив снаряжения войска страны и документы личного архива жрицы-эмту, «супруги бога» (в отличие от первой – супруги царя). Связь первой с династией, а второй – с воинской службой ополчения (соответственно с Шавушкои – богиней любви и распри) несомненна.