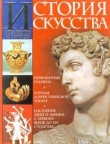Текст книги "История Древнего мира, том 1. Ранняя древность"
Автор книги: Ирина Свенцицкая
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 40 страниц)
Известны также эпические произведения, где героем является божество. Одно из них – сказание о борьбе богини Иннин (Инаны) с олицетворением подземного мира, названным в тексте «гора Эбех», другое – рассказ о войне бога Нинурты со злым демоном Асаком, также обитателем подземного царства. Нинурта одновременно выступает и как герой-первопредок: он сооружает плотину-насыпь из груды камней, чтобы отгородить Шумер от первозданного океана, который разлился в результате смерти Асака, а воды, затопившие поля, отводит в Тигр. Есть и другая пространная поэма с восхвалениями Нинурты.
Если не прямо к культовой, то, во всяком случае, к жреческой литературе следует отнести поэмы, откликающиеся на события истории. Такова серия поэм, связанных с династией Аккаде и особенно с именем Нарам-Суэна – сначала с его подвигами, а затем с его гордыней, осужденной богом Энлилем. Сюда же примыкает и гимническое произведение, условно называемое «Проклятие городу Аккаде».
Более распространены в шумерской литературе произведения, посвященные описаниям созидательных деяний божеств, так называемые этиологические (т.е. объясняющие) мифы; одновременно они дают представление и о создании мира, как оно виделось шумерам. Возможно, что специально космогонических сказаний в Шумере и не было (или они не записывались). Трудно сказать, почему это так: вряд ли возможно, чтобы представление о борьбе титанических сил природы (богов и титанов, старших и младших богов и т.д.) не отразилось в шумерском мировоззрении, тем более что тема умирания и воскрешения природы (с уходом божества в подземное царство) в шумерской мифолографии разработана подробно – в рассказах не только об Иннин-Инане и Думузи, но и о других богах, например об Энлиле.
Устройство жизни на земле, установление на ней порядка и благоденствия – едва ли не любимая тема шумерской литературы; она наполнена рассказами о сотворении божеств, которые должны следить за земным порядком; заботиться о распределении божественных обязанностей, об установлении божественной иерархии, о заселении земли живыми существами и даже о создании отдельных сельскохозяйственных орудий. Главными действующими богами-творцами обычно выступают Энки и Энлиль.
Многие этиологические мифы составлены в форме прений – спор ведут либо представители той или иной области хозяйства, либо сами хозяйственные предметы, которые пытаются доказать друг другу свое превосходство; например лето и зима, медь и серебро, мотыга и плуг, скотовод и землепашец. В распространении этого жанра, типичного для многих литератур древнего Востока, большую роль сыграла шумерская э-дуба. О том, что представляла собою эта школа на ранних этапах, известно очень мало, однако в каком-то виде она существовала уже с самого начала письменности (о чем свидетельствует наличие учебных пособий). Видимо, как особое учреждение э-дуба складывается не позже середины III тысячелетия до н.э. Первоначально цели обучения были чисто практическими – школа готовила писцов, землемеров и т.д. По мере развития школы обучение становилось все более универсальным, и в конце III – начале II тысячелетия до н.э. э-дуба становится чем-то вроде «академического центра» того времени – в ней преподают все отрасли знаний, тогда существовавшие: математику, грамматику, пение, музыку, право, изучают перечни правовых, медицинских, ботанических, географических и фармакологических терминов, списки литературных сочинений и т.д.; существует учебник приемов земледелия – в ритмизованной форме.
Большинство рассмотренных выше произведений сохранилось именно в виде школьных или учительских записей, через школьный канон. Но есть и специальные группы памятников, которые принято называть «текстами э-дубы»: это произведения, рассказывающие об устройстве школы и школьной жизни, дидактические сочинения (поучения, нравоучения, наставления), специально адресованные школярам, часто тоже составленные в форме диалогов-споров, и, наконец, памятники народной мудрости: афоризмы, пословицы, анекдоты, басни и поговорки. Через э-дубу до нас дошел и единственный пока образец ритмизованной сказки на шумерском языке.
Даже по этому неполному обзору можно судить о том, насколько богаты и разнообразны памятники шумерской литературы. Этот разнородный и разновременный материал, большая часть которого была записана только в самом начале III (если не в начале II) тысячелетия до н.э., во многом сохранил приемы, свойственные устному словесному творчеству. Основной стилистический прием большинства мифологических и праэпических рассказов – многократные повторения, например повторение в одних и тех же выражениях одних и тех же речей (но поочередно между разными собеседниками). Это не только художественный прием троекратности, столь характерный для эпоса и сказки (в шумерских памятниках он иногда достигает девятикратности), по еще и мнемонический прием, способствующий лучшему запоминанию произведения,– наследие устной передачи мифа, эпоса, специфическая черта ритмической, магической речи, по форме напоминающей шаманское камлание. Рассказ на табличке часто выглядит просто конспектом, где записи отдельных строк служили как бы памятными вехами для сказителя. Однако зачем тогда было педантично, до девяти раз, выписывать одни и те же фразы? Это тем более странно, что запись производилась на тяжелой глине и, казалось бы, сам материал должен был подсказать необходимость лаконичности и экономности фразы, более сжатой композиции (это происходит только к середине II тысячелетия до н.э., уже в аккадской литературе). Не стремясь оторваться от живого слова, шумерская литература фиксировала его на глине, сохраняя все стилистические приемы и особенности устной поэтической речи. Связь с устной поэзией ощущается очень живо.
Важно, однако, заметить, что шумерские писцы-«литераторы» не ставили себе задачей фиксировать все устное творчество или все его жанры. Отбор определялся интересами школы и отчасти культа. Но наряду с этой письменной протолитературой продолжалась жизнь устных произведений, оставшихся незафиксированными,– быть может, гораздо более богатая.
Неправильно было бы представлять эту делающую свои первые шаги шумерскую письменную литературу как малохудожественную или почти лишенную художественного, эмоционального воздействия. Сам метафорический образ мышления способствовал образности языка и развитию такого характернейшего для древневосточной поэзии приема, как параллелизм. Шумерские стихи – ритмическая речь, но в строгий размер они не укладываются, так как не удается обнаружить ни счета ударений, ни счета долгот, ни счета слогов. Поэтому важнейшим средством подчеркнуть ритм являются здесь повторы, ритмические перечисления, эпитеты богов, повторение начальных слов в нескольких строках подряд и т.д. Характерны аллитеративные созвучия, спонтанная рифма, иногда связывающая два полустишия, Ритмизацию создает и одинаковость структуры глагольных форм, неизменно стоящих в конце стиха-предложения.
При знакомстве с древними шумерскими памятниками, особенно мифологическими, бросается в глаза отсутствие поэтизации образов. Шумерские боги – не просто земные существа, мир их чувств – не просто мир чувств и поступков человеческих; постоянно подчеркиваются низменность и грубость натуры богов, непривлекательность их облика. Первобытному мышлению, подавленному неограниченной властью стихий и ощущением собственной беспомощности, по-видимому, были близки образы богов, творящих живое существо из грязи из-под ногтей, в пьяном состоянии, способных из одного каприза погубить созданное ими человечество, устроив Потоп. А шумерский подземный мир? По сохранившимся описаниям он представляется на редкость хаотичным и безнадежным: там нет ни судьи мертвых, ни весов, на которых взвешиваются поступки людей, нет почти никаких иллюзий «посмертной справедливости». Однако загробная судьба не для всех людей равна: разницу создает и род смерти, и в особенности наличие или отсутствие погребальных жертв.
Идейное наследие первобытности вначале мало что могло противопоставить стихийному чувству ужаса и безнадежности перед лицом враждебного мира. Постепенно, однако, по мере того как в государствах Нижней Месопотамии укрепляется и становится господствующей идеология классового общества, меняется и содержание литературы, которая начинает развиваться в новых формах и жанрах. Процесс отрыва письменной литературы от устной убыстряется и делается очевидным. Возникновение на поздних ступенях развития шумерского общества дидактических жанров литературы, циклизация мифологических сюжетов и т.п. знаменуют все большую самостоятельность, приобретаемую письменным словом, иную его идейно-эмоциональную направленность. Однако этот новый этап развития переднеазиатской литературы, по существу, продолжали уже не шумеры, а их культурные наследники – вавилоняне, или аккадцы.
Вавилонское религиозное мировоззрение.
Монархически-государственный, а не общинный характер официальной вавилонской религии и подавление общественной жизни населения, если не считать жителей привилегированных городов, привели к созданию совершенно иных идеологических форм, чем те, которые господствовали в номовых государствах Шумера(Существенно отличалась вавилонская религиозная идеология и от той, которая создавалась в мелких государствах и у племен Сирии, Финикии и Палестины. Например, в Вавилонии не смогли развиться в качестве общественно значимых шаманистичсские черты первобытной религиозно-магической практики: здесь слабо развиты оракулы, здесь нет народных ораторов-пророков с их ритмическими проповедями. Исключение, по-видимому, составлял лишь г. Мари на среднем Евфрате, где был высокий процент занадносемитского населения.).
С ослаблением солидарности территориальных общин все большую роль начинают играть «личные» (они же, вероятно, и семейно-общинные) боги. Таким богом могло быть любое из общевавилонских божеств, причем они не были связаны с каким-либо определенным географическим округом: бурные военные события и перемещение магистральных каналов основательно перемешали вавилонское население, и в касситское время (XVI—XII вв. до н.э.) уже часто оказывается трудно определить место рождения или жительства человека по тому, кому из богов посвящено его имя. Гораздо большее значение в религии начинает придаваться, так сказать, личным взаимоотношениям отдельного человека (или главы отдельной семьи) с его собственным богом или богиней. Это, в частности, проявляется в возникновении новых жанров – молитв и псалмов, а также заклинаний и других магических текстов, рассчитанных на индивидуальное обращение человека к богу, а не на участие его в общем богослужении. В таких псалмах верующий обычно кается в нечаянном нарушении каких-то неизвестных ему правил, установленных богами, что навлекло на пего несчастье. Носителями бед представлялись злые сверхъестественные силы, и заклинания имели целью унять эти силы с помощью бога. На этой почве вырабатывается сложная система демонологических представлений. Заметим, что всякая молитва обязательно сопровождалась ритуалом и, если она творилась в храме, требовала содействия священнослужителя-профессионала. Но у себя дома каждый глава семьи был жрецом семейных богов и духов предков и совершал обряды и молитвы перед маленьким настенным терракотовым изображением божества. Повышение роли патриархальной семейной общины в ущерб общине территориальной, вероятно, сказалось, между прочим, на резком падении престижа древних богинь, низведенных теперь (за исключением Иштар да еще богини врачевания Гулы) почти исключительно до роли безличных супруг своих божественных мужей.
Общая структура пантеона, созданного еще при III династии Ура, осталась, однако, без перемен; то же касается и сложившихся представлений о генеалогических связях между богами. Хотя царем богов (избранным их советом из числа всех) и считались либо Эллиль, либо Мардук (иногда они сливались в представлении верующих в единый образ «Владыки» – Бела), однако во главе всего мира стояла по-прежнему триада – Ану, Эллиль и Эйя, окруженные советом из семи или двенадцати «великих богов», определяющих «доли» всего на свете; все боги вообще мыслились разделенными на две родовые группы, частично, не полностью совпадавшие с делением на божеств земли и подземного мира и на божеств небесных. В преисподней правил Нергал, подчинивший себе силою свою супругу, древнюю богиню Эрешкигаль, на небе – Ану, между небом и землей – Эллиль, в мировом океане – Эйя.
Вавилонская техника и наука.
Наибольшим техническим прогрессом, несомненно, был окончательный переход во II тысячелетии до н.э. к бронзе. Добавка олова к меди значительно снижала температуру плавления металла и в то же время очень улучшала его литейные качества и прочность и сильно увеличивала износостойкость. Бронзовые бритвы смогли вытеснить обсидиановые и кремневые, бронзовые лемехи плугов служили гораздо дольше медных и поэтому были экономичнее в любом хозяйстве; в военном деле бронза позволила от топориков и кинжалов перейти к мечам, а в оборонительном оружии наряду со шлемами и щитами ввести броню для бойцов и коней; теперь уже воин настолько превосходил в боевой мощи своего пленника-мужчину, что того не было необходимости убивать на месте, а можно было угнать к себе на родину и использовать как раба или иначе – смотря как позволяли хозяйственные условия. Лишь древняя, примитивно изготовлявшаяся сталь (в I тысячелетии до н.э.) смогла превзойти бронзу и по своей дешевизне, и отчасти также технологически.
По-видимому, ко II тысячелетию до н.э. надо отнести усовершенствование ткацкого стана, хотя прямых данных об этом у нас нет; во всяком случае, широкая торговля красителями свидетельствует о каких-то изменениях в текстильном деле. В строительстве в средневавилонский период появляется стеклянная полива кирпича. Скотоводство было дополнено массовым коневодством – правда, обслуживавшим исключительно войско. В последней четверти II тысячелетия до н.э. у скотоводов Сирийской степи появляется одомашненный верблюд-дромадер, хотя ещё не в большом числе, но это уже позволило части племен перейти к подлинно кочевому быту (Отдельные прирученные экземпляры дромадера упоминаются в текстах с начала II тысячелетия до н.э. или ранее.). Приручение верблюда, сделавшее скотоводов гораздо более подвижными, вероятно, помогало им осуществлять массовые вторжения как в Верхнюю, так и в Нижнюю Месопотамию, причем в последнем случае – напрямик из пустыни, а не обходным путем, которым некогда двигались амореи. У землевладельцев Нижней Месопотамии в середине касситского времени прокладка каналов по новым, незаселенным землям привела, видимо, к повышению урожайности, особенно пшеницы и эммера.
Старовавилонский период был временем расцвета вавилонской науки и в областях, менее тесно связанных с практической техникой.
Светская э-дуба была средоточием науки до времен Самсуилуны Вавилонского (Позже учились у частных учителей, чаще всего – заклинателей.). Она готовила главным образом писцов для царских и храмовых канцелярий, для суда и пр.; в какой-то степени э-дуба обслуживала и надобности культа, хотя богослужение осуществлялось тогда еще преимущественно не по записанным и заученным с письма текстам, а по устной традиции. Э-дуба, откопанная в Уре, находилась при частном доме, но были, по-видимому, и казенные, в том числе храмовые, школы. Учились не только мальчики, но иногда и девочки: так, обитель жриц в Сиппаре имела порой писцов-женщин (которые, возможно, сами жрицами не были). Несмотря на сложность клинописи, грамотность была довольно широко распространена: писать умели самые разные лица – от ведшего учет старшего пастуха и иногда даже до царя, которому грамота была менее необходима.
«Писец» было почетным званием образованного человека. Однако высокопоставленные лица, как правило, писали не сами, а диктовали писцу, отсюда формула обращения в письме: «Такому-то скажи – вот что сказал такой-то» – автор письма как бы обращается не к самому адресату, а к его писцу или гонцу, несущему письмо. Едва ли не большинство писцов знали клинопись только в пределах своих профессиональных нужд, например умели написать хозяйственную ведомость или юридический документ по установленной обычаем форме, но не умели прочесть религиозно-литературное произведение, и наоборот; часто писцы путались при передаче редких имен собственных, не включенных в справочники, хотя то, что в них было, вызубривали хорошо, и орфографические ошибки или произвольные написания слов редки.
Но к оканчивающим полный курс э-дубы – к так называемым шумерским писцам(Писец, впавший всего лишь сотню-другую знаков (преимущественно слоговых), обозначался как «хурритский писец». К этнической или языковой принадлежности писцов эти обозначения касательства не имели.) – предъявлялись высокие требования. Они должны были уметь устно и письменно переводить с шумерского на аккадский и наоборот, знать шумерские грамматические термины, спряжение глагола, шумерское произношение, шумерские эквиваленты каждого аккадского слова, различные виды каллиграфии и тайнописи, технический язык жрецов и членов других профессиональных групп, все категории культовых песен, должны были уметь руководить хором и пользоваться музыкальными инструментами, составить, завернуть в глиняный конверт и опечатать документ, знать математику, включая землемерную практику, уметь подсчитать и распределить рационы, вычислить объем землекопных и строительных работ и т.д.
Источником развития науки была главным образом хозяйственная практика больших, т.е. царских и храмовых, хозяйств; на ее основе к концу III тысячелетия до н.э. создалась клинописная математика. Её практические основы были заложены в шумерский период, но расцвета она достигла в послешумерской э-дубе, где математика преподавалась в основном на аккадском языке. Развиваясь теперь прежде всего в школе (готовившей как учителей, так и писцов-практиков) и для школьных нужд, математика получила в э-дубе самостоятельное развитие; среди многочисленных математических справочников и задач встречаются и такие, которые не могли иметь практического применения; решение некоторых задач являлось в некотором смысле самоцелью, представляя как бы теоретический интерес. Вавилонские математики широко пользовались изобретенной еще шумерами шестидесятеричной позиционной системой счета. Вавилоняне умели решать квадратные уравнения, знали «теорему Пифагора» (более чем за тысячу лет до Пифагора). Число л практически принималось равным 3, хотя было известно и его более точное значение. Помимо планиметрических задач, основанных главным образом на свойствах подобных треугольников, решали и стереометрические задачи, связанные с определением объема различного рода пространственных тел, в том числе и усеченной пирамиды. Широко практиковалось черчение планов полей, местностей, отдельных зданий, но обычно не в масштабе.
Из практических нужд выросли также записи медицинских и химических рецептов (сплавы, с XIII в. до н.э.– стеклянная глазурь и т.п.), равно как и исторические хроники, бывшие во II тысячелетии до н.э. еще либо сводами событий, которые считались «предзнаменованными» какими-либо природными явлениями (главным образом формой печени жертвенного ягненка), либо списками датировочных формул(Поскольку эры, т.е. точки отсчета во времени, не существовало, постольку датировка велась по знаменательным событиям каждого года; упоминание такого события официально формулировалось для всего государства строго определенным образом. Списки формул образовывали первичную хронику. Подлинную летопись вавилоняне начали вести с 745 г.до н.э.).
Хотя несомненно, что вавилонские филологи, математики, врачи, юристы, архитекторы и т.п. имели определенные теоретические взгляды, но письменно они не фиксировались; до нас дошли только списки, словари, справочники, задачи, рецепты. Все это переписывалось в школах из века в век без всяких изменений и в отрыве от изменяющихся условий жизни, и содержание зазубривалось наизусть. Механическое заучивание задач и их решений (в том числе иногда и ошибочных) господствовало, очевидно, и в обучении математике. Система зазубривания наизусть ограничивала дальнейшие возможности развития вавилонской науки; уже одни шумерские составные идеограммы с их чтением и переводами в современном издании на бумаге занимают несколько больших томов. Зазубренные же знания по своему объему не могли превзойти способности человеческой памяти к удерживанию сведений, логически не связанных между собой.
Попыткой обобщения географических знаний является нововавилонская «карта мира», где земля изображена в виде плоскости, пересеченной реками Евфрат и Тигр, сбегающими с северных гор, и со всех сторон окруженной Мировым океаном, на поверхности которого она, видимо, мыслилась плавающей; по ту сторону океана – острова, посещавшиеся лишь в древности мифическими героями. Предполагалось, что океан был окружен «Плотиной небес», а на ней покоилось несколько (три или семь) небесных сводов; под землей находилась преисподняя. Но географический кругозор вавилонских купцов-практиков был гораздо шире сохранившейся карты: уже в III—II тысячелетиях им была известна Индия, хотя позже путь в нее был временно утерян; к I тысячелетию до н.э. месопотамцы знали Эфиопию (Куш) и Испанию (Тартесс), а также, судя по некоторым косвенным данным, Грецию, Среднюю Азию и снова Индию.
Еще одной побудительной причиной для развития некоторых отраслей познания были – как ни странным это кажется теперь – культово-магические представления и практика. В нуждах культа разрабатывалась, например, музыкальная гармония (учение о ладах, длине струн). Среди множества ритуально-магических текстов, вошедших в вавилонский письменный канон, были и заклинания, составленные для жрецов-знахарей и гадателей. Но и занятия лженауками могли в конечном счете приносить известную пользу. Гадатели записывали, а позже переписывали в огромные своды «предзнаменования», т.е. наблюдения за природными явлениями, за поведением людей и животных, над формой овечьей печени при жертвоприношениях, над замеченными необычными особенностями анатомии людей и животных (рождение уродов) и т.п.; такие наблюдения увязывались по принципу «после этого, значит, возможно, поэтому» с определенными событиями в жизни людей и государства. Ни одно сколько-нибудь значительное действие, предпринимаемое царем (да, вероятно, и частными лицами), не начиналось без предварительного гадания (С верой в подобные «предзнаменования» связан обычай сажать на престол «подменного царя» из сумасшедших или преступников на то время, когда истинному царю предвещается беда, а также, по-видимому, во время одного из коронационных обрядов, когда верховный жрец бил даря по лицу (таков был обычай по крайней мере в поздней Вавилонии)). Из записей таких «предзнаменований» вавилонянами были извлечены первые исторические обзоры важнейших событий прошлого, память о которых пытались также поддерживать с помощью обычая царей оставлять описания своих деяний (они записывались на камне либо, чаще, на глиняных конусах или цилиндрах, помещавшихся под фундаментами дворцов и храмов, с тем чтобы они были в будущем найдены при сносе здания), а из записей астрономических и метеорологических наблюдений, сначала чисто эмпирических, впоследствии, уже в I тысячелетии до н.э., развились не только астральные культы и астрология, но и вычислительная астрономия: теория видимых лунных и планетных движений, предвычисление лунных затмений. Однако уже раньше, еще до середины II тысячелетия до н.э., были выделены созвездия, наблюдались движения планет и т.д. Сравнительно высокое развитие именно астрономии было, возможно, связано с особенностями употреблявшегося лунного календаря. Первоначально каждое государство-город имело свой календарь, но после возвышения
Вавилона на всю страну был распространен принятый в Вавилоне календарь Ниппура. Год состоял из 12 лунных месяцев, имевших 29 или 30 дней (поскольку период смены фаз луны равен приблизительно 29,5 суток). Из-за того что солнечный год длиннее лунного приблизительно на 11 дней, для устранения этого несоответствия вводился (со старовавилонского периода – по всей стране одновременно) дополнительный месяц, однако твердые правила относительно его вставки были установлены лишь в середине I тысячелетия до н.э.; во II тысячелетии до н.э. високосные месяцы вставлялись по усмотрению царской администрации, и нередко, вероятно, с целью увеличить поступающие поборы. Однако в любом случае необходимо было сообразовываться с реальными временами года, а действительная величина расхождения года лунного с солнечным могла быть установлена лишь путем астрономических наблюдений.
Вместе с клинописью вавилонские науки – и лженауки – были занесены во все страны Передней Азии; но с течением времени, особенно после вымирания клинописной грамоты, многие научные открытия вавилонян (например, в области математики, химии) были утеряны и впоследствии открывались заново; однако греческая и италийская (в первую очередь этрусская) культура кое-что заимствовала и у вавилонян, как из наук, так и из лженаук (например, «науку» о гадании по печени), хотя, по-видимому, не непосредственно, а через Финикию и Малую Азию. Но с поздневавилонской астрономией (IV—II вв. до н.э.) греческие ученые знакомились и непосредственно, и она оказала на них заметное влияние; исторические знания ванилонян были переданы грекам вавилонянином Беросом (ок. 290 г. до н.э.), составившим также по-гречески историю своей страны. Шуморо-вавилонская система мер и весов легла в основу многих метрологических систем древней Передней Азии и оказала косвенное влияние на греческую метрологию, а шестидесятиричная система счета через вавилонских и греческих астрономов дошла и до нашего времени: именно этой системой мы пользуемся и сейчас, когда оперируем градусами, минутами и секундами.
Раздел составлен Дьяконовым И.М.
Вавилонская литература.
Основные памятники вавилонской литературы (и искусства) относятся уже ко второй половине II и к I тысячелетию до н.э. Однако проблемы датировки литературных памятников очень далеки от разрешения, и сейчас еще трудно делить аккадоязычную литературу на старовавилонскую, средне– и нововавилонскую. Поэтому мы здесь будем рассматривать ее в целом(Значительная часть известных нам памятников вавилонской литературы происходит из ассирийских хранилищ табличек: царя Ашшурбанапала (VII в. до н.э.), храма бога
Ашшура (ХИ—IX вв. до н.э.) и др. Памятников собственно ассирийской литературы известно оченьь мало.).
Та же э-дуба, которая положила начало шумеро-вавилонской пауке, создала и шумеро-вавилонскую (но в первую очередь именно шумерскую) литературу: большинство произведений аккадской литературы были сложены семьями наследственных писцов в основном уже во второй половине II тысячелетия до н.э. и по большей части относятся к «второму ниппурскому потоку традиции».
Аккадские литературные памятники – это уже литература в собственном смысле слова, новая, самостоятельная отрасль художественного творчества. Конечно, и аккадскую литературу продолжают лимитировать размеры глиняной плитки, но в лучших её произведениях конспективность сменяется лаконичностью, некоторая рыхлость построения шумерских произведений, державшихся главным образом на однообразных повторах, – стройной композицией.
Появление литературы как бы разрезает развитие фольклорного искусства в момент введения письменности (это может произойти на самых разных его этапах), дальше она растет от того уровня фольклора, который впервые застала, не останавливая, однако, дальнейшего развития самого устного творчества, поскольку литература и фольклор располагают каждый собственными художественными приемами и способами воздействия на слушателя. Обычно считается, что и адресат этих двух видов искусства различен. Устный фольклор всенароден и в разных вариантах обслуживает все социальные слои общества; письменная литература обычно рассчитана только на грамотного читателя. Однако такое противопоставление применимо к аккадской и вообще к древневосточной литературе не вполне: грамотный читатель здесь не только адресат, но и посредник между автором и слушателем произведения. Дело в том, что клинописную табличку нельзя было просто читать для получения личного эстетического удовлетворения. Не говоря уже о том, что в течение тысячелетий не умели читать «про себя», читали всегда только вслух, сама клинописная грамота настолько сложна, что чтение «с листа» почти невозможно, за исключением тех случаев, когда знакомый формуляр текста и заранее известное приблизительное содержание его сами сразу подсказывают правильный выбор чтений для клинообразных знаков. Как правило, и для древнего грамотея прочтение клинописного текста содержало некоторый элемент дешифровки и интуитивного угадывания; то и дело приходилось останавливаться и задумываться над чтением. В этих условиях письменный текст оставался до известной степени мнемоническим пособием для последующей передачи его содержания наизусть и вслух. Чтец-грамотей служил передаточной инстанцией между автором произведения и аудиторией, и поэтому аккадское литературное произведение было адресовано не одним только грамотным писцам, но и сколь угодно широкой аудитории, а каноническая запись текста не исключала известной и даже значительной доли импровизации при исполнении произведения. Конечно, импровизация допускалась не всюду: в культовых памятниках, где особенно важна магическая роль слова, текст нельзя было менять, и импровизация оказывалась невозможной, кроме случаев, когда разыгрывалось культовое действие, где жесты и движения важнее слон. Иное дело тексты некультовые – здесь творческая роль сказителя может быть большей, поэтому, например, аккадский эпос о Гильгамеше записан в нескольких изводах (Кроме того, аккадскому эпосу о Гильгамеше предшествовали отдельные былины об этом герое на шумерском языке.).
Для памятников литературы древнего Востока характерна еще одна важная особенность: сюжет дан заранее, он не сочиняется поэтом, а лишь разрабатывается. Содержание большей частью известно слушателям, и им важно, не что, а как исполняет сказитель, не узнавание события, а вызываемые им общественные эмоции. Как правило, сюжет идет от мифа и культа. Герои произведения обычно обобщены и являют собой определенные мифологические типы; особого интереса к личности, как таковой, нет, внутренние переживания героев не раскрыты. Нет особого интереса и к личности автора; в ряде случаев традиция сохранила имена авторов, но эти имена легендарны: среди них мы встретим богов, животных, мифических героев и лишь иногда имена, звучащие достоверно.