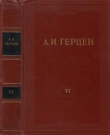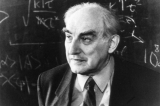
Текст книги "Советский опыт, автобиографическое письмо и историческое сознание: Гинзбург, Герцен, Гегель"
Автор книги: Ирина Паперно
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
3
Но вернемся в советскую эпоху. В своих личных «записях», внимательно прочитанных интеллигентским сообществом, Лидия Гинзбург анализирует опыт своего поколения и своей среды в терминах тех философских парадигм, которые она описала в трудах о Герцене. В эссе «И заодно с правопорядком» (1980) она излагает гегелевскую концепцию частного историзма: «Гегель различал исторические и неисторические периоды в жизни народов. В жизни отдельного человека тоже есть исторические и неисторические периоды. Они могут не осознаваться человеком, а могут осознаваться в категориях историзма. <…> Соотнесенность частного существования с историей всегда налицо, но она различна». Далее следует описание последовательных стадий исторического существования советского интеллигента: «Мое поколение и мой круг прошли через разные стадии – всегда под сильнейшим давлением времени. Отрочество и первая юность – пассивное подключение к огромным событиям мировой войны и революции. Двадцатые годы – для меня это Институт истории искусств, приобщение к культурно–историческому течению, будто бы противостоящему эпохе, на самом деле порожденному эпохой». Здесь же Гинзбург упоминает имя Герцена (и использует местоимение «мы»): «Мы все же знали вкус одействотворения (как говорил Герцен), хотя и ущемленного». (Речь идет о попытках действия, хотя и при пассивной включенности в исторические события, в 1910‑е и 1920‑е годы; а позаимствованное у Герцена слово «одействорять» – термин в лево–гегельянском стиле.) «Вместо того в тридцатых, сороковых – принадлежность к эпохе сталинизма и войны, со всем, что отсюда следовало». «С половины пятидесятых кое–кто из нас стал действующим лицом оттепели». Финал у этого исторического обзора неожидан: «Кажется, наступил мой последний период – неисторический». Гинзбург пишет эти строки в 1980 году и не предвидит, каков будет конец пути. (Напомню, что Лидия Гинзбург умерла в 1990 году, увидев свои эссе и «записи» в печати; в годы перестройки она сыграла заметную роль в общественной жизни.) Заключая свое эссе, она пытается представить свою «биографию» – жизнь личности в истории: «Из чередования страдательного переживания непомерных исторических давлений и полуиллюзорной активности – получается ли биография? Уж очень не по своей воле биография» [36].
В эссе «Поколение на повороте» (1979) Гинзбург обращается к опыту сталинизма и пытается объяснить «нынешним» то, что «нельзя объяснить», – эмоцию. Объясняя «молодым» – не пережившим «душевный опыт» революции – «социально–психологические механизмы» того явления, которое Гинзбург называет «совместимостью» (совместимостью с властью?), она говорит о «состоянии завороженности» в людях 1930‑х годов. При этом она пользуется категориями исторического сознания наполеоновской эпохи, окрашенного (как и слова «не по своей воле биография») пассивной катастрофичностью русского извода. На многих читателей произвели огромное впечатление следующие слова:
«Молодой Гегель, увидев Наполеона, говорил, что видел, как в город въехал на белом коне абсолютный дух. Я помню разговоры Бор. Мих. Энгельгардта. Совсем в том же, гегелевском, роде он говорил о всемирно–историческом гении, который в 30‑х годах пересек нашу жизнь (он признавал, что это ее не облегчило). Когда Сталин позвонил Пастернаку по поводу арестованного Мандельштама, Пастернаку трудно было сосредоточиться на этой теме. Ему хотелось что–то сказать и что–то услышать о смысле жизни и смерти. Пастернака упрекали, но надо помнить: телефонный провод соединял его в тот миг со всемирно–исторической энергией» [37].
Поясню биографический контекст: Борис Энгельгардт был выслан в 1930 году на Беломорканал; его жена (урожденная Гаршина) выбросилась из окна. Освобожденный в 1932 году, без права проживания в Ленинграде, Энгельгардт жил нелегально; там он и погиб, в блокаду. Для Энгельгардта, как и для Гинзбург, историзм был делом и личного опыта, и профессиональных занятий – он является автором работы «Об историзме Пушкина».
Историософский контекст слов о «завороженности» – это описанное Гинзбург «чувство конца старого мира». Она поясняет, что говорит «не о поддающихся логике соображениях (это само собой), но о глубинном переживании конца и необратимого наступления нового, ни на что прежнее не похожего мира…» [38]. Она рассуждает здесь в терминах гегельянско–марксистской эсхатологии.
Как и Герцен в «Былом и думах», Гинзбург пишет о переживаниях своего поколения с горькой иронией; как и Герцен, она пользуется гегельянской парадигмой, чтобы уяснить опыт прошлого. О себе самой Гинзбург мимоходом замечает: «…отношу себя к незавороженным» (объясняя это темпераментом – «отсутствием жизненного напора») [39]. Однако со свойственной ей беспощадностью к себе Гинзбург показывает себя читателю в «социальной жизни» своего поколения и своего круга – в гегельянских разговорах с Энгельгардтом, в интимном общении с «завороженными» (каковым она рисует Гуковского).
4
Образ абсолютного духа, или всемирно–исторического гения, который «пересек нашу жизнь», имеет свою генеалогию: в течение двух веков он широко используется как эмблема исторического сознания, восходящего к Гегелю. Попробуем реконструировать его многослойный смысл.
Гегель описал свою встречу с Наполеоном в оккупированной Йене в 1806 году в частном письме; этот эпизод стал известен в 1840‑е годы, когда гегельянец Карл Розенкранц поместил его в книге «Жизнь Гегеля» («Hegel’s Leben», 1844), которую читали по всей Европе. Процитирую это письмо в русском переложении, а именно так, как его переписал (из Розенкранца) в своем дневнике в 1844 году молодой Герцен. (В это же время Герцен слушал с восторгом гегельянские лекции Грановского.) Из дневника Герцена: «…когда французы взошли в Йену, он [Гегель] положил в карман рукопись и пошел искать пристанища <…> Тут он видел Наполеона – diese Weltseele, как он говорит. «Странное чувство, – продолжает он, – видеть такое лицо: вот эта точка, сидящая на лошади, тут… царит миром»”. Герцен затем дополняет письмо Гегеля от себя: «И прибавить следует: в толпе едва заметная фигура, бедный профессор несет в кармане исписанные листы, которые не меньше будут царить, как приказы Наполеона. Жизнь!»[40] «Исписанные листы в кармане» – это рукопись только что законченной «Феноменологии духа».
Молодого Герцена занимает не столько величие Наполеона, сколько будущее величие и власть бедного профессора и его писаний. Для Герцена «встреча в Йене» – так я хочу назвать этот символический эпизод – это встреча двух воплощений абсолютного духа – Абсолютный Дух на коне и Абсолютный Дух в кармане, на исписанных листах. Этот фрагмент посвящен излюбленной русской интеллигенцией теме «Властитель и Писатель». (Заметим, что в 1844 году Герцен почти не обращает внимания на опасности, грозившие бедному профессору в разграбленной французами Йене, по которой он бродил в поисках пристанища.) При этом, переписывая и дописывая письмо Гегеля в своем дневнике, Герцен как бы обращает опыт Гегеля в свой собственный. (Вспомним, что на первых страницах «Былого и дум» он изобразит встречу отца, едва ли не свою собственную встречу, с вошедшим в Москву Наполеоном.) Кажется, что он думает не только о Гегеле, но и о своем будущем.
Следует заметить, что то, что я называю «йенской встречей», произвело сокрушающее впечатление не только на русских читателей. Карл Левит пишет в 1941 году в книге «От Гегеля до Ницше», что «активный историзм», владевший людьми постреволюционной и наполеоновской эпох вплоть до 1840‑х годов (до периода реакции), возродился в своем первоначальном, метафизическом значении для людей «фашистских революций» в Италии и Германии после Первой мировой войны. Левит рассматривает ницшеанский антиисторизм этих лет как реакцию на возрождение гегельянского историзма, хотя и негативную [41].
Русские читатели Гегеля (и Герцен после драм 1848–1852 годов, и те, что жили в советскую эпоху) понимали встречу интеллектуала с историей, воплощенной в фигуре властителя, по–своему. Думаю, что расхожий образ «человека, случайнопопавшегося на дороге истории» – это вариант «встречи в Йене». В словах Герцена, подхваченных Гинзбург и другими интеллигентами советской эпохи, «встреча в Йене» переработана в картину «дорожной» катастрофы. (В своих записных книжках Гинзбург не раз употребляет слово «катастрофический опыт».) Сам Герцен за годы, описанные в «Былом и думах», и за время, в которое писались и переписывались его мемуары, не раз менял свое мнение о том, является ли человек активным двигателем или жертвой истории. В 1866 году, когда были написаны слова о человеке, попавшемся на дороге истории, после целого ряда исторических и личных поражений (революции 1848 года в Европе и «великих реформ» в России; драмы с Натали Герцен и с Натали Тучковой – Огаревой), Герцен был настроен пессимистически. Как же виделась встреча человека с историей спустя сто лет, советскому мемуаристу, возводившему свою «духовную генеалогию» к мемуарам Герцена?
5
В своих мемуарах люди постсталинской эпохи пользовались образом столкновения человека с историей как эмблемой той концепции истории и власти, с помощью которой они пытались объяснить необъяснимый опыт сталинских лет. Достаточно вспомнить ключевые (помещенные на первых же страницах) слова мемуаров Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь»: «Время обзавелось теперь быстроходной машиной. <…> Многие из моих сверстников оказались под колесами времени. Я выжил…» [42] Первая фраза – автоцитата из очерка 1925 года; вторая сказана голосом Эренбурга 1960‑х годов. Есть основания считать этот образ прямым эхом Герцена. На тех же страницах Эренбург пишет: «Политическая буря, разразившаяся в Париже 15 мая 1848 года, описана Гюго, Герценом и Тургеневым; когда я читаю их записи…» Таким образом, читая записи Герцена (и других), он пишет о себе и своем поколении. (Вспомним о парадигматической роли мемуаров Эренбурга, впервые опубликованных в 1960‑е годы, в мемуаристике и историческом сознании постсталинской эпохи.)
В советском контексте гегельянское представление об истории было, конечно, усилено и окрашено марксизмом. Однако мемуаристы склонны были возводить его непосредственно к Гегелю. Как показал недавно Галин Тиханов, в 1930‑е годы для советских интеллектуалов (и их попутчиков на Западе) гегельянство «позволяло ужиться с марксизмом, сохраняя чувство независимости от официальной марксистско–ленинской идеологии». В книге о Лукаче и Бахтине Тиханов документировал возрождение гегельянства в Советском Союзе в 1930‑е годы [43].
Возвратимся в Россию 1989 года, – в страну, находившуюся на пике второй (после «оттепели») волны десталинизации. К 1989 году идеи и образы, сформулированные Гинзбург, вошли в обиход исторического сознания текущего момента. (К этому времени эссе Лидии Гинзбург о «поколении на повороте», впервые опубликованное в 1986 году во «Вторых Тыняновских чтениях», появилось еще в нескольких изданиях, в широкой печати.) Так, историк искусства Леонид Баткин развернул образ встречи советского интеллигента с духом мировой истории в эмоциональном эссе «Сон разума. О социально–культурных масштабах личности Сталина», появившемся в один год в журнале «Знание – сила» и в сборнике под названием «Осмыслить культ Сталина», выделявшемся в тогдашней мучительно–личной сталиниане. Баткин пишет о «завороженности» именно фигурой Сталина:
«Когда Сталин позвонил Пастернаку, тот вдруг сказал, что надо бы встретиться и поговорить «о жизни и смерти». Сталин в ответ немного помолчал – и повесил трубку.
У кого достанет сил охватить это воображением? Вот дребезжит обычный звонок. Аппарат висит на стене в передней. Или стоит на столике. Вы подходите, подносите к уху мембрану. Все происходит просто в квартире. Допустим, после ужина… И с вами ГОВОРИТ СТАЛИН.
Земное течение человеческой жизни приостанавливается, слегка раздвигается вселенская завеса, в этот мир нежданно вступает потусторонняя сила, божественная либо сатанинская. Затем, само собой, возобновляется реальность низшего порядка. <…> <Пастернак> по обыкновению путал домашность и метафизическую напряженность, реального собеседника – и собеседника внутреннего. Но желание, высказанное им Сталину, отмечено неслыханно–наивной дерзостью и экстравагантностью только с внешне–практической стороны. Вместе с тем в столь индивидуальной и импульсивной выходке не так уж трудно ощутить нечто социальное и общезначимое.
Поэт подумал вслух за великое множество других людей, которые повели бы себя иначе, да и ничего подобного им в голову не пришло бы, а все–таки каждый из них на свой лад тоже был заворожен безмерностью фигуры Сталина, отождествляемой (чаще бессознательно?) уже не просто с абсолютной деспотической властью, но и – в такой немыслимо огромной стране, после такой огромной революции! – словно бы с самой субстанцией истории. Иначе говоря, с чем–то несравненно большим, чем какая бы то ни было власть и сила, а именно: с их первоисточником. И следовательно – с великой тайной» [44].
Как и Лидия Гинзбург (на которую он ссылается), Баткин поместил размышления в духе «встречи в Йене» в контекст исторической эсхатологии гегельянско–марксистского толка: «Гипноз слагался из разных элементов; но в его подоснове было вот это ощущение тысячелетия: конца всей прежней истории и начала неисчерпаемой вечности…» [45] Можно предполагать, что, как и Пастернак в свое время, Баткин говорил за множество своих современников и соотечественников.
В Советской России «завороженность» властью как всепоглощающая эмоция была завороженностью историзмом, укрепленным в своей проникающей силе с помощью литературы, которая в автобиографических жанрах довела такой историзм до отдельного человека. Такое историческое сознание оказалось эмоциональным эквивалентом религии. В самом деле, современники описывали момент бытия в истории, переживаемый в контакте с властью, как опыт непосредственного переживания трансцендентного, доступный и человеку внерелигиозного сознания.
Не один Баткин в поисках объяснения опыта 1930‑х годов воспользовался «записями» Лидии Гинзбург и ее образами [46]. Так, Р. М. Фрумкина в замечательных мемуарах 1997 года «О нас – наискосок» прибегает (по крайней мере четыре раза) к словам Гинзбург, чтобы описать опыт своего круга (она, как и другие, использует категорию «мы»): «…лучше всех об этом написала Л. Я. Гинзбург» [47]. Фрумкина впервые упоминает имя Гинзбург, рассказывая о том, как школьницей в 1940‑е годы научилась осмыслять жизнь сквозь произведения русской классики, которые внимательно читала вместе с комментариями; она называет два имени: Белинский и Герцен («Былое и думы») [48]. На следующей странице Фрумкина рассказывает, что в классе проходила педагогическую практику студентка–историк Светлана Сталина, которая убеждала и ее поступать на исторический факультет.
(Оговорюсь, что я не хочу свести все дело к влиянию Лидии Гинзбург, но стремлюсь показать, как работает механизм многослойного культурного посредничества.)
6
Сделаю несколько методологических замечаний.
Мой центральный тезис таков: в ХХ веке, как и в XIX, парадигмы истории идей – такие, как гегельянский историзм, – опосредованные в исторических исследованиях и кодифицированные в автобиографическом письме – являются инструментами интерпретации личного опыта отдельного человека и средством конструирования группового интеллигентского сознания.
От самого своего зарождения в постнаполеоновскую эпоху до мобилизации в сталинскую и постсталинскую гегельянский историзм прошел через различные инстанции культурного посредничества и подвергся видоизменениям.
Я рассматриваю метафоры и эмблемы как носителей такого исторического самосознания. (Разумеется, не одни метафоры и эмблемы выполняют эту функцию.) Так, в поисках объяснения своего опыта люди постсталинских времен в дневниках и мемуарах пользовались эвристическим и эмоциональным потенциалом эмблематической ситуации, которую я называю «встреча в Йене». Будь это встреча Гегеля, на улице, с Наполеоном на белом коне или Пастернака, в коридоре коммунальной квартиры, со Сталиным на другом конце телефонного провода, речь идет о конфронтации человека и власти–истории. Такие ситуации – сигнал жанра и авторской позиции (как в мемуарах Эренбурга) или развернутая философская концепция, которая сопровождается высокой степенью рефлексии и отсылками к источникам (как у Гинзбург в эссе «Поколение на повороте») – это (пользуясь формулой Гинзбург) своего рода «ходячие знаки», которые «выделяют из себя социальные и эмоциональные смыслы».
7
Вернемся к мемуарам о советском опыте. Разнообразные варианты «йенской встречи» можно найти во многих автобиографических текстах. Описания моментальной, эмоционально интенсивной встречи со Сталиным стали общим местом в интимных документах сталинской эпохи. Такова запись (от 22 апреля 1936 года) из дневника Корнея Чуковского, опубликованного в 1994 году. Это изображение русского интеллигента на rendez–vous с советской властью – еще не омраченное ожиданием катастрофы – поразило тогда многих:
«22/IV [1936] Вчера на съезде [ВЛКСМ] сидел в 6‑м или 7 ряду. Оглянулся: Борис Пастернак. Я пошел к нему, взял его в передние ряды (рядом со мной было свободное место). Вдруг появляются Каганович, Ворошилов, Андреев, Жданов и Сталин. Что сделалось с залом – a ОН стоял, немного утомленный, задумчивый и величавый. Чувствовалась огромная привычка к власти, сила и в то же время что–то женственное, мягкое. Я оглянулся: у всех были влюбленные, нежные, одухотворенные и смеющиеся лица. Видеть его – просто видеть – для всех нас было счастьем. К нему все время обращалась с какими–то разговорами Демченко. И мы все ревновали, завидовали, – счастливая! Каждый его жест воспринимали с благоговением. Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства. Когда ему аплодировали, он вынул часы (серебряные) и показал аудитории с прелестной улыбкой – все мы так и зашептали: «Часы, часы, он показал часы» – и потом расходясь, уже возле вешалок вновь вспоминали об этих часах.
Пастернак шептал мне все время о нем восторженные слова, а я ему, и оба мы в один голос сказали: «Ах, эта Демченко, заслоняет его!» (на минуту).
Домой мы шли вместе с Пастернаком и оба упивались нашей радостью…» [49]
Едва ли можно найти лучшую иллюстрацию, непосредственно из 1930‑х годов, к тезису Лидии Гинзбург о «завороженности». Заметьте, что речь здесь идет об опыте rendez–vous с властью, разделенном с другим – в данном случае с Пастернаком.
Мне кажется знаменательным, что другая такая встреча со Сталиным, описанная в дневнике писателя, оказалась связана с «Былым и думами». Из дневника Всеволода Иванова:
[13 января 1943] «В книге «Былое и думы» (должно быть, вложил, когда читал) нашел программу художественной части траурного вечера, посвященного 11‑й годовщине смерти В. И. Ленина (1935 год), программа как программа. Но на полях ее мои записи. Сколько помнится, я сидел в крайней ложе, впереди (как всегда, пришел рано) и на перилах ложи записывал. Мне, видимо, хотелось сделать словесный портрет Сталина, внешний вид его на заседании. Переписываю с программки (все равно утонет где–нибудь): «Сталин, перед тем как встать или идти, раскачивается из стороны в сторону. Меняет часто, тоже сначала раскачиваясь, позу. Сидит, широко расставив ноги и положив руку на колено, отчего рука его кажется очень длинной. Если надо поглядеть вверх, то шею отгибает с трудом. Рука, словно не вмещается за борт тужурки, и он всовывает туда, несколько торопясь, только пальцы. Сидеть и слушать спокойно не может, и это знают, поэтому с ним кто–нибудь постоянно говорит, подходит то один, то другой… На докладчика ни разу не взглянул. Садятся к нему не на соседний стул, а через стул, словно рядом с ним сидит кто–то невидимый»”[50].
Вернемся к дневнику Корнея Чуковского. Знаменательна реакция, которую вызвала эта запись, когда в 1990‑е годы этот интимный момент в жизни Чуковского и Пастернака стал достоянием читателей. В 1995 году Эмма Герштейн процитировала запись из чужого дневника в своем мемуарном очерке об отношениях поэта с властью [51]. (Ее интересовал не столько Чуковский, сколько Пастернак.) Через несколько лет (в 1998 году), перепечатывая этот очерк в книге мемуаров, Герштейн включила отклик читателя:
«В дружеском письме ко мне Татьяна Максимовна <Литвинова> <…> продолжает: «Когда я в дневнике К<орнея> И<вановича> читала об их (т. е. Чуковского и Пастернака. – Э. Г.) искренней любви к «вурдалаку», я подумала – ведь это истерика. И еще, что подо всем этим все же был и страх – «страх Божий». Сужу по себе, по своему впечатлению, когда – единственный раз слышала и видела Сталина, выступавшего на съезде (1936?) по поводу конституции. Я его обожала! Власть – всевластность – желание броситься под колесницу Джаггернаута. Отец, Бог – полюби меня!»” [52]
Литвинова здесь переписывает опыт Чуковского и Пастернака, а также свой собственный, с позиции конца советской эпохи. В ее письме имеется и (имплицитное) объяснение загадки завороженности властью – в метафоре колесницы Джаггернаута.
Образ колесницы Джаггернаута, давящей человека своими колесами, упомянутый Гегелем в «Лекциях по философии истории», вошел в языковой обиход после того, как Маркс в «Капитале» превратил его в символ исторического процесса (для Маркса Джаггернаут истории – капитализм). Герцен использовал этот образ в «Письмах из Франции и Италии»; там Джаггернаут – это народные массы. Процитирую эти слова так, как они представлены в хрестоматии цитат из Герцена, составленной в 1923 году под редакцией Иванова – Разумника в целях использовать Герцена–революционера как «современника» и «нашего попутчика»: «Народы, массы, это – стихии, океаниды; их путь – путь природы <…> ринутые в движение, они неотразимо увлекают с собою или давят все, что попало на дороге, хотя бы оно было хорошо. Они идут как известный индийский кумир: все встречные бросаются под его колесницу, и первые раздавленные бывают усерднейшие поклонники идола» [53]. В конце советской эпохи образ Джаггернаута также используется, приспособленный к нуждам момента и контекста. Например, Бенедикт Сарнов в 2000 году назвал главу из мемуаров – о том, как студентом в 1930‑е годы он влюбился в вождя, – «Колесница Джаггернаута» [54]. В записной книжке Ахматовой имеется запись сна (в декабре 1965 года): она видела «взбесившегося Джерринаута», который гонится за ней «с чудовищным искаженным лицом <…> и нет от него спасенья» [55]. Я думаю, что это сон об истории.
Между тем не только те, чьи встречи со Сталиным были случайны или воображаемы, писали о нем в историософском ключе с использованием таких метафорических конструкций. В своих мемуарах Светлана Аллилуева писала о днях смерти Сталина (которые она якобы «провела в доме отца, глядя, как он умирает») как о «конце эпохи». Хотя автор и оговаривается, что «мое дело не эпоха, а человек», мемуары дочери Сталина заканчиваются обращением к истории в гегельянско–марксистском ключе. Светлана Аллилуева пишет о тех, «кто добивался <…> чтобы быстрее, быстрее, быстрее крутилось колесо Времени и Прогресса» (это о терроре), и надеется на «Суд истории» [56]. Образ колеса времени и прогресса стал знаменит благодаря «Коммунистическому манифесту» Маркса. (Суд истории – тоже гегелевская метафора; и к ней прибегают многие советские мемуаристы [57].) Как и другие мемуаристы советской эпохи, Светлана Аллилуева связана профессией с историей и литературой: историк по образованию, она написала диссертацию об историческом романе.