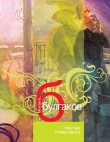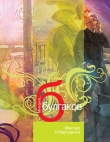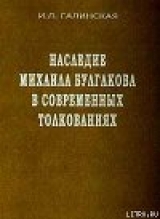
Текст книги "Наследие Михаила Булгакова в современных толкованиях"
Автор книги: Ирина Галинская
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Параллели судеб Гоголя и Булгакова отражаются в зеркалах творчества и истории. Ведь чтобы убедиться, горят ли рукописи, их надо бросить в огонь. Автор «Мастера и Маргариты» не раз называл себя учеником своего великого земляка Гоголя. Наряду с Салтыковым-Щедриным, Булгаков любил Гоголя больше всего из плеяды классиков русской литературы. Вот почему страницы книг Гоголя и Булгакова «дышат одним и тем же чувством любви к своей земле, к своим избранным героям, к своим неведомым читателям» (12, с. 48). Одним и тем же горьким смехом пронизаны и «Мертвые души», и «Мастер и Маргарита». В главном булгаковском романе мы встречаем тоже немало мертвых душ. Ученик и учитель «оставили сей мир в расцвете сил и таланта. Судьба отмерила им век куда как скупо. Но оба они успели в нем так много» (12, с. 48), – заключает М.В. Черкашина. Далее в главах, посвященных трем женам Булгакова – Татьяне, Любови и Елене, рассказываются истории знакомства писателя с ними и подробности их совместной жизни. Впрочем, как отмечала еще в начале 80-х гг. известный булгаковед Лидия Яновская, архив писателя (видимо, в связи с его тремя женитьбами) делится на три неравные части. «До 1929 года сохранилось мизерно мало. С 1929-го – значительно больше. С 1932 года, когда Елена Сергеевна стала женой писателя, сохранилось почти все: рукописи, черновики, варианты, деловые бумаги, письма…» (14, с. 286).
Б.В. Соколов, автор «Булгаковской Энциклопедии» (11) полагает, что нашел прототип образа полковника Най-Турса из романа Булгакова «Белая гвардия». Сам писатель говорил своему другу П.С. Попову, что образ полковника Най-Турса – «отдаленный, отвлеченный идеал русского офицерства, каким должен быть в моем представлении русский офицер» (цит. по: 10, с. 16). П.С. Попов впоследствии, анализируя творческий процесс Булгакова в статье «Творчество» и явно пользуясь консультациями самого писателя, заключал, что автопортретный образ Алексея Турбина в романе «Белая гвардия» Булгакова, слившись с фигурой Най-Турса, дал в позднейшем тексте «Дней Турбиных» новый комбинированный образ более сложный и структурный, что явствует из сличения текста романа с пьесой (цит. по: 10, с. 389).
Слова Булгакова о Най-Турсе и утверждения П.С. Попова легли в основу твердого убеждения исследователей-булгаковедов, будто у полковника Най-Турса из «Белой гвардии» не могло быть прототипов. Между тем, Б.В. Соколов, ознакомившись с «Биографическим справочником высших чинов Добровольческой армии и Вооруженных сил Юга России», составленным парижским историком Николаем Рутычем и вышедшим в 1997 г. в Москве, пришел к выводу, что биография генерал-майора Николая Всеволодовича Шинкаренко (литературный псевдоним – Николай Белогорский) (1890–1968) во многих деталях совпадает с биографией булгаковского полковника Най-Турса. Совпадают, по мнению Б.В. Соколова, обстоятельства гибели Най-Турса и ранения Шинкаренко: «Оба с пулемётом прикрывали отступление своих» (10, с.16).
Б.В. Соколов считает, что поскольку Булгаков находился на Северном Кавказе с осени 1919 г. и до весны 1920 г., то он мог узнать о существовании Николая Шинкаренко, хотя неизвестно, «был ли тогда Шинкаренко вместе со своей дивизией» (10, с. 16). Впрочем, в одном из своих романов, написанном уже после Второй мировой войны, Н. Белогорский-Шинкаренко рассказывает об антисоветском восстании в конце 20-х годов, происшедшем как раз в тех районах, где доктор Михаил Афанасьевич Булгаков находился осенью 1920 г. «Может быть, Шинкаренко все же побывал там в ту пору?» – спрашивает автор статьи и отвечает, что писатель мог, конечно, знать Шинкаренко лично, либо мог услышать о нем через знакомых офицеров Сводно-Горской дивизии Добровольческой армии.
Б.В. Соколов утверждает также, что описанный Булгаковым полковник Най-Турс и реальный генерал-майор Шинкаренко обладали портретным сходством. «Оба брюнеты (или темные шатены), среднего роста и с подстриженными усами» (10, с. 16). Фото Николая Шинкаренко было напечатано в 1939 г. в парижском эмигрантском журнале «Часовой».
В 1929 г. имена Булгакова и Белогорского-Шинкаренко появились на страницах журнала «Часовой». Бывший офицер Добровольческой армии Евгений Тарусский рецензировал роман Белогорского-Шинкаренко «Тринадцать щепок крушения» и роман Булгакова «Белая гвардия». Одна рецензия была написана в ноябре 1929 г., а другая – в декабре 1929 г., но параллель «Най-Турс – Шинкаренко» автору рецензий в голову не пришла. Эту параллель предлагает спустя 70 лет после публикации рецензий Евгения Тарусского московский булгаковед Б.В. Соколов. Он высказывает еще одну гипотезу, на сей раз касающуюся фамилии полковника Най-Турса. Б.В. Соколов полагает, что эту фамилию можно прочесть и как «Найт Урс», и напоминает, что «найт» (knight) по-английски означает «рыцарь», а «Урс» – по-латыни «медведь». Следовательно, заключает Б.В. Соколов, Най-Турс – это «рыцарь Медведь» (10, с. 16).
Живущий в США булгаковед С. Иоффе в статье о тайнописи в романе М.А. Булгакова «Собачье сердце» утверждает, что под «говорящей фамилией» Чугункин писатель «закамуфлировал сатиру на Сталина» (4, с. 260). Профессор Преображенский – это опять-таки «закамуфлированный» Ленин, а его ассистент доктор Борменталь, в сущности, не кто иной как Лев Давыдович Троцкий. Что касается Сталина, то он прообраз не только трактирного балалаечника Чугункина, некоторые органы которого, когда он умер, были использованы профессором Преображенским для пересадки псу Шарику, но и сам пёс Шарик.
Итак, полагает С. Иоффе, в конце «Собачьего сердца», написанного в январе-марте 1925 г., речь идет о последних месяцах активности Преображенского-Ленина вплоть до 10 марта 1923 г., «в которые Шарик-Сталин достаточно прочно закрепился в пречистенско-кремлевской квартире Преображенского-Ленина» (4, с. 263). Эта точка зрения на образ профессора Преображенского, прототипом которого, дескать, является Ленин, была высказана до С. Иоффе американской исследовательницей творчества Булгакова Эллендеей Проффер в ее статье в том томе 10-томного собрания сочинений Булгакова, изданного в США на русском языке, где как раз напечатано «Собачье сердце». «Аллегория, с которой Булгаков имеет дело, весьма щекотлива, – пишет Эллендеа Проффер. – В образе блестящего хирурга, предпринимающего рискованную операцию, легко узнать Ленина, представителя интеллигенции с присущим ему ученым видом» (цит. по: 4, с. 266).
Иван Арнольдович Борменталь, по мнению С. Иоффе, это именно Троцкий-Бронштейн, хотя имя и фамилия у булгаковского персонажа «не такие прямо говорящие, как у Сталина-Чугункина» (4, с. 268). Далее исследователь замечает, что к Троцкому Булгаков, видимо, относился неплохо, поскольку «Борменталь – фигура довольно симпатичная» (4, с. 268). Но эта симпатия продлилась недолго, ибо в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» Троцкий уже выведен «под именем глупого Лиходеева» (4, с. 68).
Тот факт, что в романе «Собачье сердце» Борменталь не смог уничтожить Шарика-Шарикова окончательно, что тот оказался жив и здоров и прочно устроился в квартире Преображенского, С. Иоффе поясняет следующим образом: «Объяснение простое. Попытки Ленина и Троцкого остановить рвущегося к власти Сталина увенчались временным успехом, но затем Ленин и Троцкий потерпели поражение, а Сталин обосновался в Кремле» (4, с. 271).
Другие персонажи «Собачьего сердца» также имеют прототипы в Московской политической жизни 20-х годов, считает С. Иоффе. Кухарка Дарья Петровна Иванова, по мнению автора статьи, – это не кто иной как Дзержинский, а машинистка Зинаида Бунина – это Зиновьев-Апфельбаум. Большая квартира на Пречистенке представляет собой кремлевскую резиденцию Ленина; чучело совы со стеклянными глазами изображает Крупскую; портрет профессора Мечникова, учителя Преображенского – это намек на портрет Карла Маркса, учителя Ленина.
С. Иоффе находит «кто есть кто» и в образах пациентов профессора Преображенского. В молодящейся старухе он видит Александру Коллонтай. Толстый и рослый человек в военной форме – это Серг. Серг. Каменев, полковник царской армии, который в 1919–1924 гг. был главнокомандующим вооруженными силами республики. Домоуправ Швондер, по мнению С. Иоффе, есть не кто иной как «закамуфлированный» Л.Б. Каменев-Розенфельд, советский партийный и государственный деятель. А в пьесе «Бег» фамилия главного героя «Голубков» является анаграммой фамилии «Булгаков», если учесть, что в первом слоге фамилии «Голубков» слышится звук «а». С.Иоффе убежден также, что события пьесы «Бег» в действительности отражают не положение в Крыму в 1921 г., а события в Москве, и прототипами основных персонажей пьесы являются Ленин, Троцкий, Сталин и Бухарин (15, с. 81).
Изложенные выше гипотезы нужны С. Иоффе, чтобы по-новому поставить вопрос о содержании всех произведений Михаила Афанасьевича Булгакова. Американский булгаковед заканчивает свою статью следующей сентенцией: «Литературоведы и историки должны понять, что перед нами не просто художественные произведения Булгакова, но целый мемуарный сатирический цикл, в который не вошли разве только фельетоны. Основная задача сейчас – дать каждому тайному произведению Булгакова первичную расшифровку» (4, с. 274).
Этот призыв С. Иоффе прозвучал на страницах американского журнала «The New review» в 1987 г., но откликнулись на него отечественные булгаковеды лишь более десяти лет спустя.
Вышедшие в последнем году ХХ в. биографически-литературоведческие книги Всеволода Сахарова «Михаил Булгаков: писатель и власть» (9) и Виктора Петелина «Жизнь Булгакова. Дописать раньше, чем умереть» (8) получили весьма нелестные оценки рецензентов.
О книге В. Петелина: «Итак, получилась совершенно советская биография писателя. По гениальному выражению политического деятеля, сформировавшегося именно в советское время, получилось как всегда. Получился даже не бронзовый, а чугунный бюст мастера, унылый как утюг» (1, с. 2).
О книге В. Сахарова: «Никаких кардинальных открытий на почве взаимоотношений писателя и власти по прочтении не обнаруживается: все в той или иной степени давно и хорошо известно» (6, с. 4).
Список литературы
1. Березин В. Возвращение булгаковщины: Чугунный бюст Мастера// Ex libris Н.Г. – М., 2000. – 23 ноября. – С. 2.
2. Булгаков М. Избранное. Мастер и Маргарита. Рассказы. – М., 1988. – 479 с.
3. Булгаков М. Ранняя проза. Рассказы, повести. – М., 1990. – 478 с.
4. Иоффе С. Тайнопись в «Собачьем сердце» Булгакова// Новый журн. – New rev. – Нью-Йорк, 1987. – Кн. 11–12. – С. 260–274.
5. Карасев Л.В. Масло на Патриарших, или Что нового можно вычитать из знаменитого романа Булгакова// Ex libris Н.Г. – М., 1999. – 5 июля. – С. 11.
6. Кузнецов И. Дело М.// Литерат. газ. – М.,2000. – 1–7 ноября. – Книжный развал. – С. 4.
7. Покровская Н., Максудов С. Десять лет спустя. «Собачье сердце» глазами студентов Гарварда в 1989 и в 1999// Ex libris Н.Г. – М., 2000. – 20 июля. – С. 3.
8. Петелин В. Жизнь Булгакова: Дописать раньше, чем умереть. – М., 2000. – 665 с.
9. Сахаров В. Михаил Булгаков: Писатель и власть. – М., 2000. – 446 с.
10. Соколов Б.В. Кто вы, полковник Най-Турс?// Ex libris Н.Г. – М., – 1999. – 19 авг. – С. 16.
11. Соколов Б.В. Булгаковская Энциклопедия. – М., 1996. – 592 с.
12. Черкашина М.В. Михаил Булгаков: в строках и между строк. – М., 1999. – 109 с.
13. Яблоков Е.А. Мотивы прозы Михаила Булгакова. – М., 1997. – 198 с.
14. Яновская Л. Творческий путь Михаила Булгакова. – М., 1983. -320 с.
15. Joffe S. Art as memoire // Слово-Word. – N.Y., 1988. – N. 8. – P. 80–83.
«Древние» главы романа «Мастер и Маргарита» в восприятии булгаковедов
Рассуждая о восприятии отечественными и зарубежными булгаковедами «древних» ершалаимских глав романа «Мастер и Маргарита» (гл. 2, 16, 25, 26), следует, видимо, ранее всего остановиться на книге Генриха Эльбаума, анализирующей именно «роман в романе». Тех исследователей «закатного» булгаковского романа, которые специально писали об иудейских главах до него, Г. Эльбаум делит на три группы. В. Завалишин и Л. Ржевский (в «Новом журнале» и А. Краснов (в «Гранях») прямо отождествляют Га-Ноцри с евангельским Иисусом Христом. С другой стороны – Е. Стенбок-Фермор (в «Slavic and East European Journal») и Э. Эриксон-мл. (в «Russian Review») обращают внимание на расхождения между фигурой Иешуа Га-Ноцри в булгаковском романе и каноническим образом Иисуса Христа. Впрочем, как замечает далее критик, сами эти исследователи не осознают глубинного смысла данных расхождений, хотя и обнаружили их (21, с. 2).
В третью группу Г. Эльбаум включает Р. Плетенева, Д.Дж. Б. Пайпера, В. Лакшина, К. Симонова, И. Бэлзу и Н. Утехина, которые хотя и рассматривают соотношение между новозаветными текстами Библии и их интерпретацией в «Мастере и Маргарите», но не приходят при этом к четким выводам (21, с. 3).
Сам же Генрих Эльбаум видит близость «древних» иудейских глав романа к толстовской этике. Влияние Льва Толстого на Михаила Булгакова сказывается, по его мнению, прежде всего в том, «как Булгаков тщательно старается подчеркнуть человеческую сущность Иешуа» (21, с. 43). Работы Льва Толстого «Исследования догматического богословия», «Ответ на декрет Синода», «В чем моя вера», «Царство Божие внутри нас», считает критик, самым непосредственным образом повлияли на концепцию иудейских, ершалаимских глав «Мастера и Маргариты». Причем мужество Иешуа пожертвовавшего жизнью ради проповедуемых им идеалов, полагает Г. Эльбаум, еще ярче оттеняется трусостью Понтия Пилата.
Называя литературные и исторические источники «древних» глав «Мастера и Маргариты» исследователь напоминает нам не только о тех трудах Иосифа Флавия, Тацита, Плиния Старшего, Э. Ренана, которые также перечисляют другие булгаковеды (3,4,5,23), но и вводит в оборот (как один из источников булгаковского романа) драматургию римского комедиографа Тита Макция Плавта (ок. 250–184 г. до н. э.), ибо именно у него встречается персонаж по прозвищу Крысобой. (У Булгакова, как известно, это прозвище получил кентурион Марк).
«Полное имя первосвященника – Иосиф Каифа (Каиафа), – пишет Г. Эльбаум, – несомненно взято у Иосифа Флавия, а транскрипция „Каифа“ вместо евангельского „Каиафа“, вероятнее всего, – французский вариант написания имени первосвященника, заимствованный у Ренана (Caiphe)» (21, с. 73).
Сравнивая «роман в романе» Булгакова с первоисточниками, исследователь утверждает, что при воссоздании картины древнего Иерусалима, писатель в основном опирался на «Иудейскую войну» Иосифа Флавия, а также частично использовал некоторые топографические детали, содержащиеся в Новом Завете и Талмуде.
Конкретизируя обстановку дворца Ирода Великого, пишет далее критик, Булгаков использует описание не только этого дворца, но и других сооружений Ирода, о которых говорит Иосиф Флавий. Однако местоположение «гипподрома», находившегося, по свидетельству Иосифа Флавия, с южной стороны храма, показано у Булгакова весьма необычно: к юго-востоку от дворца Ирода Великого, в Нижнем Городе (21, с. 101).
Особую роль, полагает Г. Эльбаум, играют в «Мастере и Маргарите» розы, появление которых в романе далеко не случайно. Ведь, согласно Талмуду, со времен первых пророков в Иерусалиме существовала плантация роз, розовый цветник. Как сообщает Мишна (то есть свод морально-этических предписаний, которыми правоверный иудей должен руководствоваться в жизни), «из розового экстракта делалось масло, употреблявшееся в косметических целях» (21, с. 111).
В конечном итоге Г. Эльбаум приходит к выводу, что булгаковский Иешуа Га-Ноцри – это молодой галилейский проповедник, вступивший в нравственный бой и с римской тиранией, и с иудейским жречеством. Булгаков, критически перерабатывая новозаветный материал, смело счищает с евангельского рассказа налет агиографии и апологетики, подчеркивая человеческую сущность своего героя. Таким образом, булгаковский Иешуа Га-Ноцри, по мысли Г. Эльбаума, не мессия (ни в иудейском, ни в традиционном смысле этого слова), а бунтарь, «мужественно и бескомпромиссно отстаивающий свои убеждения» (21, с. 123).
Другой булгаковед – А. Зеркалов считает, что одним из источников «древних» глав «Мастера и Маргариты», является вероисповедная книга иудаизма Талмуд, причем он убежден, что Булгаков не только воспользовался Талмудом, создавая биографию Иешуа, но и заимствовал из этого источника прозвище для своего героя – Га-Ноцри (8, с. 47).
Иешуа ведет себя совершенно иначе, чем с Иисус Христос, убежден А. Зеркалов. Из евангельской проповеди, показывает он, Булгаковым оставлено лишь нравственное положение, согласно которому «все люди добрые». Писатель, по мнению критика, кратко обобщает те призывы к добру, которые содержатся в Нагорной проповеди, создавая как бы логическое завершение этой проповеди. При этом А. Зеркалов называет булгаковского Иешуа «псевдо-Иисусом», поскольку он никого не осуждает и не предрекает страшного суда. Булгаковский Иешуа для А. Зеркалова – просто «нищий бродяга», «философ». Отец его отнюдь не Бог, и даже не плотник из рода Давидова, а никому не известный сириец; мать Иешуа – не дева Мария, а женщина сомнительного поведения. Поскольку же Иешуа не помнит своих родителей, то в исторической реальности это ставило его вне закона, заключает А. Зеркалов.
По мнению исследователя, Булгаков опротестовал и божественное происхождение своего «псевдо-Иисуса», и предначертанность его смерти, и сам принцип божественного предопределения. В сцене, в которой Иешуа излечивает Пилата от мучительной головной боли, писатель ведь не забыл показать, что проницательность Иешуа отнюдь не сверхъестественного происхождения. Словом, Булгаков отчетливо дает понять, что, будь Га-Ноцри действительно подобен Иисусу из Назарета, Пилат не пытался бы его помиловать, полагает А. Зеркалов.
В сцене утверждения смертного приговора Пилатом и его ходатайства о помиловании Иешуа перед первосвященником Каифой, а также в описании событий, предшествовавших суду, Булгаков, по мысли А. Зеркалова, намеренно допускает неполноту изложения, что позволяет читателю «мысленно подставить на место Га-Ноцри Иисуса из Назарета», а ведь подсудимый в начале суда сам признается, что он родом из города Гамалы на севере Палестины, а вовсе не из Назарета (8, с. 50).
В конечном итоге А. Зеркалов приходит к выводу, что «Мастер и Маргарита» вовсе не религиозное произведение, причем он не усматривает в романе даже налета мистики – то ли христианского, то ли языческого толка, то ли любой другой мистической подоплеки. Булгаков писал не о богах и демонах, но о своем времени, о делах московских, о проблемах морали. Возможно, последние казались ему вневременными, вечными. «И в этих целях он использовал образы, канонизированные не религией – литературой» (8, с.52).
Югославский русист Миливое Йованович в статье «Евангелие от Матфея как литературный источник „Мастера и Маргариты“» придерживается прямо противоположной точки зрения, о чем говорит само название его работы (11). Прежде всего М. Йованович считает, что имя «Левий Матвей» Булгаков заимствовал из статьи об этом евангелисте в энциклопедии Брокгауза-Ефрона. И далее указывает, что в булгаковедении сложились два взгляда касательно использования писателем евангельских текстов в «Мастере и Маргарите». Согласно первому из них, разделяющемуся почти всеми исследователями, источниками романа служили как канонические Евангелия, так и апокрифические сказания. Самыми категорическими толкователями этого взгляда являются Б. Бити и Ф. Пауэлл, утверждающие, будто явные намеки Булгакова на апокрифы внушают мысль о том, что четыре канонические Евангелия суть апокрифические, а апокрифы – подлинные (24). Иного взгляда, пишет М. Йованович, придерживается Б. Гаспаров в своей статье о мотивной структуре последнего булгаковского романа, поскольку считает, что весь этот роман в целом следует признать апокрифом, вызывающим ассоциацию с апокрифическим Евангелием Иуды, хотя канонический текст в «Мастере и Маргарите» все же скрыто присутствует (6).
Сам М. Йованович полагает, что Булгаков выбрал для своего романа нечто третье, – а именно прием «апокрифизации» канонического текста. Впрочем, эта точка зрения была высказана задолго до М. Йовановича в статье американки Патриции Блейк «Сделка с дьяволом», напечатанной после выхода в свет в 1967 г. двух переводов «Мастера и Маргариты» на английский язык – в США, исполненного Миррой Гинзбург, и в Великобритании, выполненного Майклом Гленни (1927–1990) (26, 27).
Статью П. Блейк мы находим в ряду первоначальных англоязычных откликов на булгаковский роман, причем в ней дан сравнительный анализ двух переводов романа. Статья эта не утратила своего значения и сегодня. Во-первых. П. Блейк заявила в ней, что страдания Иешуа даны Булгаковым в трактовке, свойственной апокрифам, а, во-вторых, она полагает, что утверждение, будто «Мастер и Маргарита» – сатирический роман, не более содержательно, чем утверждение, будто «Преступление и наказание» Достоевского – детектив (25).
Канадский булгаковед Ричард У.Ф. Поуп в работе о роли Афрания в ершалаимских главах булгаковского романа замечает, что писатель не «просто так» создал сложнейшую систему параллелей между иудейскими и московскими главами, но проводил аналогию намеренно. Этот роман, по мнению Р.У.Ф. Поупа, которое он высказал в статье «Двусмысленность и значение в „Мастере и Маргарите“: Роль Афрания» (28), выстроен писателем очень четко топографически, поскольку можно проследить путь передвижения Афрания по Ершалаиму так, будто перед глазами карта города.
Тут, видимо, стоит сказать, что в англоязычном литературоведении роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» давно приобрел статус «современной классики». Этот роман принадлежит к тем произведениям русской литературы, которые как и «Раковый корпус» А. Солженицына и «Доктор Живаго» Б. Пастернака не просто интересуют литературоведов, а изучаются едва ли не во всех университетах и колледжах, где есть филологическая специализация (7).
В отечественном булгаковедении принято проводить параллель между изображением в «Мастере и Маргарите» двух городов – Москвы и Ершалаима. Так, А. Тан, говоря о картине Москвы в последнем булгаковском романе, считает, что с точки зрения топографии «Мастер и Маргарита» – прежде всего повесть о двух городах, то есть «книга отражений» (18). На противоположных полюсах действия в романе как бы установлены два зеркала, которые то загораются, то гаснут по мановению руки Воланда и в которых то вспыхивает «над черной бездной времени» изображение города «с царствующими над ним сверкающими идолами», то разбивается вдребезги закат в стеклах, обращенных на запад, к пряничным башням монастыря (18, с. 22).
Одно и то же солнце сжигает своими лучами колонны древнего дворца в Ершалаиме и каменную террасу Пашкова дома в Москве. «Одна и та же луна разваливается на куски в предсмертном видении Берлиоза и развертывает бесконечный сияющий путь перед сидящим в кресле прокуратором. Одна и та же небывалая, космическая гроза одновременно рокочет и над Воробьевыми горами, и над Лысою горой» (18, с. 22).
Десять часов утра в древнем городе, считает А. Тан, «рифмуются» с десятью часами вечера на Бронной, а Иван Бездомный, мечущийся по Москве, повторяет бег Левия Матвея по улочкам Нижнего Города в Ершалаиме, причем оба «ученика» воплощают в своем беге «запоздалое, бесполезное действие, оба совершают по дороге кражу, тоже запоздалую и бесполезную» (18, с. 22). Вообще же, по мнению А. Тана, передвижение действующих лиц в романе Михаила Булгакова создает целостный образ городского «пространства/времени», т. е. хронотопа, если пользоваться определением М.М. Бахтина. Бежит по Яффской дороге Левий Матвей; появляется и исчезает Афраний; «танцующей походкой» проходит по улицам Ершалаима красавица Низа; вторит ее «танцу» Иуда. А на улицах Москвы герои романа исполняют «па» сатанинского танца, поставленного Воландом (18, с. 26). А. Тан убежден, что исторический Иерусалим первого века нашей эры нарисован в романе Булгакова «с археологической точностью» (18, с. 28).
В конце романа «оба города приобретают вид апокалиптического небесного града». Сопоставление же Ершалаима и Москвы понадобилось Булгакову, по мнению критика, «не только для того, чтобы в современности высветились вечные пласты». Ведь современность сама вторгается в рассказ об Иешуа и Пилате, завершая судьбы участников этой истории (18, с. 28).
Б.В. Соколов, автор многочисленных работ о творчестве М.А. Булгакова, в том числе и Булгаковской Энциклопедии (15, 16, 17), склонен полагать, что «угаданный Мастером Ершалаим во многом оказывается реальнее, чем город, где он живет, – Москва» (15, с. 45). Что же касается источников исторической линии романа, то Б.В. Соколов называет, помимо тех. что уже признаны в булгаковедении, еще и поэму Георгия Петровского «Пилат», которая была издана в Орше в 1893–1894 гг. за счет автора несколькими отдельными выпусками, три из которых «хранятся в Ленинской библиотеке» (15, с. 66).
Б.В. Соколов, как и большинство булгаковедов, отечественных и зарубежных, опираясь на выписки, сохранившиеся в архиве М.А. Булгакова (да и на собственные изыскания) одним из важнейших исторических источников «Мастера и Маргариты» называет энциклопедию Брокгауза – Ефрона, из статей которой «Легион», «Когорта», «Центурион», «Чародейство», «Бог», «Никодимово евангелие», «Турма», «Шабаш ведьм», «Аква Тофана», «Алхимия», «Пилат» и др. писатель почерпнул множество сведений для своего романа. Словом, приходит к выводу Б.В. Соколов, «из мозаики разнообразных деталей Булгаков создал исторически достоверную, живописно-рельефную, можно сказать, кинематографичную… панораму жизни людей другой эпохи, которые вместе с тем оказываются так близки и понятны нам сегодня» (15, с. 97).
Впрочем, еще задолго до того, как Б.В. Соколов начал печатать свои статьи о творчестве Булгакова, шведский булгаковед Ларс Клеберг заметил, что события и люди Москвы в «Мастере и Маргарите» фантастичны и гротескны, тогда как то, что мы узнаем об Ершалаиме, кажется исторически и психологически достоверным (12, с. 114).
Камил Икрамов в опубликованной посмертно статье, посвященной вопросу трансформации источников в «Мастере и Маргарите», иронично напомнил, что в 1968 году В.Лакшин писал, будто булгаковский Иешуа – это на редкость точное прочтение основной легенды христианства, прочтение в чем-то гораздо более глубокое и верное, чем евангельские ее изложения. Сам же К. Икрамов считал, что Иешуа у Булгакова только по внешним признакам соответствует образу, созданному евангелистами, что его сходство с Христом чисто внешнее. Иешуа у Булгакова прощает сильных мира сего, а в первую очередь – палачей. Что же до слабых людей, то они его просто не интересуют. К слабым Иешуа строг, а вот жестокий кентурион Марк Крысобой для него – «добрый человек» (10, с. 5).
Отказ Иешуа в романе Булгакова от родителей и от той родословной, которую христианская традиция приписывает Иисусу, по мнению критика, восходит к ортодоксальной иудейской версии, то есть к талмудистскому трактату «Авода хара», ибо именно талмудисты называли одним из возможных отцов Христа сирийца, солдата селевкидской армии. Поэтому булгаковский Иешуа заявляет, что ему говорили, будто его отец был сириец.
К. Икрамов отметил и словоохотливость Иешуа в противоположность Иисусу Христу, который в Евангелиях подчеркнуто молчалив. Это также важный элемент трансформации образа Христа у Булгакова. Характерное отличие Иешуа от Христа состоит в том, что ему приходят в голову «кое-какие новые мысли». У Христа «новых мыслей» не было, он явился лишь свидетельствовать об истине. Поскольку Пилат понравился изувеченному Иешуа, это, по мнению К. Икрамова, говорит о неразвитости нравственного чувства у Га-Ноцри. Ведь такая симпатия к жестокому прокуратору противоестественна. Словом, критик полностью отрицает тождество Иешуа и Христа (10, с. 5).
Знание истории и жизненный опыт, заметил К. Икрамов, должны были бы подсказать Булгакову, что поведение Га-Ноцри на допросе у Пилата – не что иное, как донос на Левия Матвея: «Иешуа называет палачам его имя и утверждает, что самые крамольные мысли принадлежат не учителю, а ученику». Кроме того, что Иешуа назвал имя ученика, искажающего его слова, он еще и сообщил Пилату, что Левий Матвей совершил должностное преступление, то есть, будучи податным инспектором, бросил деньги на дорогу и отправился путешествовать с Иешуа (10, с. 5).
К. Икрамов обвинил Иешуа в желании понравиться Пилату в сцене, когда Га-Ноцри предлагает игемону прогуляться и сообщает, что с удовольствием сопровождал бы его. Критик увидел противоестественную симпатию Иешуа Га-Ноцри к своему судье – жестокому прокуратору Иудеи – отнюдь не в проявлении исключительной доброты и святого доверия к силам зла, а кое в чем другом, хотя и не уточнил, в чем именно. Дело в том, что К. Икрамов полагал, что автор «романа в романе» испытывал тот же род недуга, те же чувства, что и его герой и проявлял их не менее откровенно. Мастер в своем романе рисует Пилата с тем же трепетным преклонением и «сладким замиранием сердца, готовым перейти в любовь, с каким Маргарита смотрит на Воланда» (10, с. 5).
Трансформация евангельского первоисточника в романе М.А. Булгакова, осуществленная по законам авторского видения, по мнению К. Икрамова, говорит об убежденности писателя, что ответственность за зло, совершаемое в мире, несут не сильные и всемогущие, а слабые и ничтожные. Так, длинный ряд смертных грешников, предстающих перед Маргаритой на балу Воланда, несколько однообразен по сравнению с «Божественной комедией» Данте, да и не всегда указываются причины, по которым те или иные персонажи считаются смертными грешниками.
В трансформации евангельского первоисточника «несомненно виден атеизм Мастера, а может быть, и атеизм самого Булгакова, но это атеизм особый, очень личный». Роман «Мастер и Маргарита» – мечта слабого человека о справедливости, даже о справедливости любой ценой, заключил К. Икрамов. Ведь тут действуют силы, которые исторически всегда были направлены против человека, против его личности, то есть силы, которые во все века насаждали шпионаж и поощряли предательство. Чего стоят лишь эпизоды, когда прокуратор Иудеи принимает начальника тайной полиции Афрания! А когда в конце романа описывается, как прокуратор по долгожданной лунной дороге бросился к тому, кого сам послал на лютую смерть, то К. Икрамов прокомментировал этот эпизод как художественное обоснование возникновения самого страшного из всех союзов, союза жертвы с палачом.