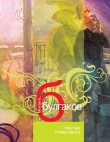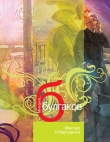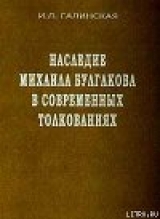
Текст книги "Наследие Михаила Булгакова в современных толкованиях"
Автор книги: Ирина Галинская
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
Прозвище Иуды, предавшего Иисуса Христа, Булгаковым в разных редакциях романа «Мастер и Маргарита» звучит по-разному. Во всех же четырех Евангелиях это прозвище – Искариот. В Евангелии от Марка – Иуда Искариотский (гл. 3, стих 19), в Евангелии от Матфея – Иуда Искариот (гл. 26, стих 14), в Евангелии от Луки – это «Иуда, прозванный Искариотом» (гл. 22, стих 3). В Евангелии от Иоанна – «Иуда Симонов Искариот» (гл. 6, стих 71).
В черновой булгаковской рукописи 1928–1929 г. предатель зовется «Иудой из Кариот», либо просто «Искариотом» (1, с. 222). В книге Ф.В. Фаррара «Жизнь Иисуса Христа» (на стр. 142, 404, 457, 516) находим такое же употребление: Иуда Искариот или «Иуда, человек из Кариота» (10, с. 142–143).
В рукописи романа 1932–1934 г. Булгаков уже пишет: «Кто этот из Кериота?» (1, с. 117). Аналогичное написание имеется и в черновой рукописи 1934–1936 гг. Здесь, видимо, Булгаков следует уже за Э. Ренаном, в «Жизни Иисуса» которого находим написание «Иуда из Кериота» (9, с. 251).
В рукописи 1937–1938 гг. Булгаков изменяет название города, из которого происходил Иуда, и пишет: «Иуда из Кериафа» (1, с. 423), а в окончательном тексте мы уже встречаемся с «Иудой из Кириафа» (2, с. 34). Именно такое название города находим в Библейской энциклопедии архимандрита Никифора: «Кириаф – из южных городов колена Иудина к югу от Хеврона» (6, с. 394), хотя самого Иуду Никифор называет Искариотским, причем добавляет, что он из города Кариота (6, с. 370). Словом, путаница вполне в духе Булгакова, который множество раз менял имена и фамилии персонажей своего романа «Мастер и Маргарита».
В рукописи 1934–1936 гг. рассказ о крестной казни Иешуа озаглавлен «На Лысой Горе». В Евангелиях Голгофа именуется еще и «Лобным местом». В Евангелии от Матфея сказано: «И пришедши на место, называемое Голгофа, что значит „Лобное место“» (гл. 27, стих 33). Аналогичен текст и в Евангелии от Марка: «И привели его на место Голгофу, что значит: „Лобное место“» (гл. 15, стих 22). В Евангелии от Луки говорится: «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, другого по левую сторону» (гл. 23, стих 33). Наконец, в Евангелии от Иоанна читаем: «И неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа» (гл. 19, стих 17).
Таким образом, название «Лысая Гора» Булгаков взял не из Евангелий, а из другого источника, каковым, на наш взгляд, была книга Э. Ренана «Жизнь Иисуса». Ренан пишет: «Место это находилось на Голгофе, расположенной вне города, но близ его стен. Слово „Голгофа“ означает „череп“; по-видимому, он соответствует нашему „Лысая Гора“, французскому „Chaumont“ и, вероятно, означает обнаженный холм, имеющий форму лысой головы. Место нахождения этого кургана с точностью неизвестно. Наверно, он находился где-нибудь к северу или северо-западу от города, на высоком неправильном плоскогорье…» (9, с. 270). И далее: «Нет решительно никаких оснований помещать Голгофу в то определенное место, на котором, со времен Константина, все христианство привыкло ее чтить» (9, с. 270).
Ф.В. Фаррар в книге «Жизнь Иисуса Христа» пишет, что неизвестно, почему место казни Христа называлось Голгофой, или Лобным местом. «Возможно, что это было обычное место казни, или быть может получило свое название от обнаженного, круглого, лобообразного возвышения. Принято называть его „горой Голгофой“, но евангелисты просто называют его „местом“, а не „горой“»(10, с. 543).
Касательно местоположения Голгофы, напоминает Фаррар, написаны целые тома, но определенного ничего не известно. Для более или менее достоверного определения, продолжает Фаррар, совершенно нет никаких данных. И по всей вероятности, действительное место Голгофы погребено и забыто под грудами развалин много раз разорявшегося города. «Скалистая и обрывистая гора, изображаемая обыкновенно на картинах, есть просто плод воображения, равно как и череп или голова Адамова, часто изображаемая у подножия креста. Как самое изумительное и потрясающее событие в истории человечества, распятие Христа, естественно, вызвало множество разных сказаний; но все, что мы знаем о Голгофе, что будем всегда знать и что Богу было угодно открыть нам, это то, что она находилась вне городских ворот», – заканчивает этот пассаж Ф.В. Фаррар (10, с. 543).
В окончательном тексте романа «Мастер и Маргарита» Булгаков пользуется названиями «Лысый Череп» и «Лысая Гора» (2, с. 37, 44, 45, 46, 290, 292).
В черновых рукописях 1928–1929 гг. и 1932–1934 гг., как и в окончательном тексте романа «Мастер и Маргарита», Иешуа мгновенно вылечивает Пилата от гемикрании, безумной головной боли, мигрени: «Сознайся, – тихо по-гречески спросил Пилат, – ты великий врач?» (2, с. 30). Как пишет киевский врач Ю.Г. Виленский в книге «Доктор Булгаков», «Иешуа приданы черты опытного проницательного врача» (3, с. 188). Здесь мы подходим к вопросу о том, как рассматривать чудеса, совершаемые Иисусом Христом.
В Евангелиях «все четыре повествователя о жизни Иисуса единогласно восхваляют его чудеса», пишет Э.Ренан (9, с. 192). Он даже считает, что чудеса эти «утомительно» перечисляются в Евангелиях (9, с. 188). Ф.В.Фаррар полагает, что чудеса Христа соединяют «в себе все отличительные черты милосердия, знамения и пророчества» (10, с. 97).
В романе Булгакова, по мере рассмотрения этого эпизода в черновых рукописях и в окончательном тексте, находим переход от толкования чудес Э.Ренаном к толкованию их Ф.В.Фарраром. Э. Ренан, который, как уже было сказано выше, рисует Иисуса Христа не божеством, а идеализированным человеком, отмечает, что «Иисус был чудотворцем и заклинателем лишь поневоле… он скорее подчинялся чудесам, которых от него требовало общественное мнение, нежели совершал их. Обыкновенно чудо является делом публики, а не того, кому оно приписывается» (9, с. 193). В черновых рукописях 1932–1934 гг. Булгаков четко указывает на то, что Иешуа не вылечивает прокуратора от мигрени, что боль проходит сама по себе:
«– Ты как это делаешь? – вдруг спросил прокуратор… Он поднес белую руку и постучал по левому желтому виску.
– Я никак не делаю этого, прокуратор, – сказал… арестант» (1, с. 116–117).
В рукописи 1928–1929 гг. арестант, как опытный врач, объясняет прокуратору, что мигрени у него происходят потому, что он слишком много сидит во дворце, мало гуляет на свежем воздухе, отчего он и предлагает Пилату пойти с ним прогуляться на луга. Здесь, собственно, ни о каком чуде нет и речи.
В окончательном тексте «Мастера и Маргариты» Иешуа опять-таки отрицает, что он великий врач, чудотворец, а Пилат соглашается с тем, что это можно «держать в тайне» (2, с. 31). Но весь эпизод подспудно внушает читателю мысль, четко выраженную Фарраром, что чудо «знаменует таинственный союз Христа с церковью», «что Он воистину был Бог… что Он делал на земле такие дела, которые могут быть совершаемы только силою Божией» (10, с. 96–97).
В «Прибавлении» к книге «Жизнь Иисуса» Э.Ренан пишет: «В четвертом Евангелии пропущено землетрясение и прочие феномены, которыми, по словам наиболее распространенной легенды, сопровождалась смерть Иисуса» (9, с. 323). Рассказывая в книге о крестной казни, Э.Ренан ограничивается замечанием, что «небо было сумрачно» и что облако скрыло от Иисуса «лик его Отца» (9, с. 275).
Ф.В. Фаррар сообщает о «страшном потемнении полуденного солнца», которое «окуталось неестественной мглой» (10, с. 553–554), Однако три Евангелия единодушно именуют это явление «тьмой». В Евангелии от Матфея читаем: «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого» (гл. 27, стих 45). Аналогичное описание находим в Евангелии от Марка: «В шестом же часу настала тьма по всей земле, и продолжалась до часа девятого» (гл. 15, стих 33). В Евангелии от Луки картина еще более грозная: «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого; и померкло солнце, и завеса в храме раздралась по середине» (гл. 23, стихи 44, 45). В четвертом Евангелии, как уже было сказано выше, эта картина отсутствует.
Булгаков описывает данное явление как в черновых рукописях 1928–1929 гг., 1934–1936 гг., 1937–1938 гг., так и в окончательном тексте романа «Мастер и Маргарита». В черновой рукописи 1928–1929 гг. речь идет о черной туче, которая начала застилать окрестности Ершалаима (1, с. 230). «Исчезло солнце, потемнело сразу, пробежал ветер, шевельнув чахлую растительность меж камней», читаем в рукописи 1934–1936 гг. (1, с. 302). В главе «Погребение» в рукописи 1937–1938 гг. гроза описана Булгаковым более подробно: «Громадный город исчез в кипящей мгле. Пропали висячие мосты у храма, ипподром, дворцы, как будто их не было на свете… Гроза переходила в ураган» (1, с. 415). И, наконец. в окончательном тексте романа рассказ о тьме, пришедшей со Средиземного моря, занимает целую страницу главы «Как прокуратор пытался спасти Иуду из Кириафа» (2, с. 290), причем описание это стоит в одном ряду с лучшими описаниями природы в истории русской классической литературы.
Таким образом, как видно из вышеизложенного, М.А. Булгаков, начиная и продолжая затем с перерывами работу над своим «закатным» романом, опирался, кроме Евангелий, во многом и на книги Э. Ренана «Жизнь Иисуса» и Ф.В. Фаррара «Жизнь Иисуса Христа».
Список литературы
1. Булгаков М. Великий канцлер. – М., 1992. – 544 с.
2. Булгаков М. Избранное. Роман «Мастер и Маргарита». Рассказы. – М., 1988. – 479 с.
3. Виленский Ю.Г. Доктор Булгаков. – Киев, 1991. – 256 с.
4. Галинская И.Л. Загадки известных книг. – М., 1986. – 126 с.
5. Галинская И.Л. Ключи даны! // Булгаков М. Мастер и Маргарита. – М., 1989. – С. 270–301.
6. Иллюстрированная полная популярная Библейская энциклопедия архимандрита Никифора. – М., 1891. – 902 с. – (Репринтное издание. – М., 1990).
7. Иосиф Флавий. Иудейская война. – М., 1991. – 512 с. (Репринт 1900 г.).
8. Кончаковский А., Малаков Д. Киев Михаила Булгакова. – Киев, 1990. – 284 с.
9. Ренан Э. Жизнь Иисуса. – М., 1990. – 336 с. (Репринт 1906 г.).
10. Фаррар Ф.В. Жизнь Иисуса Христа. – СПб., 1893. – 586 с. – (Репринтное издание. – М., 1991).
11. Христианство // Соколов Б. Булгаковская Энциклопедия. – М., 1996. – С. 490–511.
Михаил Булгаков и его время глазами нового поколения
Преподаватели Гарвардского университета в США Александр Бабенышев (пишет под псевдонимом С. Максудов) и его коллега Наталия Покровская в 1988–1990 гг. изучали со своими студентами повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце». В их распоряжении оказалось около 40 сочинений молодых американцев о том, как следует относиться к словам героя повести профессора Преображенского: «Да, я не люблю пролетариата» (3, с.313). В сочинениях речь шла не о художественных достоинствах повести и не о культурных и социальных особенностях русско-советской жизни 30-х годов ХХ в. Студентов волновали тогда общечеловеческие проблемы, отчего они высказывали в своих сочинениях суждения о моральном облике героя этой булгаковской повести. Детям обеспеченных родителей, которыми были студенты А. Бабенышева и Н. Покровской в конце 80-х годов ХХ в., профессор Преображенский не нравился, он раздражал молодых людей, «обычно довольно терпимых, скорее склонных поверить в добрые намерения литературного героя, чем вступить с ним в пререкания» (7, с. 3).
Десять лет спустя, в 1999 г. авторы статьи повторили свой эксперимент. Сочинения студентов Гарвардского университета, написанные в этом учебном году, свидетельствуют о том, что они прочли повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце» с лучшим пониманием как ее литературных особенностей, так и советской жизни 30-х годов: «Столкновение Преображенского и его оппонентов студенты рассматривают в реальной обстановке как борьбу старого и нового мира в послереволюционном российском обществе» (7, с. 3). Различие между профессором Преображенским и Швондером с Шариковым представляется нынешним американским студентам не столкновением благородства с низостью, а лишь противостоянием хороших манер и невоспитанности. «Но главное, чем поразительны современные студенческие работы, – это отсутствием социальных эмоций» (7, с. 3). Н. Покровская и А. Бабенышев (С. Максудов) считают, что на смену поколению, стремившемуся к установлению социальной справедливости на земном шаре, пришли люди, решающие только свои собственные личные задачи.
Леонид Карасев, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ, предлагает свое прочтение текста знаменитого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Анализ романа он производит в рамках так называемой «онтологической поэтики», когда текст понимается как «живое существо», как персона рассказывающая о себе лишь тогда, когда сама того пожелает (5, с. 11). Л. Карасев полагает, что «новое прочтение текста – это на самом деле не столько „прочтение“, сколько совместное предприятие, в которое пускаются и сам знаменитый сюжет, и его истолкователь» (5, с. 11). Так, в XIX в. о бесконечном количестве толкований одного и того же художественного предмета писал Фридрих Вильгельм Шеллинг.
В статье «Масло на Патриарших…» Л.Карасев называет «эмблемами» художественного текста наиболее прославленные сцены или фразы, способные, как визитные карточки, представлять сразу весь сюжет. «Эмблемы обладают неким „знанием“ обо всем тексте, о его „тайне“ или скрытой символике. Знают они кое-что о самом авторе» (5, с. 11). Вопрос о том, что именно в тексте является эмблемой, не всегда легко разрешим. Но кое-что оказывается вне полемики. «Опыт прочтения знаменитого текста, его жизнь в культуре с достаточной точностью укажут на эмблемы, во всяком случае на многие из них» (5, с. 11).
В романе «Мастер и Маргарита» Л. Карасев считает эмблематическим его начало с сидением на Патриарших прудах и с ужасной смертью Берлиоза. В рамках этого «мини-сюжета» слова Воланда о том, что «Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила» (2, с. 21), сами являются эмблематическими, полагает автор статьи.
Подсолнечное масло Аннушки; розовое масло, ненавидимое Пилатом; крем Азазелло, которым намазалась Маргарита, – все эти вещества являются, по мысли Л. Карасева, эмблемами. «Масло и мазь – вещи родственные», пишет он, добавляя, что буква «м» есть и в имени Маргариты, и в словах «масло», «мазь». Даже в эпизоде с «осетриной второй свежести» (2, с. 202) Л.Карасев усматривает намек на масло. «Прямого упоминания масла здесь нет, однако достаточно лишь представить жирную, лоснящуюся осетрину, ту, что „первой свежести“, чтобы почувствовать, что и эта эмблема не случайна» (5, с. 11). Этой осетрине «вторит», по мнению Л. Карасева, балык, унесенный Арчибальдом Арчибальдовичем из горящего ресторана. К эмблеме «масло» автор статьи относит и холодную курицу, которой Азазелло ударил на лестнице гражданина Поплавского. Ведь курица была вынута из «промаслившейся газеты» (2, с. 198). «Что касается гастрономии в целом, то у Булгакова вообще преобладают лакомства жирные, лоснящиеся, промасленные», – заключает Л. Карасев (5, с. 11).
Имена в романе Булгакова также являются, по мысли Карасева, эмблемами. «Мазь – масло» почему-то притаилось, считает он, в имени Азазелло; с букв «М.А.» начинаются и имя, и отчество Берлиоза; «мессир Воланд» также имеет букву «м», а булгаковская аббревиатура МАССОЛИТ демонстрирует слово «масло» почти в незамаскированном виде, не говоря уж об именах главных героев, – Мастер и Маргарита. Что касается Мастера, то Карасев полагает, что он «вообще чем-то напоминает масленку с крышечкой, на которой для верности написана буква „М“» (5, с. 11), поскольку на герое романа был засаленный халат и «совершенно засаленная черная шапочка» с вышитой на ней же желтым шелком буквой «М» (2, с. 136). В звучании имени «Маргарита» Л. Карасев усматривает маргариновый привкус, а имя Гелла вызывает в его памяти загустевшее масло или гель, а, вернее, желатин. Масло и жир суть вещества жизни. Масло – это даже всеобщее мировое вещество, но оно способно «поворачиваться» в разные стороны и играть совершенно различные роли, замечает Л. Карасев. Вот почему текст главы «Погребение» в «Мастере и Маргарите» «пропитан» запахом миртов и акаций, т. е. напоминает об оливковом масле.
Еще две эмблемы романа «Мастер и Маргарита» – огонь и гроза. Огонь, пишет автор статьи, «появляется здесь столь же часто, как и масло» (5, с. 11). Поясняя, что масло – идеальное горючее, Л.Карасев переходит к вопросу о цветовой гамме романа. «Повсюду – идет ли речь о смерти или огне – мы видим один и тот же набор цветов: черное, белое, красное – и желтое» (5, с. 11). Так, тема грозы из главы «Казнь» содержит именно эти цвета. Гроза сближает казнь Иешуа и гибель Иуды, ибо нож за спиной Иуды «взлетел, как молния». Общий «грозовой сюжет» присутствует и во время первой встречи Мастера и Маргариты, поскольку любовь поразила их обоих, как молния. Все цвета грозы упоминаются и в сцене гибели Берлиоза. Если вспомнить, что в романе «Мастер и Маргарита» луна постоянно сравнивается с лампадой, пишет далее автор статьи, то «общая картина масляно-огненного сюжета станет еще более объемной» (5, с. 11).
В эмблематическом выражении «рукописи не горят», по мнению Л. Карасева, наиболее важный элемент не слово «рукописи», а сообщение о том, что они «не горят», поскольку это может быть понято как указание на исходную чистоту истинного слова (если учесть, что в романе Мастера речь шла о Христе). Цитируя наше предположение[86]86
Галинская И. Л. Загадки известных книг. – М., 1986. – С. 112; Галинская И. Л. Ключи даны! Шифры Михаила Булгакова// Булгаков М. Мастер и Маргарита. – М., 1989. – С. 295–296.
[Закрыть] о том, что историческим прототипом огнестойкости рукописи Мастера была рукопись Доминика де Гусмана, которая выдержала подобное же испытание огнем, Л. Карасев считает здесь решающей логику противопоставления преходящего и вечного. Сгорает земное и подземное, но «не может сгореть то, что изначально чисто и непорочно, то, что уже само есть горение и свет» (5, с. 11). Такова логика булгаковского романа, полагает автор статьи.
Вопрос о том, что именно сделало масло таким важным веществом для Булгакова, Л. Карасев объясняет профессией писателя, которому, как врачу, часто приходилось иметь дело с камфарой, отчего он якобы и выделил «масло» из всего арсенала врачебных средств. Если Достоевского притягивала медь, а Платонова – железо и вода, то Булгаков, по мысли автора статьи, «особым образом ощущал, чувствовал масло – его тягучесть, консистенцию, цвет, запах» (5, с. 11). Масло у Булгакова предстает в качестве всеобщего мирового вещества, способного «поворачиваться в разные стороны и играть совершенно различные роли» (5, с. 11), завершает свою статью Л. Карасев.
Е.А. Яблоков исследует в книге «Мотивы прозы Михаила Булгакова» заимствованные сюжеты в булгаковских текстах, показывая взаимодействие языческих и христианских символов, раскрывая роль подтекстовых тематических пластов, которые присутствуют в прозе Булгакова, – античность, Киевская Русь, эпоха наполеоновских войн (13). Как пишет автор книги, она, главным образом, посвящена «связям творчества писателя с художественно-культурным интертекстом в двух его разновидностях: в аспекте мифопоэтической традиции и в аспекте влияния старших писателей-современников» (13, с. 5).
В булгаковской повести «Роковые яйца» Е.А. Яблоков усматривает следующие мотивы: 1) фамилия «Рокк» вводит античную идею неотвратимости судьбы, рока; 2) подмена куриных яиц змеиными означает традиционное представление о близости петуха и змеи; 3) наполеоновские ассоциации связаны с тем, что змеи идут на Москву теми же дорогами, которыми шли французы в 1812 г. Судьба Москвы соотнесена в повести «Роковые яйца» не только с «наполеоновским мифом», но прежде всего, как считает автор монографии, с «мифом змееборческим в его житийных, былинных и сказочных вариациях» (13, с. 37). Мифопоэтические пародийные мотивы Е.А. Яблоков прослеживает в финальных главах повести, где битва со змеями обретает значение последнего и решительного боя – Армагеддона, причем от змей Москву спасает только «неслыханный, никем из старожилов никогда еще не отмеченный мороз» (3, с. 292).
Присутствует в «Роковых яйцах», по мнению автора монографии, и «мотив кинематографа», который распространяется на всю художественную реальность повести. Москва в повести оказывается освещенной тем же «страстным кинематографическим» светом, что и «змеиное царство» в оранжерее, ибо события в «Роковых яйцах» разворачиваются по законам «дьявольского кинематографа» (13, с. 43).
Основная тема «Собачьего сердца», считает Е.А. Яблоков, – «волчье-собачья», а героя повести Шарикова он определяет не как гибрид «собаки и человека», а как существо, которое находится «между собакой и волком» (13, с.64). По мере развития сюжета в Шарикове становится все больше волчьего, а собачье начинает восприниматься как атавизм. Именно изменение облика главного героя в повести «Собачье сердце» вводит мотив оборотничества, ибо Шариков больше всего напоминает волкодлака, вовкулака (укр.), вурдалака (Пушкин), предания о котором известны у всех индоевропейских народов. Впрочем, мотив волка-оборотня у Булгакова есть и в других произведениях, например в «Батуме».
Полагая, что в творчестве писателя заметно влияние «близнецового мифа», Е.А. Яблоков напоминает, что в повести «Дьяволиада» основным событием становится то, что «близнецы погубили делопроизводителя» (3, с. 178). Этот факт вызывает у автора монографии прямые мифопоэтические ассоциации с древнеиндийскими Ашвинами и древнегреческими Диоскурами. Мифопоэтические близнецы обнаруживают связь с волками, выступая их покровителями или, напротив, защищая от них. Появление близнецов в произведениях Булгакова ассоциируется с неблагоприятным исходом событий или предвещает таковой.
Мотив «декапитации» (т. е. отделения головы от туловища) реализован не только в «Мастере и Маргарите», но и в «Дьяволиаде». Наряду с мотивом «декапитации», важное значение, считает Е.А. Яблоков, имеет в творчестве Булгакова образ головы изуродованной, деформированной, окровавленной («Красная корона», «Собачье сердце», «Китайская история»). Мотив «потерянной головы» и мотив «черепа-чаши» также присущи произведениям писателя.
Наибольшее число мифопоэтических ассоциаций вызывает в творчестве Булгакова мотив астральной символики. Если в ранних его произведениях образы солнца и луны находятся в целом в «равновесном» отношении, пишет Е.А. Яблоков, то в позднем творчестве отношения между образами солнца и луны складываются предпочтительнее в сторону луны. А в последнем «закатном» булгаковском романе антитеза двух светил, оппозиция солнца и луны «приобретает вполне систематический характер» (13, с. 110). Ведь героиня «Мастера и Маргариты», по мнению автора книги, явственно соотносится с луной с момента превращения ее в ведьму.
Е.А. Яблоков считает, что наиболее существенное влияние на Булгакова оказали произведения Леонида Андреева и Ивана Бунина. Так, ряд структурных особенностей сближает творчество Булгакова с андреевским рассказом «Красный смех». Это прежде всего «композиционный прием фрагментарности, имитация торопливо записанного или плохо сохранившегося текста» (13, с. 129). Из драматургических произведений Леонида Андреева наиболее ощутимо откликнулась в булгаковском творчестве трилогия «К звездам», «Савва» и «Жизнь человека». Неоконченный роман Андреева «Дневник Сатаны» Е.А. Яблоков сопоставляет с «Мастером и Маргаритой», хотя и допускает, что сходства этих двух произведений «объясняются установкой их авторов на одинаковую литературную традицию: прежде всего – традицию Достоевского» (13, с. 146).
Мироощущению Михаила Булгакова, убежден Е.А. Яблоков, особенно созвучны произведения Ивана Бунина «эсхатологической» направленности, «воплотившие идею исторического катаклизма глобальных масштабов» (13, с.149). Прежде всего, автор монографии имеет в виду рассказ И. Бунина «Господин из Сан-Франциско», а также рассказ «Конец», написанный в 1921 г. и опубликованный в одной парижской газете под названием «Гибель». Впрочем, Е.А. Яблоков не настаивает на том, что Булгаков был знаком с вышеупомянутым рассказом Бунина. Он просто находит связь между рассказом «Конец» («Гибель») и «Господином из Сан-Франциско», который Булгаков прекрасно знал.
Существенные «переклички» Е.А. Яблоков усматривает между «Ханским огнем» Булгакова и рассказом Бунина «Несрочная весна», который был опубликован в 1924 г. в парижском журнале «Современные записки». Хотя оба рассказа, и бунинский, и булгаковский, были опубликованы почти в одно время, автор монографии все же полагает, что Булгаков «успел прочитать „Несрочную весну“» (13, с. 156). Где Булгаков мог найти в Москве в 1924 г. только что вышедший парижский журнал, Е.А. Яблоков не сообщает. Его поражает то, что в бунинском и булгаковском текстах «в центре событий – бывший княжеский дворец, чудом уцелевший в годы гражданской войны и превращенный в музей» (13, с. 156). Так и не объяснив, каким образом Михаил Булгаков смог познакомиться с бунинскими рассказами, опубликованными в периодической печати русского эмигрантского зарубежья, Е.А. Яблоков тем не менее заключает, что «присутствие» данных из бунинских рассказов в произведениях Булгакова «представляется вполне закономерным» (13, с. 164).
Книга литературоведа и историка-архивиста Марины Черкашиной посвящена, по ее словам. «творчеству и биографическим связям Михаила Булгакова, а также деятелям русской культуры и искусства XIX-ХХ веков» (12). В первой части книги («Параллели судеб») жизнь Булгакова соотносится с биографиями Маяковского, Есенина, Вертинского, Гоголя, Шкловского и Станиславского. Автор монографии считает, будто Булгаков не поверил в самоубийство Маяковского, что и отразилось в романе «Мастер и Маргарита». «Так же, как Понтию Пилату не надо было отдавать прямого приказания, чтобы убрали Иуду (начальник тайной полиции Афраний прекрасно понял невысказанное желание шефа), – так же и Сталину было достаточно намекнуть Ягоде ли, Агранову ли о своем недовольстве „горланом-главарем“, как всемогущая и бесконтрольная „охранка“ исполнила то, что от нее ожидал хозяин» (12, с. 14).
Булгаков и Маяковский – два антипода и в человеческом, и в литературном плане. Маяковский воспевал то, что Булгаков отказывался принимать душой и сердцем. В «Бане» Маяковский иронично называет пьесу «Дни Турбиных» – «Дядей Турбиных», а в «Клопе», давая «словарь умерших слов», поминает фамилию Булгакова: «Бюрократизм, богоискательство, бублики, богема, Булгаков». «Маяковский пинал лежачего, Булгакова не печатали, и все пьесы были сняты» (12, с. 6). Однако Булгаков выдерживал светский тон и даже играл с Маяковским на бильярде.
Когда же Булгаков узнал о смерти своего всегдашнего оппонента, он сказал, что здесь должно быть что-то другое, а не любовная лодка, разбившаяся о быт. Спустя полгода он написал: «Почему твоя лодка брошена/ Раньше времени на причал» (12, с. 7). Автор монографии напоминает, что в тот роковой день, 14 апреля 1930 г. левша Маяковский якобы взял зачем-то в правую, весьма неудобную для себя руку, револьвер, который ему подарил чекист Агранов, и якобы нажал на спуск. «Кстати, в папке уголовного дела вместо маузера № 312045, записанного в милицейском протоколе, биограф поэта Валентин Скорятин обнаружил уже другое оружие – браунинг № 268979» (12, с. 9). Что же касается чекиста Агранова, то он печально известен тем, что лично расстрелял Николая Гумилёва, не считая сотен других жертв на его совести.
В главе «Чем прогневал поэт вождя» М. Черкашина пишет, что в пьесе «Баня» Сталин легко мог узнать себя в образе Победоносикова, а также мог усмотреть намек на самоубийство своей жены в том эпизоде, когда Победоносиков отдает жене револьвер, просит быть осторожной и тут же объясняет, как снять предохранитель.
В доме на Садовом кольце, где Михаил Булгаков получил свою первую комнату в Москве, Сергей Есенин познакомился в мастерской художника Георгия Якулова с американской танцовщицей Айседорой Дункан. Именно в квартиру Якулова Есенин в конце декабря 1925 г. забрел перед роковым своим отъездом в Ленинград. «Последние изыскания говорят о том, что поэт был арестован либо в поезде, либо на Московском вокзале, откуда его и препроводили в чекистский дом близ „Англетера“… Теперь ни для кого не секрет, что Есенина избили до смерти, после чего мучители произвели контрольный выстрел в голову, а уж потом бездарно инсценировали самоубийство» (12, с. 25). Смешные поначалу события, происходящие в пьесе Булгакова «Зойкина квартира» в доме на Садовой, кончаются тоже кровопролитием. Эту пьесу Булгаков закончил писать в конце 1925 г., а в театре Вахтангова ее читали в январе 1926 г., сразу же после Нового года и похорон Сергея Есенина. «Искусствоведы» с Лубянки присутствуют в этой пьесе, обозначенные как «неизвестные» персонажи.
Параллели судеб Булгакова и Вертинского отражены в романе «Белая гвардия» и пьесе «Бег». В Киеве Булгаков и Вертинский встречались и даже (вспоминает первая булгаковская жена Татьяна Лаппа) ходили вместе в польское кафе и затем на спектакли Вертинского, шедшие «в каком-то интимном театре на Крещатике» (12, с. 27). Прототип генерала Хлудова из пьесы «Бег» – генерал Яков Слащов предложил Вертинскому приехать к нему из Крыма в Константинополь, а описания Хлудова у Булгакова и Слащова у Вертинского оказываются аналогичными.
Одна из неразгаданных загадок булгаковской «Белой гвардии» – образ прапорщика Шполянского. «Очень странны в этом авантюрном персонаже биографические черты вполне благообразного и маститого литературоведа Виктора Борисовича Шкловского», пишет автор монографии (12, с. 31). Насмешник Булгаков дает своему герою созвучную Шкловскому фамилию – Шполянский. Суть иронии заключалась в том, что Булгаков знал стихи реально существовавшего Аминада Петровича Шполянского, писавшего под псевдонимом «Дон-Аминадо». Булгаковский сарказм не прошел ему даром, В.Б. Шкловский не преминул обрушиться на повесть Булгакова «Роковые яйца», обвинив писателя в том, что он передал («похитил») сюжет романа Герберта Уэллса «Пища богов». «Успех Михаила Булгакова – это успех вовремя приведенной цитаты», – писал В.Б. Шкловский (цит. по: 12, с. 37). В литературном наследии писателя и литературоведа В.Б. Шкловского можно обнаружить немало других ядовитых реплик, адресованных Булгакову.
В главе «За кулисами „Театрального романа“» М. Черкашина рассказывает о конфликте Булгакова и Станиславского в связи с постановкой пьесы «Дни Турбиных». Булгаков требовал признания благородства своих героев и боролся за них не только с Реперткомом, «но и с конформистом Станиславским, который пытался смягчить острые углы пьесы» (12, с. 41).