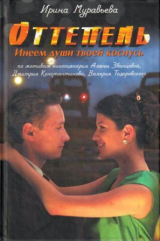
Текст книги "Оттепель. Инеем души твоей коснусь"
Автор книги: Ирина Муравьева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Глава 6
Прошло ровно два часа, прежде чем его отпустили. Она стояла напротив СИЗО, докуривала последнюю сигарету из пачки. В первый момент Хрусталев показался ей каким-то отрешенным. Словно все, что произошло, не имело к нему отношения. Он прищурился на яркий свет и постоял несколько минут, не двигаясь, только потирая виски.
– Витька! – прошептала она и обняла его так крепко, как будто он вот-вот исчезнет.
Обеими ладонями он обхватил ее за плечи и внимательно посмотрел в глаза, словно пытаясь понять что-то. Она не выдержала и заплакала. Тогда он поцеловал ее в губы, в висок, в переносицу и зарылся лицом в ее густые, слегка пахнущие табаком волосы.
– Ну вот, вот! – бормотала она, чувствуя, что начинает громко рыдать и не может остановиться. – Вот видишь? Такие дела…
В такси она вытерла слезы.
– На Шаболовскую, пожалуйста.
– Подожди, – пробормотал Хрусталев, – давай лучше ко мне заедем, возьмем мою машину, а такси отпустим.
– Мы едем домой, – оборвала она. – Ты слышишь меня? Мы домой сейчас едем.
Хрусталев промолчал. В кухне на Шаболовской, к счастью, никого не было. Аська по-прежнему жила у тетки на даче. Они проскользнули к себе, и Хрусталев сразу же рухнул на диван.
– Поспи, – прошептала она. – Я принесу тебе поесть. Аська всегда оставляет полный обед в холодильнике. На всякий случай…
– Сядь! – Он схватил ее за руку и, не открывая глаз, с силой усадил рядом. – Поесть я успею. Я должен тебе кое-что рассказать.
– Что? – спросила она со страхом.
– Ты действительно думаешь, что я ни в чем не виноват?
– Ты разве был… в комнате?
– Да, – глухо сказал Хрусталев, открыв глаза с красными полопавшимися сосудами. – Я был там. И мы говорили. До вчерашнего дня я помнил только последний кусок из нашего разговора, когда он сказал, что отец спас меня от фронта за счет тех, которых некому было спасать, они пошли, и им разворотили кишки. Это было в самом конце. Но после этого мы обнялись, и я ушел. Хотя только что чуть не убили друг друга. У пьяных людей так бывает. Они ведь то дружат, а то нападают. Но до этого… – Он замолчал и опять закрыл глаза.
– До этого? Что? – пробормотала она.
– Вчера я вдруг вспомнил, что было до этого. До этого он прочел мне кусок из своего сценария «Детство Кости». Там мальчишка возраста нашей Аськи попадает к немцам, и один из этих немцев помогает ему убежать. Потому что этот мальчишка слегка похож на его сына. Да и не только поэтому. Просто потому, что он нормальный человек. Я сказал ему, что такой сценарий никогда не пропустят.
– А он что?
– Он сказал, что отлично это понимает. Потом он совсем соскочил с катушек и заорал, что ему все надоело и он хочет все это оборвать разом. А я решил привести его в чувство. Но я сделал это так, что…
Хрусталев громко сглотнул слюну. Инга ни разу в жизни не видела его плачущим, а сейчас слезы, настоящие мутные слезы, ползли по его щекам, и он вытирал их рукавом грязной рубашки.
– Я сказал ему, что мне никогда не хотелось и не захочется ничего «оборвать». А те, кому этого хочется, должны не болтать, а делать. А то несолидно.
Теперь он не просто плакал, он рыдал, стискивая зубы и захлебываясь. Небритая щетина на лице была горячей и мокрой.
– Ты слышала, что я сказал?
Инга изо всех сил прижала его голову к своей груди и начала судорожно целовать его влажные от пота волосы.
– Ну, Витька! Ведь ты не хотел! Ведь это случайность! Да он и не слышал тебя, он был пьян…
Теперь они лежали рядом, крепко обнявшись, и Хрусталев уже не рыдал, он громко стонал и стучал зубами. Крупная дрожь колотила его, хотя в комнате было очень тепло. Она быстро стащила с себя блузку, чтобы согреть его своим телом, и тогда он начал мягко и быстро покрывать поцелуями ее грудь, как делал когда-то давно, когда они жили вместе и назывались мужем и женой.
– Ох, господи! Что ты! Зачем? – шептала она, но он зажал ей рот поцелуем, и больше они не сказали ни слова.
Кривицкому принесли телеграмму: «Ждем машину Шаболовке будем вечером Хрусталевы». Кривицкий схватился за сердце, которое внезапно дало о себе знать легким покалыванием.
– Без ахов! Без охов! – строго сказал он обступившей его съемочной группе. – Освободили. Геннадий Петрович ни слова не преувеличил. Вчера. Приедут сегодня. Попозже. Машину пошлю. Всем работать.
Марьяна прислонилась к дереву, подняла к небу лицо и что-то негромко шепнула, как будто благодарила за освобождение Хрусталева эти белые размашистые облака. Будник обиженно усмехнулся.
– А я говорил, мне не верили! Вообще, меня, кажется, тут просто терпят…
Поскольку весь коллектив привык к тому, что Геннадий Петрович, будучи человеком избалованным, может ради красного словца позволить себе все, что угодно, на него особенного внимания не обратили и продолжали тихо бунтовать против требований безумного режиссера Егора Мячина, который просто как с цепи сорвался. Утро началось с того, что он послал Аркашу Сомова в колхоз за белой лошадью. Аркаша вернулся через полтора часа, волоча с собой на веревке упирающуюся белую козу. Коза блеяла так, что сердце разрывалось.
– Я лошадь просил, – свирепо сказал режиссер.
– Да нету же лошади! Нету, Егор! Козу еле дали!
– Но мне нужна лошадь, – повторил Мячин.
На лице Аркаши Сомова ясно читалось все, что он хотел бы сказать этому человеку, но он ничего не сказал, махнул рукой и потащил козу обратно. Кривицкий наблюдал за работой своего стажера со стороны, вмешиваться не вмешивался, но иногда глубоко задумывался, и чувствовалось, что он выжидает, не зная, в какую сторону подует ветер.
Брат и сестра Пичугины вели себя очень по-разному: насколько тиха и сосредоточенна была Марьяна, настолько жизнерадостен и оптимистичен был ее брат, взявший в свои руки все художественное оформление будущего фильма. Кроме красного чемодана, с которым должна была приехать из города Маруся в исполнении его сестры Марьяны, и белой лошади, которую именно он посоветовал Егору включить в кадр, кроме мостика через ручей с плывущим по нему обрывком газеты Санча нафантазировал таких костюмов, что одному только Васе-гармонисту, роль которого играл Руслан Убыткин, перемерили шесть разных рубах: от темно-синей до ярко-розовой. Кривицкий терпел, но Регина Марковна, знающая мимику лауреата как свои пять пальцев, понимала, что ей придется вот-вот предупредить Мячина, чтобы он не перегибал палку. Молодая жена Кривицкого Надя то ли оттого, что ей недавно запретили кормить трехмесячную Машу, поскольку молоко ее нашли слишком жирным, то ли оттого, что разлука со знаменитым мужем давалась ей нелегко, начала бомбардировать его телеграммами, в каждой из которых содержалось признание в любви, тревога за его здоровье и сдержанные намеки на какую-то женщину, из-за который Федор Андреич якобы и перестал звонить домой и ни разу не выбрал время, чтобы навестить семью на даче. Сельский почтальон, на сизый румянец и широкие плечи которого заглядывался художник Пичугин, явно представляя себе, каким Жераром Филиппом можно нарядить этого светловолосого и круглоглазого Степана, три раза в день доставлял режиссеру Кривицкому телеграммы. Кривицкий только крякал, разрывая плотные серые конвертики. «Сама приеду люблю беспокоюсь никого не потерплю целую сто раз твоя Надя», – прочел он в последней. После этого Федор Андреич попросил, чтобы его подбросили на почту, хотя туда можно было преспокойно дойти через поле за двадцать минут. Вскоре за столичной знаменитостью прислали телегу, щедро устланную сеном. Лошадь, впряженная в нее, была не той белоснежной красавицей, о которой мечтал Егор Мячин, а старой, простой деревенской кобылой с влажными, словно маслины, глазами и копытами, густо обляпанными навозом. Усевшись на сено и обменявшись рукопожатием со стариком Фокой, в распоряжении которого находились и лошадь, и телега, Кривицкий, мягко покачиваясь, отбыл на почту, где заказал себе междугородний разговор. Слышно было плохо, все время врывался какой-то колокольный звон, хотя никаких церквей в округе давным-давно не было.
– Феденька! – надрывалась жена, стараясь перекричать торжественные удары несуществующего колокола. – Любимый мой зайчик! Когда ты вернешься?
– Надя! – раздувая ноздри, повторял Кривицкий. – Прошу тебя: успокойся! Ведь я же на съемках! Ведь мы тут работаем! Не капусту солим!
– Феденька! Сердце мое что-то чувствует! Я ночи не сплю! Скажи мне, что ты меня любишь! Что очень! Что очень-преочень!
Оглядываясь на скромную телефонистку и прикрывая рот ладонью, Кривицкий бормотал «очень-преочень», но Надя не успокаивалась:
– Что «очень-преочень»? Нет, ты скажи как!
– Люблю тебя очень-преочень-преочень! Мне нужно работать! Актеры на точках! Все, Надя! Целую!
Федор Андреич, крякнув, бросил трубку, расплатился за бессмысленный междугородний разговор, сел на телегу и поплыл обратно, душою и телом отдыхая в этом солнечном, наполненном летними запахами, цветочном море. Люся Полынина, которой Надя тоже посылала по две-три телеграммы в день и мучила ее вопросами, что же на самом деле происходит с ее неузнаваемо изменившимся мужем, как раз в это время вбежала на почту, вытирая мокрый лоб рукавом клетчатой ковбоечки.
– Девушка! – обратилась она к молчаливой телефонистке. – Дайте мне Москву! Ненадолго!
Опять раздался колокольный звон, зашуршали в трубке мощные ангельские крылья, и полный слез голос Нади сказал ей тоскливо: «Але!»
– Надька! – закричала Люся. – Ну, что ты рыдаешь? Он жив и здоров! Волнуется он за работу! Не двигаемся ни черта!
– Не двигаетесь? – удивилась Надя Кривицкая. – А он мне сказал: «Все актеры на точках»!
– Какое «на точках»? – махнула рукой простодушная Люся. – До точек еще далеко!
– Ах, вот оно что! – И голос Надежды сорвался на шепот. – Ах, он еще врет! Ну, посмотрим!
Надя бросила трубку, и растерянная Люся побрела обратно на съемки. Знал бы кто на свете, как разрывалось ее собственное сердце! Какой болью было оно переполнено, каким отчаянным стыдом! Она старалась даже глазами не пересекаться с Пичугиным. Во время обеда отсаживалась от него как можно дальше. Если ей нужно было что-то спросить или уточнить какую-нибудь мелочь, она делала это через других, будь то Регина Марковна или Аркаша Сомов, но сама не подходила, словно не видела его, не замечала, словно Пичугин был частью этого прозрачного воздуха, а не живым, с умными, быстрыми глазами и необыкновенно аккуратной прической молодым мужчиной. Она знала, что никогда не полюбит никого, кроме него, и знала, что никто и никогда не полюбит ее, Люсю Полынину, некрасивую женщину и весьма посредственного оператора.
Регина Марковна билась изо всех сил, пытаясь собрать всех актеров «на точки». Измученное лицо Регины Марковны было цвета того самого красного чемодана, который оказался так необходим Егору Мячину в сцене первого появления Маруси на колхозной площади.
– Где Будник? – надрывалась Регина Марковна. – Где Гена? Кто его видел?
– Он, кажется, к себе ушел, – испуганно прошептала гримерша Лида, белыми пухлыми пальчиками взбивая на лбу кудряшки.
– К себе? Он совсем охренел?
Будник лежал на кровати, отвернувшись лицом к стенке, и на шумное появление Регины Марковны никак не отреагировал.
– Это как понимать? – обмахиваясь платком, спросила Регина Марковна.
Народный артист глубоко вздохнул, но ничего не ответил.
– Геннадий Петрович, вы что? Охренели? – вежливо удивилась Регина Марковна. – Вы почему улеглись отдыхать в рабочее время?
Будник упорно молчал.
– Гена! – взревела она наконец. – Ты слышишь меня? Что с тобой?
Народный артист вдруг привстал на кровати.
– Регина! Я понял всю правду! Она мне открылась!
– Какую еще, к черту, правду, Геннадий?
– Я понял, что работаю старыми штампами и совершенно не подхожу для своей роли! Это молодое кино! Это новаторское кино! Оно, можно сказать, грозит утереть всем носы в Голливуде! А я? Я – старье, я только все порчу, Регина!
– Иди, Гена, в жопу! – устало сказала Регина Марковна. – Пусть с тобой режиссер разбирается!
И хлопнула дверью с досады.
Через пять минут в комнату Будника ворвался Егор Мячин.
– Геннадий Петрович! Вся группа вас ждет!
Будник замотал головой.
– Клянешься, что скажешь как есть?
– Что «как есть»?
– Нет, ты поклянись мне сначала, Егор! Потом я задам свой вопрос.
– Не буду я клясться! – набычился Мячин.
– Тогда не спрошу.
– Ну, ладно. Клянусь!
– Ведь ты меня не по собственной воле пригласил на роль Михаила? Ну, правда, Егор!
– С чего вы вдруг взяли?
– С чего я вдруг взял? А помнишь, как ты мне сказал на поминках? Что ты в свои фильмы меня не возьмешь?
– Геннадий Петрович! Я вас очень прошу: забудьте вы о моих словах! Я пьян был, я сам их не помню!
– А я очень помню, Егор!
– Ну, ладно! Простите меня. Я дурак.
– Я с этим не спорю, – вдруг тихо и ласково сказал народный артист. – Но мне подтверждение нужно, Егор. А то я себя самого разлюблю, и тут уж такое начнется, Егор! Такое начнется, что ужас! А лучше сказать: ужас, ужас! Вот так.
– Клянусь вам, что мы только вами и держимся, – сказал Мячин и всмотрелся в порозовевшее лицо Будника. Прежнее выражение благодушной уверенности возвращалось на это лицо, как солнце, внезапно застланное тучей, плавно и добродушно возвращается обратно на поляну.
– Да, надо спешить, – деловито сказал Геннадий Петрович, поднимаясь с кровати и приглаживая волосы перед настенным зеркалом, – а то мы с тобой что-то здесь заболтались.
Прямо к съемочной площадке подкатила служебная машина, из которой спокойно, слишком уж спокойно и сдержанно, вышли Инга и Виктор Хрусталевы. Таридзе подошел к ним первым и крепко обнял Хрусталева:
– Я знал, что так будет!
– Он от нас удрать хотел! Думал, ему там, в тюрьме, работенку предложат полегче! А от нас не удерешь! – засмеялся Кривицкий.
Гримерши и осветители обступили приехавшую парочку, заахали, заохали, начали трясти Хрусталеву руку, обнимать Ингу.
– Смотрите, Инга Витальевна, а он у вас даже и не похудел! – воскликнула гримерша Лида. – Или вы его уже успели в ресторан завезти?
– Дома накормила, – с вызовом ответила Инга. – Мы успели домой заехать.
Марьяна стояла в стороне, не подошла, не произнесла ни слова. Хрусталев нашел ее глазами, помедлил немного и вдруг решительно направился прямо к ней.
– Мне тут успели рассказать, как вы меня пытались защитить, – сказал он, усмехнувшись и не глядя ей в глаза. – Я очень признателен. Но, право, не стоило.
– Я хотела вам помочь, – прыгающими губами выдавила она. – Я понимаю, что получилось очень глупо.
– Нет, вовсе не глупо. Немножко наивно.
– Ну, это как вышло… Еще раз простите.
– Спасибо, – сказал Хрусталев.
Они встретились глазами, и она испугалась, что заплачет. Сердце ее словно остановилось, лоб стянуло, она стала быстро и сильно бледнеть, полуоткрыла губы. Хрусталев сердито посмотрел на нее и сразу же отошел. Мячин начал что-то объяснять Таридзе, поминутно оглядываясь на Марьяну. Регина Марковна захлопала в ладоши:
– Актрисы! На грим!
– На грим так на грим! – весело отозвалась Инга. – Пойдемте, Марьяна!
Марьяна взглянула на нее почти в страхе:
«Неужели можно так притворяться? Неужели они все такие притворщики? Или это я чего-то не понимаю? Я знаю одно: я не подхожу им всем, они не такие, как я, как бабушка. Даже Санча, хотя он и делает вид, что ему очень уютно здесь, даже он не такой, как они…»
Когда три дня назад Инга залепила ей пощечину, она, не помня себя, убежала и почти до утра просидела на лавочке, стуча зубами и пытаясь согреться. Она не знала, на что решиться, как поступить, куда деваться, и ей казалось, что нужно быстро собрать свои вещи и, пока все еще спят, дойти до шоссе, поймать попутку, вернуться домой, лечь за шкаф и плакать, и плакать, и плакать, ничего не объясняя бабушке, потому что бабушка сразу умрет от разрыва сердца…
К утру стало легче. Солнце, незаметно подкравшееся слева, начало согревать ее руки и плечи, успокаивая, ободряя, и в этом тепле, в этом еще робком золотистом свете, который медленно, словно сомневаясь в своих силах, разгорался вокруг, она туго заплела волосы в косу, вытерла слезы, перестала дрожать и, решительно поднявшись, прошла по коридору, толкнула дверь в ту самую комнату, из которой, как обоженная, выскочила несколько часов назад. Инга спала или притворялась, что спит. Марьяна сняла платье и легла на свою кровать, отделенную от кровати его жены узкой домотканной дорожкой. Больше они не разговаривали. На съемках и та, и другая делали вид, что ничего не произошло. Вся группа знала, что сегодня утром Инга и Будник уехали в Москву встречаться с адвокатом Хрусталева, но Кривицкий, посвященный во все подробности, помалкивал, и когда слишком уж прямая и бесхитростная Люся Полынина спросила за обедом: «А Гена-то там им зачем?», раздул по своему обыкновению ноздри и ничего не ответил.
Когда Хрусталев подошел к ней и с каким-то странным выражением на лице, не глядя ей в глаза, поблагодарил за этот ее идиотский поступок, Марьяне показалось, что он подошел попрощаться. То, чего она так боялась со дня первой встречи, от чего просыпалась иногда в холодном поту посреди ночи и долго не могла уснуть, борясь с желанием позвонить ему, лишь бы услышать, что все в порядке, – сейчас это произошло. Он бросил ее. Теперь, как человеку, потерявшему зрение, ей нужно будет учиться жить в темноте и передвигаться ощупью.
Хрусталев стоял у плетня и обсуждал с Мячиным текущие дела.
Глава 7
– Так лошадь ты хочешь в тени или как? – донеслось до Марьяны.
– Я хочу, чтобы она стояла, еле различимая. Одни контуры. В таком вот размытом, молочном тумане. И солнце, которое только-только восходит, начало постепенно освещать ее. Сначала ноздри, глаза, потом гриву, потом шею, спину, ноги… И чтобы, в конце концов, она вся засверкала. Большая и белая, как молоко.
Хрусталев понимающе кивал.
– Витя! – вмешался Аркаша Сомов. – Вот ты мне скажи: какая разница, кого будет освещать солнце? Какая разница между лошадью и козой? Я имею в виду, конечно, только в данном случае, а не с точки зрения животноводства…
– Какая разница, друг мой Сомов, – засмеялся Хрусталев, – между Татой и Нюсей? И та, и другая – хорошие женщины, и обе брюнетки…
Сомов в ужасе замахал на него обеими руками:
– Вернулся насмешник! Ничего святого!
– Так что с лошади и начнем! – загорелся Мячин. – Именно с этой сцены! Где Будник?
– А Будник зачем? – спросил Хрусталев.
– Он просил, чтобы непременно сняли, как он кормит лошадь хлебом. Он вспомнил, что в «Комбайнерах» есть такое место: Кочергин кормит из ладони лошадь. Они ведь с Кочергиным враги и соперники. Теперь ему хочется утереть Кочергину нос. С помощью нашей белой лошади. Но я согласился: пусть кормит.
Вечером решили устроить большой пир по случаю освобождения невинного оператора.
– Сегодня напьюсь! – пригрозила Регина Марковна. – Все нервы вы мне измотали!
Она нагрела целое ведро воды и гордо удалилась в лес с мылом и мочалкой.
– Регина, учти: я в крапиве залягу и буду подсматривать! – расхохотался Кривицкий.
– Смотри, мне не жалко! – презрительно отрезала Регина Марковна.
Через полчаса началась гулянка. Напились и наелись очень быстро. Кривицкий, так и не сдержавший своего обещания подсматривать за тем, как намыливается в густых зарослях немолодая наяда Регина Марковна, съел пару ломтиков «Докторской», потом, сокрушенно поглядев на свой мощный выпирающий из всякой, даже самой просторной одежды живот, навалил себе на тарелку горячей рассыпчатой картошки, густо посыпав ее укропом, посолив и полив сверху подсолнечным маслом, добавил к этому еще полбатона «Докторской» и сбоку аккуратно украсил получившийся натюрморт двумя серебристыми кильками с открытыми ртами и погасшими бусинками глаз. Стараясь не смотреть на обступившие его со всех сторон бутылки «Столичной», он пододвинул к себе большую банку «Сока томатного с мякотью» и начал пировать, можно сказать, в одиночку, потому что, когда трезвый человек остается один на один с пятнадцатью крепко выпившими людьми, он невольно чувствует себя обиженным и одиноким. Марьяны за столом не было. Отметив этот факт, Кривицкий подумал про себя, что он, может быть, недостаточно уделяет внимания молодой и очень неуверенной в себе актрисе, и тут ему вспомнился Пырьев, когда-то встретивший еще неопытного Кривицкого в одном из павильонов «Мосфильма» и неожиданно затеявший с ним откровенный разговор.
– Никакого настоящего режиссера из тебя, Федор, не выйдет, если ты своих ведущих артисток сам на зуб не попробуешь! – сказал большеголовый, с выпирающим кадыком, Пырьев. – Я, например, ни одну не стал бы снимать, если не пожил бы с ней хоть день в законном браке!
– Пожить – это я понимаю, а брак ни к чему! – ответил веселый Кривицкий.
– Развратники все вы, шпана! – брезгливо осадил его Пырьев. – Ты женщину только в браке раскусишь по-настоящему! Когда она перед тобой в бигудях на кухне, немытая, неодетая, чай будет пить вприкуску! А так это все чепуха и обман! Вот «Анну Каренину» ты ведь читал? Зархи вот Самойлову снял! Как тебе?
– Ну, я бы, наверное, не так повернул…
– И я бы не так повернул! – брызгая слюной, ответил Пырьев. – Танюша там как манекен на витрине! Вон надо мной весь «Мосфильм» смеется: у Пырьева в главных ролях только жены снимаются! А почему? Потому что я свою жену с изнанки знаю, она у меня ни одного неверного шага не сделает!
Кривицкий был в общем и целом за то, чтобы женщину, которая снимается в главной роли, режиссер знал как облупленную. Два года назад, до Наденьки, он, может быть, и не стал возражать против того, что для достижения совсем уже блистательных результатов с ведущей актрисой желательно оказаться в близких, можно сказать, почти кровно близких отношениях. Но теперь, когда он был так прочно и незыблемо женат на Наденьке, не имеющей прямого отношения к миру искусства, теперь одна мысль, что он, муж своей жены и отец своей дочери, вдруг, потеряв рассудок и чувство собственного достоинства, начнет лезть под юбки молоденьким артисткам, желая помочь им вжиться в образ, теперь одна эта мысль бросала Федора Андреича в холодную дрожь и казалась ему еще более кощунственной, чем, скажем, взять и незаметно подлить в томатный сок с мякотью полстаканчика «Столичной».
Чувствуя себя особенно безгрешным и любящим только свою жену человеком, Кривицкий решил непременно разыскать убежавшую от веселого застолья Марьяну Пичугину и постараться понять, что там сейчас у нее на душе. Он постучал стаканом с недопитым соком в дверь Марьяны, но никто не отозвался.
– Странно! – с обидой подумал Кривицкий. – Помочь им хочу, дуракам, а им только пить да гулять! Ну, где вот она шляется, когда завтра с утра такой ответственный кусок будем снимать? И как она будет выглядеть после бессонной ночи?
Он вспомнил, что Хрусталевых – и бывшего мужа, и бывшей жены – тоже уже нет за столом, хотя он успел заметить, что Витька напился. Вернее сказать, не напился, потому что он никогда не напивался до бесчувствия, но быстро опрокинул в себя положенное количество спиртного и, заблестев глазами, покинул всю группу, празднующую его же собственное, хрусталевское, освобождение. Хоть и острым был наметанный глаз режиссера Кривицкого, но то ли очень уж сладко пел соловей в густых деревенских зарослях, то ли слишком непроницаема была темнота деревенской ночи, едва освещенная одним-единственным фонарем, но только он пропустил и то, как Марьяна, неохотно откусив что-то, быстро ушла обратно в общежитие, а заблестевший глазами Хрусталев исчез не один, а захватил с собой свою бывшую жену и уволок ее куда-то в сгустившуюся темноту.
«Охохоюшки-охохой! – добродушно подумал Федор Андреич, чувствуя, что самому ему больше всего хочется лечь под лоскутное одеяло и забыться сном. – Охохоюшки-охохой! Да пусть они сами разбираются! Я что тут, собака цепная?»
Он встал, с хрустом потянулся и пошел в свою комнату по узкому коридору общежития. Заметил какую-то хрупкую тень, которая постояла у двери Хрусталева, осторожно дергая за ручку, но, заслышав грузные шаги режиссера, скользнула куда-то и сразу исчезла.
«А ну как Марьяна стояла, подслушивала? – с отеческой тревогой подумал Кривицкий. – С ума они тут у меня посходили!»
Интуиция не подвела его: это была Марьяна. Веселое застолье, огласившее своими шутками, смехом и разговорами всю округу, становилось все громче и громче. То, что она, не взяв в рот ничего, кроме ломтика «Бородинского», тихонько ушла обратно в общежитие, никого не удивило, поскольку никому, кроме, может быть, брата, занятого, как всегда, спорами с Мячиным, не было дела до нее. Нет, Мячину было. Но что ей до Мячина! Она постояла у окна в своей комнате, посмотрела, как в темных облаках мелькают звезды, втянула в себя слабый душистый ветер с реки и наконец решилась.
– Пусть он сам скажет мне, что между нами все кончено! Просто скажет, и все. И больше я не подойду к нему и ничем его не потревожу. Но я ведь имею право знать! Разве нет?
Дверь в комнату Хрусталева была закрыта, но она точно знала, что он там, слышала его знакомое тяжелое дыхание, сразу же притихшее, затаившееся, как только она начала дергать за ручку. Он был не один. Это она тоже поняла, потому что кроме дыхания Хрусталева послышалось и ломкое «ты-ы-ы», произнесенное голосом, который трудно было не узнать. Хрусталев был с Ингой. И он знал, что это она, Марьяна, дергает за ручку его двери, и он не открыл ей. Все кончено. Она вернулась обратно к себе, легла на кровать и свернулась калачиком. Завтра нужно уехать отсюда с первой попуткой. Нет, лучше даже не так: она дождется, пока они перестанут веселиться, разбредутся по своим комнатам, и тогда она со своим небольшим чемоданом выйдет из общежития, доберется до шоссе и остановит какую-нибудь машину, попросит, чтобы довезли до Москвы. И нечего ждать до утра. Лицо ее горело, веки щипало от слез.
За окном пели только что появившуюся песню Высоцкого «Татуировка».
Марьяна встала с кровати, не зажигая света, нащупала полотенце и пошла к умывальнику, висевшему в коридоре. Навстречу ей в широкой красивой пижаме, с махровым полотенцем, перекинутым через плечо, мурлыкая что-то, двигался Федор Андреич Кривицкий. Увидев Марьяну, он широко раскинул руки:
– Вот она, попрыгунья-стрекоза! Ты почему не с народом?
Марьяна хотела ответить, но соленый ком сдавил ей горло, из глаз опять закапали слезы.
– Обидели, а? Нагрубили? – грозно сдвинув брови, спросил режиссер. – Идем-ка ко мне, все расскажешь!
Он властно открыл дверь в свою комнату и подтолкнул Марьяну внутрь.
– Входи и садись! Сейчас коньячку с тобой выпьем… лимончик… А, вот шоколадка осталась!
– Федор Андреич, я не буду пить!
– А я тебя не спрашиваю, будешь или не будешь! Со мной, как с врачом: не поспоришь! Садись, я сказал!
Марьяна осторожно отпила из налитой рюмки, откусила кусок шоколадки.
– Теперь говори! Кто обидел?
Она замотала головой:
– Никто не обидел! Они все хорошие, милые.
На лице Кривицкого появилось грустное и понимающее выражение.
– Они, детка, разные. Кино очень сплачивает. А кончатся съемки, и сам удивляешься: ведь всем на тебя наплевать! Ты многого просто не знаешь, Марьяночка…
Он торопливо достал из тумбочки половину домашнего пирога и пододвинул поближе к ее тарелке.
– Наденька моя испекла. Яблочный. Ты пей коньячок и закусывай…
– Федор Андреич! – Марьяна всхлипнула. – Вы даже не представляете, до чего мне бывает одиноко!
Звук сильных шагов раздался в коридоре, потом громкий женский голос спросил у кого-то:
– Вот эта его, что ли, дверь?
Через секунду на пороге выросла Надежда Кривицкая. Высокая, статная, со сдвинутыми к переносице соболиными бровями. Кривицкий вскочил как ужаленный:
– Откуда ты здесь? С кем ты Машу оставила?
Она отмахнулась. Сверкающие глаза прожигали Марьяну насквозь, испепеляли ее.
– Так я не ошиблась, – страшным свистящим шепотом произнесла жена режиссера и вдруг, как тигрица, подпрыгнула к Марьяне, вцепилась ей в волосы. – Убью тебя, тварь! Убирайся отсюда!
– Надежда! – завопил Кривицкий, пытаясь оттащить жену. – Ведь это не то, что ты думаешь!
– Не то? Что «не то»? Сука! Сволочь! Пошла вон отсюда! Кому говорю?!
Нечеловеческим усилием оторвав разгневанную женщину от юной актрисы, Федор Андреич крепко обхватил ее обеими руками, крича так, что филин в лесу отозвался загадочным зычным «У-у-х, ты-ы-ы!»:
– Надежда! Клянусь! Это вовсе не то!
На звуки скандала сбежалась съемочная группа, исключая Ингу и Виктора Хрусталевых. Растолкав всех, Марьяна выскочила из общежития, легко перескочила через плетень и бросилась по направлению к лесу. За дверью Кривицкого послышался звук, который производится либо ударом мокрого белья о мостки, либо ударом человеческой ладони по столь же человеческой коже.
– Обманщик! Предатель! Не верю ни слову! – кричала, рыдая, Надежда Кривицкая.
– Бордель у нас, братцы, ей-богу, бордель! – с пьяной радостью воскликнул Аркаша Сомов и покрутил своей лысеющей головой. – Теперь нам Офелию нужно спасать! Река, братцы, близко!
Перепуганный Александр Пичугин, не помня о своих белоснежных брюках и темно-синих замшевых мокасинах, побежал к лесу, в котором давно уже скрылась его невезучая сестра, и с криком: «Марьяшка! Марьяшка!» – исчез в темноте. За ним, пригнув голову, помчался режиссер Мячин.
– Подай мне, Регина, фонарик! – приказал, с трудом удерживая равновесие, Аркадий Сомов. – Пойду помогу. Лишь бы ног не сломать!
– Надюша, дай я объясню! – постанывал за дверью режиссер Кривицкий. – Все просто: актриса, без всякого опыта…
Жена не дала ему закончить:
– А ты привык с опытом? Ты привык с опытом? Моим пирогом соблазнял, негодяй!
– Пирог твой, Надежда, давно зачерствел! Неделю как ем!
– Ну, знаешь!
Опять ударили мокрым бельем по настилу, и ослепшая от гнева, огненно-красная Надежда Кривицкая появилась в раскрытых дверях комнаты, выскочила из общежития и хлопнула дверцей такси. Шофер, так и не сумевший задремать, поскольку уж очень кричали и плакали, посмотрел на нее с раздражением.
– Теперь куда едем? Обратно?
– Обратно, – сказала она, задыхаясь от слез.
Такси, подняв пыль, умчалось в столицу, и не успели огни его фар растаять в воздухе, как юная и неопытная актриса Марьяна Пичугина, на поиски которой только что бросились Егор Мячин, Аркадий Сомов и ее брат, Пичугин Александр, вышла из леса, спокойно и неторопливо приблизилась к столу, полному не доеденной коллегами еды, опустилась на скамью, отыскала среди грязной посуды чистую тарелку, положила на эту тарелку немного винегрета, остывшей картошки, салата из крабов, коронного блюда гримерши Жени, салата из печени трески, коронного блюда гримерши Лиды, кусок медовика, любимого угощения Регины Марковны, вылила в чашку остатки коньяка из бутылки и принялась спокойно ужинать, поскольку последние несколько дней почти ничего не ела и успела как следует проголодаться. Увидев брата, Егора Мячина, Аркадия Сомова, которого Егор Мячин тащил на себе, как раненного в бою солдата, и всех остальных, кроме заперевшегося в своих комнатах режиссера Федора Андреича и бывших супругов Хрусталевых, Марьяна подняла на них тихие глаза и очень спокойно спросила, чем это они все так взволнованы.








