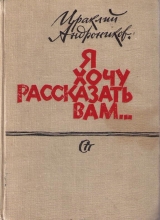
Текст книги "Я хочу рассказать вам..."
Автор книги: Ираклий Андроников
Жанры:
Искусство и Дизайн
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 43 страниц)
Но на основе этой оригинальной драматургии он создал театр. Театр с обширным репертуаром. В списке драматургов стояли имена Грибоедова, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Достоевского, Л. Толстого, Блока, Есенина и множества советских прозаиков, поэтов, очеркистов. И среди них на первом месте Владимир Маяковский – «ведущий поэт всех моих программ», как говорил о нем Яхонтов.
На воображаемом фронтоне театра Яхонтова были начертим имена Маяковского и Пушкина.
Театр назывался «Современник», так же, как журнал, который с 1836 года издавал Пушкин. Яхонтов хотел сказать этим названием, что его театр, подобно пушкинскому «Современнику», будет откликаться на события современности, будет «слушать свое время, его смысл, содержание и идеи», будет продолжать пушкинские традиции.
Театр просуществовал восемь лет (1927–1935). В театре была своя режиссура – Еликонида Ефимовна Попова, имя которой стоит на всех афишах Владимира Яхонтова, Сергей Иванович Владимирский. Не обошлось в театре без артиста просцениума, без директора, без завлита. Но главное отличие его от всех остальных театров состояло в том, что труппу его составлял лишь один актер – Владимир Николаевич Яхонтов. Яхонтов всегда подчеркивал, что он актер из театра «Современник», и придавал этому большое значение. Иные видели в этом странную игру в театр, причуду талантливого мастера, пожелавшего назвать себя театром. Дело, однако, не в названиях, а в существе. Конечно, можно было называть Владимира Яхонтова Владимиром Яхонтовым и получать на его вечерах высокое эстетическое наслаждение, не вдаваясь при этом в теоретический спор d природе его искусства. Но для того, чтобы правильно понять ее и верно определить место Яхонтова в ряду других явлений, без понятия «театр» не обойдешься. Слово это возникло не случайно и свидетельствует о том, что Яхонтов не только играл, но уже с давних пор размышлял о том, что делает.
Театр «Современник» служил литературе. И уже этим решительно отличался от всех когда-либо существовавших театров. И задачи решал он такие, которые никакой другой театр решить не мог. Спектакли Яхонтова не походили на инсценировки литературных произведений. Естественность повествования, говорит он, сохраняющаяся в исполнении солиста, в инсценировке гибнет. Инсценировка обедняет художественное произведение, отсекает мысли автора, лишает вещь авторского отношения. Могут возразить, что естественность повествования сохраняется в искусстве художественного чтения, что это не исключительное право Яхонтова или его театра. Такое объяснение будет верным, но только отчасти. Нельзя игнорировать театральную природу яхонтовского искусства. Это не просто художественное чтение, а нечто более сложное.
О событиях и людях можно рассказывать. Это – искусство рассказа, искусство художественного чтения. Их можно играть. Это – искусство театра. Но можно рассказывать играя. Это – особый, синтетический жанр, вклинившийся между театром и литературой. То, что делал Яхонтов, представляло собой сплав художественного чтения с театральным действием, необыкновенно музыкального исполнения слова с искусством оратора-пропагандиста.
Размышляя о судьбах русского искусства, Ф. И. Шаляпин высказывал мысль, что оно пойдет по пути дальнейшего синтеза слова, интонации и жеста – то есть литературы, музыки и театра. И в связи с этим вспоминал талантливейшего русского писателя-рассказчика Ивана Федоровича Горбунова (1831–1895). Горбунов славился как замечательный исполнитель собственных рассказов и бытовых сценок; бывало, интонируя на разные лады даже одно слово, он с помощью жеста и мимики создавал галерею разнообразных характеров. Горбунов – явление замечательное, но до сих нор не изученное и не получившее должной оценки. Дело не в сходстве – Яхонтов на Горбунова совсем не похож, – дело в тенденции. И важно, что такой синтетический актер, как Шаляпин, понимавший функцию слова и театрального жеста, посредством интонации раскрывавший глубины характеров, видел в Горбунове прообраз будущего искусства и предсказал появление жанра.
Яхонтов шел в искусстве не проторенной дорогой, а целиной, оставляя глубокий след. Иного пути для него не было. Это был человек, веривший в свою высокую миссию, родившийся на свет для того, чтобы читать. С самого детства его восхищала литература и томило стремление играть. Поэзия правды в спектаклях Художественного театра, искусство Станиславского покорили его – он поступил в школу Художественного театра. Потом увлекся вдохновенной работой Вахтангова.
«Ученик Станиславского, отчасти Вахтангова», – говорил о себе Яхонтов. Но все же как актер он сформировался в театре Вахтанговском.
Затем работал у Мейерхольда. Своей зрелостью и высокой театральной культурой он обязан Вахтангову, Станиславскому, Мейерхольду. И – само собой разумеется – Маяковскому. Трудно отделить в творчестве Яхонтова эти авторитеты один от другого, но можно сказать с полкой уверенностью, что способность проникать в ход мысли автора и в чувство, родившие слово, умение обогащать его содержанием собственного душевного опыта восходит к искусству МХАТа. Искусство играть, не сливаясь до конца с образом, сохраняя «авторские права» над ним, быть и автором и героем одновременно, шло от Вахтангова. От него же принес Яхонтов на эстраду праздничную условную театральность, любовь к обыгрыванию предмета. Переосмысление классики, скажем спектакль «Да, водевиль есть вещь!», подготовлено спектаклями Мейерхольда. Это отнюдь не значит, что на работах Яхонтова лежит печать подражания. Нисколько. Речь идет о закономерной последовательности. Независимо от того, что Яхонтов считал себя воспитанником Станиславского и отчасти Вахтангова и оставался верным их заветам, Мейерхольд не мог не оказывать воздействия на такого смелого и чуткого актера. И то, как Яхонтов трактовал Пушкина, Гоголя, Лермонтова, иной раз рождало ассоциации с мейерхольдовскими спектаклями. Думается, что спектакль Яхонтова не родился бы до Мейерхольда.
Конечно, воздействие Мейерхольда на Яхонтова сказывалось не только в переосмыслении классики. Достаточно вспомнить, что в спектакль «Зори» по Э. Верхарну Мейерхольд включал последние сводки с фронтов гражданской войны, чтобы составить представление об эстетических предпосылках яхонтовскнх композиций. Впрочем, надо помнить и то, что столкновение разнокачественных и стилистически неоднородных кусков в искусстве 1920-х годов было явлением довольно распространенным. Родственный композициям Яхонтова принцип монтажа еще раньше осуществлял в кино режиссер Дзига Вертов. С. Эйзенштейн даже искал теоретические обоснования этого вида искусства.
С Маяковским Яхонтова роднило острое чувство современности, отношение к слову как к орудию борьбы, предназначенному для свершения великих революционных и будничных повседневных задач; понимание высокой своей обязанности и ответственности перед сегодняшним днем; единство новаторского содержания и новаторской формы. Сродни Маяковскому были эстетические принципы яхонтовских работ – совмещение «высоких» и «низких» планов, внезапные переходы от серьезного повествования к едкой иронии, сама ирония как средство для передачи глубоких раздумий.
У Станиславского, Вахтангова, Мейерхольда и Маяковского он перенял новаторскую смелость и умение отвечать своему времени.
Вклад Яхонтова в наше искусство еще не оценен как следует. То, что он сделал, огромно – по количеству, по значению, по накалу, по мастерству. Как он много мог сделать сегодня!
Летом 1945 года он приехал выступать в клуб одного из московских госпиталей, где я в ту пору находился на излечении. Это было 10 июля. Он читал офицерам рассказы Соболева и Зощенко. Потом – стихи Есенина; стихи чередовались с музыкой, которую исполняла пианистка Елизавета Лойтер. Когда Яхонтов сошел с эстрады, выздоравливающие окружили его и забросали вопросами о литературе. Он отвечал остроумно и увлекательно. Прощаясь, мы условились, что 12-го он снова приедет в госпиталь, чтобы поговорить со мной о своих ближайших работах.

В. Яхонтов среди раненых в эвакогоспитале ЛФ 5018
Он приехал во втором часу дня. Отделение уже свернулось, я оставался один в палате, узкой, как дудочка. В коридоре, забрызганном известкой, стояли козлы. Мы были одни.
Я стал расспрашивать его о выступлениях на Урале – мы не виделись почти всю войну, – о сооруженном на его средства танке «Владимир Маяковский», о его новых работах. Я не слышал последней – «Горе от ума». Он стал играть первый акт, потом сыграл третий. Прочел по моей просьбе «Письмо Онегина к Татьяне», сцену в саду, начало «Казначейши». Я просил еще… Он прочел монолог из «Маскарада», сцену из «Настасьи Филипповны», в которой она сжигает деньги, и другую, когда Рогожин рассказывает Мышкину о ее смерти. Потом мы разговаривали. И снова он читал: «Флейту-позвоночник», «Необычайное приключение…», «Товарнцу Нетте…», «Разговор на рейде…», отрывки из «Хорошо!», из «Ленина», «Люблю», «Сергею Есенину», есенинского «Чорного человека», «Моцарта и Сальери» – вторую сцену, Блока – стихи из «Возмездия». Каждое произнесенное им слово я воспринимал как его собственные признания в любви, его исповеди, его мысли, его огромный творческий мир. Говорили о Гоголе, о Хлебникове, о жанре благородных приключений, о Твене, книжка которого лежала возле кровати. Яхонтов размышлял о будущих работах. Ему виделось стремительное движение событий, подобие увлекательной фабулы, хотелось внести новые конструктивные начала в построение программ. Он увлекался, то вдруг начинал сомневаться. Как это сделать? Станут ли эти работы вровень с прежним Яхонтовым? И верил, и хохотал, что будут не хуже, «прикидывая на себя» описание губернского бала из «Мертвых душ» и автобиографическую прозу Твена.
– Нет, я никогда не читал переводной литературы! – говорил он с тревогой. – Как прозвучит Марк Твен?
Я понял: ему страстно хотелось заговорить от себя в этих будущих новых работах, впервые создать пояснительный текст, связующий между собой составные части программы, текст ёмкий, который, может быть, вместил бы и собственные его мысли.
– А не получится, – спрашивал он, улыбаясь печально, – что «наговорили немые»? Это неплохо: «Немые», которые не закрывают ртов на эстраде. «Немые чтецы». Впрочем, – говорил он, – наверно, стоит попробовать. Веселее было бы обдумывать такую программу вместе.
С годами искусство его становилось мужественнее и проще. Блистательный, разнообразный, тонкий, острый и необыкновенно умный актер в «Горе от ума», он прозу и стихи читал экономнее, чем прежде. Спокойнее и выразительнее стал жест, сдержаннее внешняя театральность. И без театральной аргументации все более раскрывалась в его исполнении действенная сила самого слова, произнесенного его голосом, в котором сверкал целый мир переживаний и мыслей, поражали глубина содержания и совершенство поэтической формы.
Он читал, облокотившись на изножье больничной койки, глядя через открытое окно в зеленый сад, человек, который имел в жизни одно безошибочно угаданное им предназначение – делиться с другими прочитанным. С какой благородной простотой и трагической силой читал он в тот день! И наступил и прошел вечер, а мы все говорили, и он снова читал, словно заклиная всегда помнить его и это неповторимое исполнение его любимых вещей, которые были его победы, его существо, его жизнь. Но даже и чувствуя, что это неповторимо, мог ли я знать тогда, что ни Пушкина, ни Грибоедова, ни этих вещей Маяковского от пего никто уже не услышит, что воображение его расстроено и жить ему несколько дней?!
Он ушел ночью, в третьем часу.
«Яхонтов Владимир Николаевич, замечательный советский актер, мастер художественного слова. Родился в 1899 году, умер в 1945». Так будут писать о нем в энциклопедических словарях. Но разве это даст почувствовать силу его искусства!
Иногда в радиопередачах мы слышим записанные в исполнении Яхонтова «Стихи о советском паспорте», «Товарищу Нетте, пароходу и человеку», фрагменты поэмы «Ленин», пушкинскую лирику, «Песню о Буревестнике»… Как и прежде, звучит благородный и сильный голос, вызывая волнение неизъяснимо е. Голос такого нужного нам человека, актера такого неповторимого. Но ведь эти радиозаписи – только разрозненные страницы огромного труда, подвига всей его творческой жизни.
По счастью, в продолжение нескольких лет Яхонтов работал над книгой. Он писал ее с перерывами и до конца работы не довел, но она создавалась на глазах его режиссера и друга – Е. Е. Поповой. Каждое положение обсуждалось ими совместно по многу раз. Поэтому Попова сумела расшифровать неразборчивые черновики, соотнесла написанное с замышленным и собрала книгу, в которой Яхонтов рассказывает о своих исканиях, размышляет об искусстве чтения, делится мыслями о литературе, о природе театра одного актера. В ней рассказана творческая история почти каждой его программы; читатель узнает, как начинается труд и рождается вдохновение, как отрабатывается слово и десятки выученных наизусть страниц не укладываются в короткие минуты. Мы следим за опытами великого мастера и словно слышим покоренное слово.
Книга воскрешает путь замечательного актера и заключает в себе мысли, важные для понимания природы целого жанра.
Состояние творческого покоя было неведомо Яхонтову. Он менялся с каждой новой работой, оставаясь верным избранному пути.
Выдающееся мастерство его общепризнанно. Он горячо любим теми, кто восхищался им ка эстраде, и множеством новых слушателей, которым его голос знаком только по записям. Но и сейчас еще можно услышать спор о его спектаклях и композициях. Иной готов оборонять исполнителя Яхонтова от новаторского характера и новаторской формы его работ. Это понятно: Яхонтов не подходит под привычные категории. Споры только доказывают, что творчество его оставило неизгладимый след в советском искусстве и не пройдет даром для будущего.
С. М. МИХОЭЛС И ЕГО КНИГА
В 1935 году на сцене Еврейского театра в Москве Соломон Михайлович Михоэлс сыграл роль короля Лира. Это был потрясающий Лир! Образ, который создал Михоэлс, сразу же получил единодушную и восторженную оценку, как одно из высших достижений советского театрального искусства. Эту роль исполняли великие актеры – Сальвини, Росси, Барнай. Но ни один из них не сыграл того Лира, какого увидел Михоэлс: он по-своему вник в шекспировский замысел, точно определил «эпицентр» трагедии и дал ей новое, еще небывалое, толкование. Он создал образ деспота, который уходит от власти потому только, что она потеряла для него всякую ценность. Что для него могущество, сила? Что правда, ложь? Все ничтожно в его глазах, кроме его собственной личности. Единственной реальностью в мире кажется ему собственное сознание.
И вдруг сокрушается вся его философия. Он терпит крах всех идей, которыми руководствовался в продолжение жизни. «Король с головы до ног» приходит к мысли, что он такой же человек, как и все. Михоэлс играл трагедию крушения ложных взглядов, ложной мудрости старца и нарождение в ьгм новых представлений о жизни.
Не часто случается подобное проникновение в гениальный драматургический замысел! Потому что не часто бывает, чтобы художник, даже и большого таланта, в равной степени обладал интуитивным постижением явлений жизни и такою же силою логического проникновения в их суть; способностью мыслить образно, воспринимать мир, как видит его поэт, и в то же время подходить ко всему строго аналитически.
Эта равносильная способность к синтезу и анализу отличала решительно все, чего ни касался в искусстве и жизни этот удивительный актер, блистательный режиссер, мудрый толкователь искусства, один из замечательнейших представителей нашей театральной и общественной жизни 20—40-х годов.
Михоэлс был замечательным мастером великой актерской школы, основным достижением которой является человек со всем его душевным миром и опытом. Но в нашем театре – об этом мы как-то не говорим или говорим мало – сосуществуют два типа актеров. Выходит один – и за образом нельзя угадать исполнителя. И другой – мы сразу узнали его: это он! Но какой он сегодня новый! Какой небывалый образ он создает!
Вот именно таким был Михоэлс, поражавший разнообразием воплощений и полной независимостью от своих, не очень выгодных, сценических данных. И вместе с тем актер, налагавший на своих героев печать своего ума, своего таланта и художественного стиля.
В дружеских беседах Михоэлс часто напоминал, что настоящий актер нашего театра является перед зрителем как бы автором и произведением этого автора. И вот таким актером – автором и произведением одновременно – был прежде всего сам Соломон Михайлович Михоэлс.
Как в рассказе или романе большого художника мы все время угадываем его самого, так и Михоэлс – он умел и дойти до самых глубин созданного им образа и вместе с тем воспарить над ним. Скажем, скорбя в образе Сорокера в спектакле «200 000», он умел сообщить нам и свое ласково-ироническое отношение к нему.
Вспомним «Путешествие Веньямина III», когда Зускин – Сендерл и Михоэлс – Веньямин ходят по сцене зигзагами, на цыпочках. И Михоэлс за спиною Зускина повторяет зеркально каждое движение его. Все всерьез. И все игра. Жизнь в образах во всем великолепии проникновения в их суть. И при этом – великолепный росчерк искусства: «Играем! Верим, что было именно так! И мы представляем это. Поверьте! И удивитесь тому, что даже и горькая жизнь становится возвышенной, когда переходит в искусство!» Вот что было в этой игре!
Какими средствами мог Михоэлс выразить всю эту гамму отношений? Эти вмещенные одна в другую сферы чувств? Эти «авторские ремарки»? Глаза! Глаза Михоэлса, полные мысли, огромные, глядящие и не видящие. Печальные. Озорные. Сощурившиеся от смеха в узенькие, хитрые щелочки. Разные в разных спектаклях – то глаза реб Алтера, то молочника Тевъе, то короля Лира. Безумные. Строгие. Добрые. Но в краешке глаза всегда сам Михоэлс с его отношением к образу… Вот эта способность выражать свое отношение к созданному тобою и поглотившему тебя без остатка образу кажется мне одним из самых великолепных достижений современного театрального искусства. И изумительным мастером этого сверхобразного решения был Соломон Михайлович Михоэлс.

Но Соломон Михайлович – это больше, чем замечательный актер и замечательный режиссер Михоэлс. Михоэлс – это явление советской культуры. Он не просто играл. И не просто ставил спектакли. Он искал новые пути. И находил их. Он понимал театр как великое выражение жизненной правды. Но она никогда не превращалась у него ни в копию жизни, ни в копию правды, никогда не бывала у него будничной, обыкновенной, похожей на тысячи других воплощений. Она всегда была новой, открытой вот только что, свежей, сверкающей и заключала в себе ту великую праздничность искусства, которая способна вызвать улыбку сквозь слезы и заставить задуматься посреди безудержного веселья. Да, он умел ставить спектакли, стопроцентно верные жизненной правде. Но какой концентрированной была эта правда! Разве можно забыть его «Фрейлехс» – спектакль, построенный на материале, который в прежние времена называли этнографическим и который в руках Михоэлса обрел настоящую театральность и увлекательность и превратился в истинное событие!
И вот вышла книга: «С. М. Михоэлс. Статьи. Беседы. Речи» (М., «Искусство», 1960). Тем, кто помнит Михоэлса на сцене и на трибуне, за кулисами руководимого им театра, в дружеском кругу литераторов, киноработников, врачей, ученых, среди которых он был всегда свой, самый веселый, менее всего похожий на актера, – тем, может быть, книга эта и покажется в чем-то неполной, ибо она не отражает всех граней его необыкновенного дарования. Тем более что он ее не писал: она составлена из стенограмм и разновременных статей, возникавших по различным поводам.
Нет, опасения напрасны! На основании этой книги мы можем теперь очень полно судить об эстетических взглядах С. М. Михоэлса и многое воспринять в нем совершенно по-новому, удивляясь его прозорливости, тонкости и вновь убеждаясь: Михоэлс чувствует как поэт и говорит как мыслитель.
Выступления Михоэлса не походили на обычные доклады и речи. Он обладал удивительной способностью: говорил очень просто о сложном и умел угадывать мысли аудитории, которые тут же возвращал ей, обогащенные силой собственного мышления. В увлекательной статье, помещенной в приложении к книге, П. А. Марков напоминает, как «высвобождал» Михоэлс мысли аудитории и с какой «поражающей точностью» формулировал их.
Есть ли в этой книге, умело составленной и с большим тактом отредактированной К. Рудницким, есть ли в ней главная тема? Есть. Это мысли о выражении на сцене идеи через образное раскрытие идеи. Вот Михоэлс коснулся образности искусства и в качестве пояснения приводит русскую поговорку: «Утро вечера мудренее». Если, продолжает он, вы захотите эту народную мудрость перевести на немецкий язык дословно, поговорки из этих слов не получится. Но на основе образности своего языка немецкий народ выдумал равноценную: «Утренний час во рту имеет золото». И также по-своему сформулировал эту мысль еврейский народ: «С бедой надо переночевать». Одна из первейших обязанностей художника – вычитывать эту образность в произведениях народного творчества, в произведениях литературы. И в качестве подтверждения мысли Михоэлс приводит блистательные примеры собственного проникновения в суть образной системы Шекспира. Так, он отмечает, что Глостер в «Короле Лире» не был зрячим, обладая глазами. Он был слепым, потому что не мог разобраться в том, что Эдмунд предатель, а Эдгар подлинный рыцарь. Но, лишившись глаз, Глостер прозрел. «Не думаю, – замечает Михоэлс, – что Шекспир стремился убедить людей в необходимости выкалывать глаза, чтобы стать зрячим». Но что он не доверял человеческому зрению, это дли Михоэлса несомненно.
А вот еще пример образной силы Шекспира и одновременно доказательство глубокого понимания Михоэлсом образа короля Лира. Лев Толстой писал, что Шекспир бездарен, что в «Короле Лире» бушуют выдуманные, бутафорские страсти, что отказ Лира от короны и раздел королевства необоснованны. А между тем, достигнув возраста Лира, он сам ушел из дому, от богатства и от довольства, и попытался навсегда порвать со своим прошлым. Так жизнь надсмеялась над толстовским осуждением Шекспира, добавляет Михоэлс. И делает вывод: «Великий художник Толстой не понял образного, скрытого в этой пьесе».
Это образное у Шекспира Михоэлс видит во всем.
Одни актеры пытались сыграть безумие Лира как следствие болезни или простуды, другие – как результат лишений, перенесенных в степи. Нет, заявляет Михоэлс, и гроза и безумие во время грозы – это образ, это катастрофа, крушение веек представлений и переход к новому состоянию.
В образе Лира Михоэлс продолжал тему, которая проходила сквозь все его актерское творчество, – тему судьбы человека мятущегося, вечно ищущего, который платит жизнью за крохи истины. И эта же мысль, что искусство прёдставляет собою выражение самой великой человеческой страсти – страсти познания, проходит теперь сквозь его книгу.
Не может быть познания вне ведущей идеи, размышляет Михоэлс. Вне идеи нет искусства, вне идеи нет образа. Но покуда мир идей не оденется для нас в образную форму, искусство возникнуть не может. Поэтому нельзя утвердить идею в спектакле, в актерской работе вне образного решения. И, подходя к творчеству актера, Михоэлс прежде всего выясняет: может ли этот актер приоткрыть зрителю новое в постижении мира через образное открытие мира? Для него не существует актера, на котором можно было бы «сыграть», как на музыкальном инструменте. Он хочет, чтобы за актером-исполнителем всегда стоял актер-автор, актер-идеолог, способный на сцене не только отражать жизнь, но способный своим искусством продолжать эту жизнь, проникая в тайники внутреннего мира своих героев. «Нужны зарницы, разряды, молнии, – говорит Михоэлс, – чтобы раскрыть этот внутренний мир, чтобы мы могли в него заглянуть… Искусство подобно рентгеновским лучам… Рентген искусства – его образность». А для этого актеру недостаточно превосходно знать свое ремесло. Он должен обладать поэтическим даром. Он должен быть не просто правдив на сцене. Он должен быть правдив, как поэт. «Разве, – спрашивает Михоэлс, обращаясь к аудитории, – Константин Сергеевич Станиславский не поэт?» И приводит свой разговор с ним, относящийся к 1937 году:
«К. С. Станиславскому уже трудно было дышать, он жил с затрудненным дыханием. Как-то он спросил меня: „Как вы думаете, с чего начинается полет птицы?“ Эмпирически рассуждающий человек, я ответил, что птица сначала расправляет крылья. „Ничего подобного, птице для полета прежде всего необходимо свободное дыхание, птица набирает воздух в грудную клетку, становится гордой и начинает летать“. Даже в определении физиологического состояния, – поясняет Михоэлс, – Станиславский размышлял образно. Но, к сожалению, этого образного у него не взяли, потеряли его». «Он был поэтом, он жил в широком мире идей, облеченных в образные формы», – утверждает Михоэлс в другой своей речи. И предлагает изучать спектакли Станиславского, стремясь постигнуть, в чем сила их образного воздействия, а не только выясняя их методологическое обоснование. Он произносит страстное слово в защиту поэтических открытий Станиславского от «страшных рук высушенных догматиков». Он призывает к критическому и, стало быть, к творческому, а не догматическому усвоению его системы. И сетует по поводу того, что в наших театральных школах, в школах изобразительного искусства «не учат образно мыслить». Михоэлс вспоминает, как решал Станиславский сценическое пространство в «Ревизоре». Первое действие – у городничего – разыгрывалось на узкой полосе сцены, потом, по мере развития действия, комната все углублялась, покуда не охватывала всей сцены. «Это прием огромнейшей впечатляющей силы, – говорил Михоэлс, обращаясь к режиссерам, собравшимся со всех концов страны на всесоюзную конференцию, – прием постепенного проникновения в мир, который открывается перед вами… У Станиславского эти искания образного наблюдались на каждом шагу».
Что такое пожар в «Трех сестрах» Чехова?
Это своего рода символ: в эту ночь в жизни героев происходят огромные события, крутые переломы, перевороты в их судьбах, по-новому озаряющие их монотонное, привычное существование. Чебутыкнн впервые рассказывает о своей загубленной жизни. Тузенбах впервые находится в комнате любимой девушки. В непримиримый конфликт с сестрами вступает Прозоров. Если посмотреть на героев «Трех сестер» глазом обычным, пишет Михоэлс, они покажутся сумасшедшими. Один в продолжении всех актов говорит: «через двести – триста лет». Другой в любых обстоятельствах произносит: «А он и ахнуть не успел…», третья в течение четырех актов вздыхает: «В Москву, в Москву!» Четвертый повторяет: «Давайте поедем на кирпичный завод». Пятый разговаривает лишь в том случае, если возле него находится абсолютно глухой Ферапокт. Это как бы лейтмотивы пьесы. Найти же ключ ко взаимоотношениям всех этих лиц, действующих в органической системе чеховской драмы, можно только в том случае, если установлен не только идейный, но и поэтический замысел автора. И Михоэлс призывает поддерживать и развивать тот дух исканий, которым отмечены работы Константина Сергеевича Станиславского, поражавшего умением в каждой пьесе раскрывать ее идейное и ее образное поэтическое начало. Он предлагает учиться угадывать актера, знакомиться с его идейно-образным миром, апеллировать к нему как к источнику идейного творчества, ибо актеру-исполнителю делать в театре нечего. «Михоэлс, – свидетельствует в своей великолепной вступительной статье Ю. А. Завадский, – понимал и ценил Станиславского, как никто».
Поэзии актерского труда, образности актерского творчества, раскрытию внутреннего идейного и поэтического мира актера и на своем замечательном опыте и на примере других актеров Михоэлс и посвящал свои выступления. Это – целые россыпи мыслей. О «театральности» в том смысле, в каком говорят о «музыкальности» исполнения, о «живописности» полотна. О драматургии. О роли режиссера в спектакле. О призвании актера. О его личности. Воображении. Выразительных средствах. Сценическом самочувствии. О теме актера. О его замысле. О пластическом выражении замысла. О слове в театре, О ритме, образе, стиле. Тут и анализ ролей. И размышления о Гоголе, Шолом-Алейхеме, об Улановой, Шостаковиче, Чаплине.
Книга Михоэлса, в которой речь идет о театре, на самом деле гораздо шире затронутых тем – в каждом своем выступлении Михоэлс касается общих законов реалистического искусства нашей эпохи. Так, говоря о нигилистическом отношении к классике, которое иногда проявлялось в 30-х годах, Михоэлс вникает в самое существо творческой этики и делает вывод: своевольное, несерьезное отношение к произведениям классической мировой литературы неэтично. По отношению к кому? По отношению к зрителям, по отношению к театру советскому, ибо актерские эксперименты подобного рода «не служат основному нашему делу».
«Мы призваны быть политиками, – говорил Михоэлс на собрании московских театральных работников. – Многие весьма крупные актеры в Америке пытались мне доказать, что они творят „независимое“ искусство, что они, мол, политикой не занимаются. Но они мне напоминали людей, которые присутствуют при страшном пожарище, спокойно его созерцают, не ударяют палец о палец для того, чтобы погасить человекопожирающее пламя, и болтают в это время о высоком гуманном строе своей души. Мы, советские художники… будем гасить пожары, мы будем разоблачать поджигателей этих пожаров, мы будем воевать с ними, мы, советские бойцы на идеологическом фронте».
Многие мысли, изложенные в книге Михоэлса, и даже примеры отдельные мне приходилось слышать на «семинаре» от самого Соломона Михайловича, А это побуждает меня поделиться здесь некоторыми воспоминаниями. Однако, для того чтобы стало ясно, о каком семинаре я говорю, придется хотя бы вкратце упомянуть о тех обстоятельствах, при которых мы познакомились.
Произошло это в 1935 году в Пименовском переулке, в подвальчике, где тогда помещался Московский клуб мастеров искусств. Соломон Михайлович вместе с женой своей, Анастасией Павловной Потоцкой-Михоэлс, пришел на мой вечер. И воспринимал все с такой живостью, с такой простотой, дружелюбием, непосредственностью, что я, хорошо видя его – зал был маленький! – в тот же час мысленно посвятил ему всю программу и для него главным образом исполнял все свои «устные рассказы».








