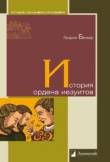Текст книги "Крест и меч"
Автор книги: Иосиф Григулевич
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
Элкинс ссылается на испанский рабовладельческий кодекс 1789 г., который не разрешал хозяевам подвергать рабов наказаниям, угрожающим их жизни, гарантировал им право на выкуп, обязывал рабовладельцев учить их основам римско-католической религии. Отметим, что указанный кодекс был принят вовсе не в результате стараний церкви, а под влиянием просветительных идей в период господства в Испании просвещенного абсолютизма, который пытался ограничить роль церкви в обществе. В колониях влияние кодекса было ничтожным, на Кубе он вступил в законную силу только в 1840 г.
Элкинс считает, что расовое смешение, характерное для испано-португальского мира, в отличие от англосаксонского является результатом двойственного королевско-церковного отношения к системе рабства в целом.
Резюмируя, Элкинс противопоставляет "либеральную, протестантскую, секуляризированную культуру Америки" "консервативной, патерналистской, католической, почти средневековой культуре Испании и Португалии и их колоний в Новом Свете" (Ibid, p. 29-30), якобы более благожелательной для рабов.
Бразильский социолог Жильберто Фрейри в свою очередь утверждает, что ввиду особых культурных и психологических черт, присущих португальцам, в том числе "страстности", толкавшей их на неограниченные половые контакты с негритянками, рабство в Бразилии носило патриархальный характер по сравнению с англосаксонским миром (Freyre G. Casa Grande e senzala, v. I-II. Rio de Janeiro, 1961).
Эти взгляды нашли свое отражение и в научно-популярной литературе. Так, К. Эрик Линкольн в своей истории негритянского народа в США пишет: "Католическая церковь играла важную роль в отношении португальцев и испанцев к рабам, в особенности в Южной Америке и в других районах, где католицизм являлся господствующей религией. Требуя, чтобы рабов учили основам религии, церковь способствовала уменьшению неграмотности среди рабов и помогала им освоиться с новыми и враждебными для них условиями жизни. Кроме того, так как испанских и португальских женщин было немного в Новом Свете, церковь поощряла браки между иберийскими поселенцами и негритянскими и индейскими женщинами" (Lincoln С. Eric. The Negro piligrimage in America. New York, 1967, p. 6).
К. Эрик Линкольн в своем восхвалении католической церкви доходит до того, что приписывает ее влиянию возникновение республики Палмарес на юго-востоке Бразилии в XVII в., в то время как эта республика была образована беглыми рабами вопреки, разумеется, воле рабовладельцев и действовавших с ними заодно церковников.
Точка зрения Ф. Танненбаума и его единомышленников встретила резкую отповедь со стороны ряда ученых в США и в Латинской Америке. Так, Марвин Харрис, автор работы "Расовые модели в Америке", не без основания утверждает: стремиться объяснить, почему к рабам в Латинской Америке относились лучше, чем в Соединенных Штатах, – пустая трата времени, ибо теперь никто не в состоянии доказать, что к ним в одном месте относились лучше, чем в другом. По мнению М. Харриса, "рабовладельцы любой национальности всегда были уверены, что их рабы являлись самыми счастливыми существами на земле" (Slavery in the New World, p. 43). В годы борьбы за отмену рабства в США южане утверждали: их рабы живут во сто крат лучше, чем свободные рабочие на Севере.
Один из апологетов рабства южанин Уильяме Грейсон следующим образом живописал в своей поэме "Наемник и раб" положение свободных трудящихся на Севере:
…Там Труд и Голод бой ведут всегда,
И лишь со смертью кончится нужда;
В лачугах тесных длань свою простер
Угрюмый тиф и беспощадный мор,
Там Голод, поиски начав свои,
В небытие шлет новых жертв рои.
А вот как этот же певец рабства живописует "счастливую" жизнь невольников на Юге:
Но радостно, не ведая невзгод,
Невольник на плантациях живет.
Всем, без чего бедняк разбит и слаб,
В избытке обладает черный раб.
Не знает он сомнений и забот,
Ему вовек не страшен недород,
В неурожай не знает он беды:
Ему хозяин припасет еды.
Здесь нищие от голода не мрут,
Даров от стран чужих себе не ждут.
В далекий край не едет селянин,
Чтобы поведать гнет былых кручин;
За хлеб и труд не ведая борьбы,
Блаженны на плантациях рабы;
И каждым клятва может быть дана,
Что сказочная жизнь им суждена…*
*(Цит. по: Паррингтон В. А. Указ. соч., с. 129-130)
Чем не Аркадия, не древнегреческая демократия, наследниками и продолжателями которой считали себя рабовладельцы американского Юга? Если даже допустить, что рабовладельцы-южане были "добрыми", то это еще не делало раба свободным, а тем более равным его владельцу. Раб, как бы хорошо к нему ни относился хозяин, оставался бесправным и безгласным существом, судьба которого всецело зависела от произвола владельца.
По поводу спора о том, в какой стране рабство было "хуже", американский историк Дэвид Брайон Дэвис отмечает: "Совершенно понятно, что современные исследователи были столь поражены длительным порабощением и деградацией южных негров и исключительной живучестью расовых предрассудков в Соединенных Штатах, что часто представляли американское рабство как особую систему неограниченной жестокости, превосходящую все прочие формы угнетения. Однако Томас Джефферсон утверждал, что в Риме императора Августа положение рабов "было значительно более тяжелое, чем черных в Америке", и что список издевательств и жестокостей, обычных для Рима, был якобы неизвестен в Вирджинии. Апологеты американского рабства всегда с гордостью сравнивали мягкость их собственного института, якобы подтверждавшуюся быстрым ростом негритянского населения, с суровостью рабства в Вест-Индии или Древнем Риме, где быстро умиравшие рабы постоянно заменялись новыми невольниками. Но аболиционисты всегда склонялись доказывать, что рабовладельческая система их собственной страны или империи была самой худшей в истории" (Slavery in the New World, p. 60-61).
Шведский ученый Магнус Мёрнер в свою очередь пишет: "Утверждения, согласно которым религия, национальность или гражданство рабовладельца делали его более человечным или жестоким но отношению к рабу, решительно не подтверждаются фактами" (Morner M. Op. cit, p. 118).
Утверждения Ф. Танненбаума и его единомышленников о мнимом "превосходстве" рабства в католических странах над протестантскими вовсе не новы. Еще в 1839 г., выступая в палате депутатов Франции, министр иностранных дел Токвиль го-ворил, что рабство во французских и испанских колониях носит характер особенно гуманный, доказательством чему якобы служат соответствующие королевские указы; что тамошние рабовладельцы относятся к своим рабам, как отцы к детям; что в результате доброго и гуманного отношения рабы очень редко пользуются правом самовыкупа из рабского состояния.
Бразильский государственный советник Лишбоа в свою очередь заявлял в 1853 г.: "Рабство не является столь уж большим злом для рабов, как последние заявляют, а рабовладельцы вовсе не бездушные чудовища, как их представляют. Рабство, будучи элементом, противным цивилизации и целям государства, является большим злом в первую очередь для самих рабовладельцев" (Цит. по: Nunez Ponte J. M. Sustenta teoria idilica de la esclavitud. Caracas, 1948, p. 230).
Из таких высказываний можно было бы составить не один том. Подобного рода рассуждения решительно опровергались аболиционистами. Ричард Р. Мадден, английский консул в Гаване и уполномоченный по делам освобожденных рабов, в книге "Остров Куба", впервые опубликованной в 1844 г., писал, что если бы рабовладельцы действительно относились гуманно к рабам, то последние не надрывались бы на работе, их сносно кормили бы и одевали, смертность среди них была бы меньшей, а рождаемость более высокой, среди них было бы больше стариков, беременные не трудились бы в поле до момента родов, негры совершали бы браки в церквах и имели бы возможность посещать богослужения в дни праздников, за беглыми рабами не охотились бы с помощью собак; рабовладелец, виновный в убийстве раба, привлекался бы к судебной ответственности.
Но ничего подобного не существовало тогда на Кубе. За соблюдение законов, в которых все это предусматривалось, наблюдали сами рабовладельцы. Правда, рабы, принадлежавшие к челяди, жили несколько лучше, чем трудившиеся на плантациях, но первых было незначительное меньшинство по сравнению со вторыми (См.: Madden R. R. La Isla de Cuba. Habana, 1964, p. 151-193). К тому же лучшее обращение с невольниками – личными слугами или служанками проживавших в городе плантаторов служило одним из средств закрепления системы рабства. Оно способствовало разъединению рабов и поставляло их хозяевам осведомителей и предателей, услугами которых пользовались для раскрытия заговоров, имевших целью уничтожить систему рабства (См.: Фонер Ф. С. История Кубы и ее отношений с США. 1492-1845 годы (от завоевания Кубы до "эскалеры"). М., 1965, с. 231).
Рабы-ремесленники, жившие в городах и работавшие на оброк, также составляли незначительное меньшинство по сравнению с массой плантационных рабов, их положение было более терпимым. Однако и они подвергались жестокой эксплуатации, жили завоевания Кубы до "эскалеры").
в антисанитарных условиях и всецело зависели от произвола их владельца.
Мадден опубликовал стихи кубинца, бывшего раба Хуана Франсиско Мансано, в которых высмеивается рабовладелец, рисующий посетившему его английскому аболиционисту "райское" житье своих рабов:
Вы видите их вон там, на тростниковом поле,
У них нет причин, поверьте, сетовать на свою долю;
Нет у них ни в чем нужды, нет и желания другого,
Кроме работы, в которой нет недостатка большого.
Я был бы только рад, если б они расстались со мной,
И половины их хватило б здесь с лихвой.
Посмотрите сами – поле не столь уж далеко,
Как веселы наши негры, как им живется хорошо!
Как рады они работе! Какой у них цветущий вид!
Каким счастливым даже невольник может быть!
Усилий не жалеем, чтоб сделать их такими,
От этого выигрываем мы сами вместе с ними;
Но и помимо выгоды, сами понимаете, конечно,
Наш долг – заботиться о них и обращаться с ними человечно.*
*(См.: Фонер Ф. С. История Кубы и ее отношений с США. 1492-1845 годы (от завоевания Кубы до "эскалеры"). М., 1965, с. 237).
Большинство иностранцев путешественников, посещавших плантации Кубы в XIX в., свидетельствовали, что рабы здесь питались отбросами, ходили в отрепьях, работали по 16-18 часов в день. Средняя продолжительность их жизни на плантациях не превышала десяти лет. Путешественники ужасались тому, как часто рабы кончали жизнь самоубийством (Рабы верили, что после смерти их дух перенесется на родину, в Африку, чтобы возродиться во плоти. Зная это, рабовладельцы четвертовали тела самоубийц или казненных в присутствии остальных рабов, а затем сжигали их). Причины этого нетрудно понять, достаточно было увидеть инструменты пыток – оловянные маски, кандалы и зубчатые ошейники, которые многие невольники вопреки закону, запрещавшему заковывать рабов в кандалы, были вынуждены носить в качестве наказания за различные мелкие случаи неповиновения (См.: Фонер Ф. С. Указ. соч., с. 231).
В работах самого Жильберто Фрейри, не говоря уже об исследованиях Ф. Ортиса и других латиноамериканских ученых, приводится множество примеров жестокости, произвола, садизма испано-португальских рабовладельцев по отношению к своим рабам.
Автор монографии о жизни рабов в Венесуэле видный венесуэльский этнолог Мигель Акоста Сайгнес пишет: "Многие исследователи утверждали, что Испания относилась благожелательно к африканцам и их потомкам и что в Венесуэле рабовладельцы особенно снисходительно относились к невольникам. Само сравнение испанского рабовладельческого режима с любым другим следует считать оскорбительным для памяти миллионов рабов, погибших в колониальное время, ибо было бы абсурдом обелять рабовладельческий режим только потому, что он был чуточку менее суров, или оправдывать пытки, лишение свободы или гибель людей только потому, что это делалось с чуточку меньшим садизмом или жестокостью. Рабство не может быть предметом извинений, а телесные наказания не могут в наше время оправдываться под каким-либо предлогом" (Acosta Saignes M. Vida de los esclavos negros en Venezuela. Caracas, 1967, p. 227). И далее автор, опираясь на свидетельства современников и официальные документы, доказывает, что рабовладельцы творили в Венесуэле не меньшие зверства по отношению к рабам, чем это делалось в других странах, в том числе США.
Испанская корона исходя из донесений колониальных чиновников об особенно бесчеловечном отношении к рабам в Перу и Новой Испании разрешила в 1710 г. колониальным властям по просьбе рабов, подвергавшихся суровым наказаниям, перепродавать их более "гуманным" хозяевам (Slavery in the New World, p. 77). Однако неизвестно ни одного случая такой перепродажи. По-видимому, это королевское распоряжение, как и другие, ему подобные, оставалось мертвой буквой. Раб мог избавиться от своего хозяина-тирана только в том случае, если подавал на него жалобу в суд, представлял свидетелей, добивался положительного для него решения суда. Ничего подобного он, разумеется, не мог сделать, ибо на плантации находился в абсолютной власти своего владельца и его надсмотрщиков.
'Покровительствуют' неграм-рабам
Что касается манумиссий, то они действительно имели место. Рабовладелец чаще всего отпускал на волю безнадежно больных или стариков, чтобы не заботиться о них, не лечить и не кормить их. Некоторые рабовладельцы, находясь на смертном одре, отпускали по завещанию на волю своих личных слуг, как правило, стариков. Иногда рабы, работавшие на оброке, покупали себе свободу. Но это были единичные, из ряда вон выходящие случаи. Если бы рабы так легко могли обрести свободу путем выкупа, как утверждает Ф. Танненбаум, то непонятно, почему они восставали против своих хозяев, поджигали плантации, скрывались в лесных дебрях, хотя это угрожало им при поимке мученической смертью, четвертованием, кастрацией.
Если рабовладельцы действительно так охотно отпускали невольников, как заверяют некоторые авторы, то какой вообще имело смысл приобретать их и тратить на это целые состояния, спрашивает доминиканский историк Уго Толентино. Он пишет: "Освобождение рабов в испанских колониях Америки, в том числе в Санто-Доминго, почти всегда являлось редким событием. Не следует смешивать, как это делают Танненбаум и Элкинс, благотворительный, но исключительный акт предоставления рабу свободы с благожелательным отношением к нему, которое хотя и предусматривалось законом, но встречало сильную оппозицию в колониальном обществе" (Tolentino H. Raza e historia en Santo Domingo, t. I. Santo Domingo, 1974, p. 137).
"Рабство, – пишет в свою очередь кубинский историк Рамиро Герра-и-Санчес, – породило по существу состояние постоянной войны между белыми и неграми, так как первые лишали последних их естественного права на свободу и в случае протестов или восстаний нещадно наказывали их, вплоть до того, что запарывали их насмерть. Рабство означало по существу непрерывное состояние войны. Белые считали, что право находится на их стороне. В силу освященного традицией закона они приобрели право собственности на слуг, уделом которых было подчиняться им, слушать их, работать и умирать для них. Негры, как бы невежественны и дики не были, смотрели на это по-другому. Их враждебное отношение к своим хозяевам носило оборонительный и поэтому справедливый характер. В конечном итоге все дело обстояло таким образом, что до тех пор, пока хозяин пользовался своей властью над невольниками, у последних не было никакой надежды на освобождение. У негров не оставалось другого выхода, как пытаться истребить белых" (Gnerra у Sanchez R. Manual de la Historia de Cuba. La Habana, 1938, p. 442).
Если согласиться с утверждением Ф. Танненбаума о преобладании испанской традиции благожелательства к рабам, то непонятно, почему именно Испания и Португалия оказали отчаянное сопротивление на Венском конгрессе 1814 г. принятию совместной декларации держав о немедленной отмене работорговли. Более того, даже в 1817 г., когда Испания такой договор подписала и согласилась, чтобы рабы, снятые с задержанных невольничьих кораблей, направлявшихся на Кубу, считались бы свободными (эмансипадос), она продолжала делать все возможное, чтобы поработить их. "Эмансипадос" по соглашению с Англией высаживались на Кубе и передавались на 7 лет под опеку плантаторам, которые должны были о них заботиться и приобщать к христианскому образу жизни. На практике плантаторы продолжали удерживать за собой "эмансипадос" как рабов и после этого срока. Учитывая большую смертность рабов на плантациях, владельцу ничего не стоило подменить умершего раба одним из "эмансипадос". За взятку приходской священник и сельский судья выдавали соответствующую справку. Рабовладельцы торговали "эмансипадос", как и другими рабами. "Пытаясь разрешить эту проблему, – пишет Филипп С. Фонер, – англичане предложили в случае перехвата невольников-негров немедленно освобождать их.
Однако кубинские власти ответили отказом. Они утверждали, что рост численности свободных негров на острове подорвет систему рабства и что немедленное освобождение невольников из Африки явится опасным примером для других невольников на острове" (Фонер Ф. С. Указ. соч., с. 233).
Когда англичане предложили вернуть всех "эмансипадос" в Африку, испанские власти на Кубе воспротивились и этому, ссылаясь на большие расходы, а также на то, что такое предложение "чуждо христианскому духу, так как оно означало бы вновь ввергнуть этих людей в омут язычества".
Если поверить утверждениям некоторых буржуазных и клерикальных авторов, то получится, что рабы души не чаяли в хозяевах, а хозяева – в рабах, рабовладелец был благодетелем, только для того приобретавшим раба, чтобы обратить его в добропорядочного христианина, спасти его душу и затем возвратить свободу. Колониальная действительность не имела ничего общего с этой сусальной рождественской открыткой.
Работорговцы не только не стремились облегчить положение рабов или освободить их, а жесточайшими карами подавляли любые их попытки улучшить свою долю, а тем более вырваться на свободу. Когда в середине XIX в. участились восстания рабов, "либеральный" губернатор Пуэрто-Рико генерал Хуан Прим издал приказ (от 31 мая 1848 г.), согласно которому все негры и мулаты – рабы и свободные – за любое нарушение порядка предавались военно-полевому суду, который выносил приговор, не подлежащий обжалованию. Рабы за неповиновение карались смертной казнью, свободным неграм и мулатам отрубалась правая рука (Franco J. L. AfroAmerica, p. 110). Столь же "гуманно" относились власти к непокорным африканцам на Кубе и в Бразилии.
Факты опровергают и утверждение Ф. Танненбаума об отсутствии в Латинской Америке расизма, расовой дискриминации. Кубинский марксист Рауль Сеперо Бонилья в работе "Сахар и аболиционизм" с предельной убедительностью показал, что расизм был свойствен кубинским плантаторам, как "либеральным", так и консервативным, в неменьшей степени, чем плантаторам США. Кубинские плантаторы оправдывали рабство мнимой расовой неполноценностью негров. "Они считали, – пишет Р. Сеперо Бонилья, – что цвет кожи превращал негра в раба, а белого – в господина" (Cepero Bonilla R. Azucar у abolicion. La Habana, 1971, p. 125). Эти взгляды пустили столь глубокие корни на Кубе, что даже противники испанского колониализма – руководители войны за независимость 1868-1878 гг. – вначале выступали против отмены рабства и только после серьезных поражений встали на путь аболиционизма.
Но, может быть, иным было положение негров в Бразилии? Нет, категорически отвечает Ч. Боксер, известный специалист по истории Португалии и ее владений, "колониальная Бразилия была адом для черных" (Boxer Ch. Race Relations in the Portugese Colonial Empire. 1415-1825. Oxford, 1963, p. 114).
Многочисленные данные показывают, что бразильские рабовладельцы продавали раздельно рабов – членов одной семьи. Более того, рабовладельцы со спокойной совестью торговали своими собственными "незаконнорожденными" детьми, прижитыми от невольниц. Закон, запрещающий продажу собственных детей, был принят в Бразилии только в 1875 г. (См.: Morner M. Op. cit., p. 117).
Подобно другим рабовладельческим обществам, в Бразилии провинившихся рабов обваривали кипятком, зажаривали на медленном огне, подвергали другим изощренным пыткам. Всеми уважаемые плантаторы, сходившие за "приличных" и даже просвещенных людей, располагали в своих поместьях камерами пыток с набором палаческого инструмента, которым могла бы позавидовать сама "святая" инквизиция. Рабовладельцы подвергали "строптивых" рабов наказанию "новенас" – систематической порке в течение девяти или тринадцати дней, причем вызванные от ударов плетью рубцы для усиления пытки разрезались бритвой и натирались дьявольской смесью из мочи и соли. Жизнь раба на плантации начиналась с порки (двести ударов плетью) не за какую-либо провинность, а только для того, чтобы "объездить" его, запугать, отбить всякую охоту к сопротивлению и неповиновению. Рабовладельцы считали рабов существами низшего сорта, которыми можно было управлять, только применяя физические наказания. Это распространенное убеждение в расовой неполноценности рабов оправдывало режим ненависти и жестокости, который раб был не в силах изменить, ибо даже избиения со смертельным исходом оставались безнаказанными (Slavery in the New World, p. 77-78). Что же касается права раба купить себе свободу, то в Бразилии появилась возможность пользоваться этим правом только в 1871 г.
Чем же тогда объясняется отсутствие в странах Латинской Америки цветного барьера, который имеется в Соединенных Штатах?
Правильное объяснение этому явлению, на наш взгляд, дает американский исследователь Марвин Харрис. Он указывает, что в испанских колониях и в Бразилии негров и индейцев было в несколько раз больше белых. Между 1509 и 1790 гг. в испанские колонии Нового Света иммигрировало всего 150 тыс. испанцев, еще меньше португальцев переехало в Бразилию, в то время как рабов было сюда ввезено за этот же период несколько миллионов.
Иной была картина в британских владениях Вест-Индии. По данным переписи 1715 г., там проживало 375 тыс. белых и 60 тыс. рабов, приблизительно в то же время в Бразилии из 300 тыс. населения рабы составляли третью часть. По данным 1819 г., в Бразилии из 3618 тыс. жителей только 834 тыс., или меньше 20%, составляли белые, а в США из 9638453 человек их было более 80%, или 7866797 (Slavery in the New World, p. 51-53). В том же году на Кубе из 553033 жителей 313203 были цветными (или около 55%), включая 97 тыс. рабов (Ortiz F. Los negros esclavos. Habana, 1916, p. 22-23).
Преобладание негритянского населения над белым вынудило последнее, как отмечает М. Харрис, создать буферную метисную группу. Этой группе вменялись определенные экономические и военные функции, которые не могли выполнять рабы, а белых для этого не хватало. В Бразилии такими функциями были: изгнание индейцев из сахароводческой прибрежной зоны, захват их в рабство, роль надсмотрщиков, охота за беглыми рабами (Slavery in the New World, p. 54). Последние две функции были характерны и для испанских колоний, в частности для Кубы. В испанских владениях мулаты составляли основную массу ополчения (милиции), которая в силу малочисленности испанских войск играла важную роль в обороне колоний от набегов пиратов и других противников Испании, а также в подавлении оппозиционных движений. Однако мулаты были лишены привилегий, которыми пользовались белые ополченцы (Race and Class in Latin America. New York, 1970, p. 17). Последние, например, не платили налогов.
Освобождение рабов всегда являлось следствием деятельности не колонизаторов, рабовладельцев и церкви, а революционных процессов, направленных против этой троицы. Так было в США (война между Севером и Югом) и в Латинской Америке (революция в Сан-Доминго, война за независимость испанских колоний 1810-1826 гг., Десятилетняя война за независимость Кубы (1868-1878), свержение монархии в Бразилии и т. д.).
Однако и после освобождения рабов расистские настроения проявлялись к неграм, а также к индейцам в писаниях идеологов господствующих классов. К примеру, аргентинский социолог Карлос Октавио Бунхе писал в книге "Наша Америка", опубликованной в начале XX в., что только потомкам выходцев из Европы присуща "христианская мораль", в то время как индейцы и негры, мулаты и метисы отличаются отсутствием "морального чувства" (Bunge С. О. Nuestra America. Ensayo de psicologia social. Buenos Aires, 1918, p. 184, 196).
Бунхе утверждал также, что негр не способен от природы по своим биологическим свойствам "выполнять интеллектуальную и руководящую работу", а индейцев он осуждал за якобы присущий им "восточный фатализм". Говоря о мулатах и метисах, Бунхе отмечал: "И те, и другие порочны, атавистично антихристиане, похожи на двухголовую сказочную гидру, которая схватила, сжимает и душит своими гигантскими щупальцами прекрасную и бледную непорочную деву – Испанскую Америку" (Bange С. Op. cit., p. 149).
Расистских взглядов придерживался боливийский писатель Альсидес Аргэдас, впервые высказавший их в книге "Больной народ" (1909), а затем ставший сторонником нацизма. И даже прогрессивный в целом аргентинский социолог Хосе Инхеньерос в своих ранних работах начала XX в. высказывался против негров и мулатов.
Каким же было отношение католической церкви к институту рабства, отличалось ли оно от политики американских католиков в этом вопросе? Можно ли говорить, как это делал Танненбаум, о симпатиях церкви к рабам?
Напомним, что христианская религия возникает в рамках Римской империи как религия порабощенных, проповедующая равенство всех людей перед лицом бога. Равенство это мыслилось только в духовной области, а не в социальной. Освобождение предполагалось лишь в потустороннем мире в качестве награды за смирение перед страданиями в этой "юдоли плача". Церковная иерархия призывала порабощенных не к свержению власти эксплуататоров, а к непротивлению злу, к покорности, терпению, повиновению перед сильными мира сего, ибо такова воля божья, помыслы же бога неисповедимы, не поддаются расшифровке, не оспариваются, не подвергаются сомнениям.
Правда, на протяжении веков можно найти папские документы, в которых осуждалась работорговля, но это было в тех случаях, когда папа таким образом пытался осудить своих противников, например венецианцев, занимавшихся торговлей рабами, или англичан. Но проходила конфликтная ситуация, и папский престол тут же забывал о своих анафемах против работорговли. Папство не осуждало ни португальских, ни испанских работорговцев, ни католических королей Испании и Португалии, запродававших патенты на торговлю рабами (асиенто) и взимавших за каждого ввозимого в колонии раба пошлину.
Некоторые сторонники колониализма обвиняют Бартоломе де Лас Касаса в том, что он якобы первый предложил ввозить негров-рабов и поэтому повинен в распространении рабства в Новом Свете. Это обвинение не подкрепляется фактами. Лас Касас не был ни первым, кто выдвинул эту идею, ни ответственным за то, что она привилась в колониях. Отвественность за рабство несут испанская корона, колониальные власти и поддерживавшая их церковь (Ortiz F. Contrapunteo cubano del tabaco у azucar. La Habana, 1963, p. 418-419).
Рабство было весьма распространенным явлением в Испании XV-XVI вв. Католические короли Испании сами участвовали в работорговле, как, впрочем, и Христофор Колумб еще до открытия Америки. Испанские короли обращали в рабов пленных мавров, дарили их папам (Los primeros memoriales de fray Bartolome de Las Casas. La Habana, 1972, p. 79). Только в Севилье в 1568 г. насчитывалось 6327 рабов (Morner M. Op. cit., p. 16). Колумб рассчитывал превратить в рабов индейцев, во всяком случае первых индейцев, которых он послал в Испанию в "подарок" Фердинанду и Изабелле, он считал своими рабами.
Обращает внимание не то, что Бартоломе де Лас Касас советовал вместо порабощения индейцев, быстро вымиравших от непривычного для них труда на плантациях и в рудниках, ввозить в колонии рабов из Испании, а то, что никто из его современников, в том числе церковники, не возражал против его предложения, ибо все они считали порабощение негров естественным правом белого человека, узаконенным королем и церковью.
Вопрос об ответственности Бартоломе де Лас Касаса за установление рабства в испанских колониях был подробно рассмотрен Фернандо Ортисом (Ortiz F. Contrapunteo…, p. 356-431). Кубинский ученый отмечает, что первое королевское разрешение на ввоз негров-рабов в Новый Свет было дано 16 сентября 1501 г., то есть за 15 лет до предложения Лас Касаса. Фернандо Ортис обращает внимание на то, что Лас Касас был далеко не единственным представителем церкви, ходатайствовавшим о ввозе черных рабов в колонии. В 1510 г., по свидетельству хрониста Эрреры, доминиканские монахи обратились с такой же просьбой к королю и год спустя получили разрешение на ввоз рабов (Ibid., p. 363). 22 июня 1517 г. монахи-иеронимиты, которым было временно поручено управление островом Эспаньола, тоже просили короля (со ссылкой на мнение находившихся на острове францисканцев и доминиканцев) направить к ним негров-рабов, но уже не из Испании (они считали их "развращенными" и склонными к бунту), а "босалес" – "диких", не говорящих по-испански, прямо из Африки. Свою просьбу они повторили 18 января 1518 г. Об этом же говорит прошение, направленное Карлу V в том же году иеронимитом Бернардино до Монсакедо и его коллегами по ордену монахами Луисом Фигероа и Алонсо де Санто-Доминго. Причем последние просили разрешить им направить экспедицию за неграми к Зеленому Мысу и Гвинее (Ibid., p. 367-369).
К чести Лас Касаса следует сказать, что он впоследствии изменил свой взгляд на рабство и одним из первых, если не первый и единственный представитель духовенства в XVI в., осудил его с такой же решительностью и страстностью, с какой он осуждал рабство индейцев.
Вот как описывает Лас Касас изменение своих взглядов в своем знаменитом труде "История Индий": "Еще до изобретения мельниц (перерабатывающих сахарный тростник. – И. Г.) некоторые жители острова (Эспаньолы. – И. Г.), у которых был прикоплен кое-какой достаток, нажитый потом и кровью индейцев, захотели получить разрешение на закупку в Кастилье негров-рабов, ибо видели, что индейцев у них скоро совсем не останется. Были среди них и такие… которые обещали клирику Бартоломе де Лас Касасу (о себе автор говорит в третьем лице. – И. Г.) отпустить на свободу всех своих индейцев, если тот раздобудет и достанет разрешение и лицензию, по которой они смогут завезти на остров дюжину-другую негров. Ввиду этого, поскольку упомянутый клирик по вступлении короля на престол (подразумевается Карл V. – И. Г.) оказался у него в большой чести… и обрел возможность влиять на ход событий в Индиях, он добился от короля, чтобы испанцы здешних островов получили право ввозить негров-рабов из Кастильи и таким образом смогли бы освободить индейцев".