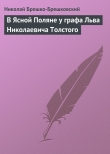Текст книги "Возвращение на круги своя"
Автор книги: Ион Друцэ
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
– Слушаю вас, Елизавета Ивановна.
Графиня отпила глоток чая – у нее на старости часто пересыхало горло, и она почти не расставалась с маленькой чашечкой, наполненной крепким чаем.
– Впрочем, – сказала она, – вы, верно, и без меня все знаете. Моего единственного сына, Владимира Григорьевича, опять выслали из Тульской губернии, где он проживал с женой и сыном.
Генерал долго думал, склонив седую голову набок.
– Его одного выслали или вместе с семьей?
– В том-то и дело, что одного. Отца разделили с сыном… – Голос графини дрогнул, и она опять отхлебнула из чашечки.
– Вам известно содержание постановления о его высылке?
– Нет, но, право, что там может быть нового… Опять Толстой, опять распространение его идей, или толстовство, как это теперь называется…
После долгого молчания Рихтер сказал, как бы думая вслух:
– Странный у вас сын, Елизавета Ивановна…
Графиня вспыхнула, и на ее старческих щеках стало розоветь что-то в виде румянца.
– Боюсь, что вы меня не так поняли, Оттон Борисович… Я ведь не собиралась жаловаться вам на своего сына…
Генерал улыбнулся:
– Да и вы мои мысли не совсем угадали… Я не то что осуждать, а хвалить собирался… У нас в России редко кто увлекается надолго, особенно таким эфемерным товаром, каким являются идеи, и вот, поди же ты, ему скоро пятьдесят, и половину своих лет он служит идеям, которых как-то и не уловишь сразу…
– А хвалить его тоже не за что, – сказала графиня сухо. – И если бы у меня было двое сыновей, вряд ли бы я подошла к вам сегодня. Но он у меня один.
– И чем я могу быть вам полезен?
Графиня встала, вышла в соседнюю комнату и вернулась оттуда с запечатанным сургучом пакетом.
– Будьте другом, Оттон Борисович. Сделайте так, чтобы это прошение попало на стол к императору в тот день, когда самые сложные и обреченные дела имеют хоть какой-нибудь шанс на благоприятный исход…
Она не передала конверт генералу, а положила на стол, так что Рихтер должен был протянуть руку и сам взять конверт, если он сочтет это возможным. Старому генералу эта щепетильность понравилась. Его рука поползла по белому мрамору столика, но замерла, едва пальцы коснулись бумаги.
– Елизавета Ивановна… Прошлый раз, когда мы с вами подавали императору прошение о разрешении Владимиру Григорьевичу вернуться из Англии, чтобы проститься с умирающим Толстым…
– Тогда нам отказали, я помню.
– Дело не в том, что отказали. Само появление этой бумаги на столе императора вызвало невероятный приступ гнева его величества.
Графиня пересела на другой стул, поближе к Рихтеру. Долго думала над чем-то и вдруг спросила тихо, интимно:
– Скажи, Оттон, ты сильно боишься высочайшего гнева?
Генерал молодцевато выпрямился и улыбнулся.
– Не больше, чем это нужно для того, чтобы в империи царили мир и порядок.
Взял конверт, раскланялся и вышел.
Хотя было начало нового века, Россия все еще жила остатками славного девятнадцатого, при котором никто особенно не торопился и каждому непременно нужно было добираться до сути, до главного вопроса бытия. Очаровательный уголок природы в средней полосе России, Ясная Поляна тоже жила ритмами, проблемами, атмосферой ушедшего века. И может, потому гости здесь заживались подолгу, часто особо интересные споры переносились на следующий день, и не было ничего удивительного в том, что вот еще утро и тот же нищий Фаддей стоит под Деревом бедных у входа в яснополянский дом. Мимо него бегают дворовые, кухарки, конюхи, а он сидит, сонно зевает и изредка, не оборачиваясь, дергает висящую за его спиной веревку. Один из дворовых, пробегавших мимо, огрызнулся:
– Ты чего, Фаддей, чуть свет трезвонишь?
– Барина твоего давно не видамши.
– Соскучился, что ли?
– А то!
Поднимаясь в столовую, Лев Николаевич услышал звон. Подошел к окну, увидел знакомую могучую спину в лохмотьях. В столовой, едва поздоровавшись, попросил ожидавшего его секретаря:
– Валентин Федорович, голубчик, но можете ли вы мне одолжить рубль мелочью?
– Ради бога… А зачем вам деньги в такую рань?
– Так ведь звонят, все утро прозвонили.
– Ну нашли о чем печалиться! Этот самый Фаддей из Неменки на редкость бесстыж и бессовестен. Чуть ли не каждый день будит нас. Что же вы, так каждый день и будете подавать ему?
Лев Николаевич сказал шепотом:
– Этого Фаддея и опасаюсь. Он очень злой и рассказывает про меня разные гадости.
– Ну и пускай его!
– Да нет, все-таки мне это неприятно…
Получив мелочь у секретаря, Лев Николаевич внимательно ее сосчитал, распределил разными долями по карманам, после чего сел за приготовленный ему прибор. Есть не хотелось – все оглядывался и соображал что-то.
– Вы не очень хорошо выглядите. Плохо спали, Лев Николаевич?
– Где уж в мои годы свежим выглядеть по утрам!.. В мои годы, если во сне сделается складка на лбу, так полдня с той складкой и проходишь…
И все оглядывался, точно попал в чужую комнату. Что-то нарушало привычный, годами устоявшийся порядок. Наконец облегченно вздохнул, заметка в углу на маленьком столике граммофон.
– Это что, новая покупка?
– Как же, он у нас именинник! Как только привезли вчера с фабрики, тут народу набилось битком, и до позднего вечера слушали записанные на пластинки ваши беседы о Евангелии.
Лев Николаевич долго и мучительно припоминал вчерашний вечер. Сказал встревоженному Булгакову:
– Пусть это вас не беспокоит, у меня часто бывают такие провалы памяти… А скажите, кроме моих старческих дребезжаний, ничего не исполнялось?
– Было еще два цыганских романса.
Лев Николаевич засиял.
– Ну конечно, как я мог забыть! У меня даже возникла какая-то мысль относительно цыганского пения – не то записал, не то собирался только записать.
Вошла молодая девушка с завтраком. Лев Николаевич. спросил удивленно:
– Почему только один прибор? Разве Валентин Федорович не будет завтракать со мной?
– Благодарю вас, Лев Николаевич. Я свой кофий давно уже выпил.
– Вот и вы отказываетесь… За всю жизнь я так и не смог найти охотников до овсяной каши. Завтракаю один. Она и вправду безвкусна, мне самому надоело ее есть, да ведь я не в том возрасте, когда человек может себе позволить менять привычки…
Заправляет салфетку за воротник, начинает завтракать, и в том, как он сидит и как обращается с приборами, на миг проглядывает сиятельный граф, сохранивший на всю жизнь основы хорошего воспитания.
– Валентин Федорович, вы можете пересесть подальше. Я ведь хорошо помню, что мне неприятно было смотреть, как беззубые старики чавкают за столом, Я думаю, и на меня смотреть тоже не очень большое удовольствие.
– Ну что вы, Лев Николаевич… До тех стариков, о которых вы говорите, вам еще далеко.
– Спасибо, голубчик.
Вошла Софья Андреевна. Подошла, поцеловала мужа в темя.
– Доброе утро, Левочка.
– Благодарю тебя, мой друг. Доброе утро.
– Тебе нездоровится?
– Да нет, я как будто нынче ничего.
– У тебя опять странные глаза. Не было ночью припадка?
– Не помню. Кажется, припадка в полном смысле слова…
Софья Андреевна всплеснула руками.
– О господи, но почему ты меня не разбудил! Ты же не можешь обходиться без моей помощи. Особенно после припадка, я знаю, как тебе бывает трудно…
Лев Николаевич долго и аккуратно подбирал ложечкой остатки овсяной каши, думая при этом: «Интимная жизнь остается неповторимой до тех пор, пока она окутана тайной. У каждого человека должен быть свой врожденный стыд, и это прекрасно, что он закрывает одеждой все то, что не нужно, и оставляет открытым только то, в чем выражается духовное, то есть лицо. У меня всегда было это чувство стыда, и, например, вид женщины с оголенной грудью мне всегда был отвратителен, даже в дни молодости. Тогда, правда, к этому примешивались и другие чувства, но все-таки было стыдно».
Вслух он сказал кротко:
– Давай сегодня проживем в мире, Сонечка.
Софью Андреевну задело то, что он подумал одно, но сказал другое, и она уронила сухо:
– Хорошо. Мне уйти?
– Нет, зачем же. Я очень рад тебя видеть. Кстати, вчера под вечер тебе была телеграмма. Ты видела ее?
– Да. Это от вдовы Маркса. Она обещает начать новое собрание сочинений в самое ближайшее время…
Лев Николаевич долго размешивал кофе.
– Сонечка, если ты помнишь, я тебя просил подсчитать все и найти возможность удешевить мои собрания сочинений. Все-таки они слишком дорого стоят, и простому человеку может быть не по карману приобрести мои книги.
Софья Андреевна усмехнулась:
– Кажется, ты все еще носишься с заманчивой идеей пустить всех нас по миру?
– Сонечка, ну зачем такие крайности!.. Я издаю «Круг чтения» по самым низким ценам, я собираюсь достичь того, чтобы эти книги вообще бесплатно издавались, а цены на собрания сочинений растут с каждым годом… Мое имя не может одновременно печататься и на самых дешевых, и на самых дорогих книгах!
Софья Андреевна взорвалась:
– Я сейчас принесу расчеты, я покажу тебе бухгалтерские книги, я призову в свидетели бога, что ни копейкой дешевле не могу издавать твои сочинения. И вообще нам нужно поговорить в кругу семьи. Слишком мною всего накопилось.
– Ну хорошо. Успокойся, Сонечка.
Как только Софья Андреевна заговорила о делах, в дверях показался один из младших сыновей Толстых – Андрей Львович.
– Доброе утро.
Софья Андреевна поцеловала его в лоб, а Лев Николаевич едва кивнул. Андрей Львович, чтобы не терять нити спора, спросил:
– Папа, можно ли истолковать твои последние слова в том смысле, что завещания, о котором говорит вся Россия, ты еще не писал и не собираешься писать?
«Ах, у нас еще и слух хороший», – подумал Лев Николаевич и, не глядя на него, сказал сухо:
– Я не желаю отвечать на ваш вопрос.
Вошла Татьяна Львовна. Села рядом с Львом Николаевичем, молча поцеловала его. Софья Андреевна, видя, что серьезного разговора все равно не получится, сказала более миролюбивым голосом:
– Не надо раздражаться. Раздражение – плохой советчик. Что поделаешь, у нас много детей. А кроме того, я должна еще и о тебе заботиться. Писатель должен иметь досуг для работы и, следовательно, деньги. Другими словами, он должен быть богатым, иначе не сможет исполнить то, к чему чувствует себя призванным. Если он целый день пробудет на службе, то когда – ночью, что ли, – работать ему?
Лев Николаевич снял салфетку, аккуратно вытер усы и бороду.
– Напротив, настоящий художник проработает целый день на службе да потом так увлечется, что пропишет еще и целую ночь. Бедность не помеха для таланта. Наоборот, я думаю, что при бедности одни истинные таланты и будут работать…
Софья Андреевна улыбнулась.
– А что будет делать его семья, когда он, наслаждаясь свободой, которую дает бедность, будет сочинять по ночам?
Лев Николаевич определенно чувствовал себя неуютно в этой комнате. Что-то все время стесняло, раздражало, он снова оглянулся, и его лицо опять нахмурилось.
– Как он противен – и этот граммофон, и его труба! И почему он обязательно должен тут торчать, разве его невозможно убрать куда-нибудь?
На улице методично и ровно продолжали звонить в колокол. Лев Николаевич дал Булгакову монетку, тот вышел, и звон сразу же утих. Когда Булгаков вернулся, Софья Андреевна сказала примирительно:
– Мы его поставили на видное место только потому, что это подарок граммофонной фабрики. Они же целую неделю промучились, записывая твои беседы.
Лев Николаевич махнул рукой.
– Глупости все это. Все технические изобретения интересны только поначалу, потом они надоедают, и глаз скользит по ним, даже не замечая их. А живое всегда неповторимо, в каждом отдельном случае. Живое не приедается. Интерес к лошади нисколько не спал со времен изобретения велосипеда, хотя эти велосипеды, возможно, со временем вытеснят лошадей совершенно. Но это еще не будет означать победы техники над живыми существами.
Татьяна Львовна улыбнулась.
– Слава богу. Когда ты начинаешь говорить о лошадях, это почти всегда признак выздоровления. Сказать, чтоб оседлали Делира? Ты уже недели две как не ездил на прогулки верхом.
Толстого занимало совсем другое:
– Нет, этот граммофон мне определенно не нравится. Вынесите его.
Валентин Федорович, хоть и пошел переносить граммофон, спросил:
– Лев Николаевич! А мне вчера показалось, что вам граммофон понравился. Весь вечер лицо светилось, и сидели вы ублаженный…
– Сидел ублаженный потому, что торчал весь вечер человек с фабрики. Нельзя же в самом деле! Это подарок, и, надо думать, не дешевый. А то, что лицо светилось, это не имеет никакого отношения к граммофону. Я думал весь вечер о цыганском пении, жалкое подобие которого вырывалось из этой трубы. Цыганское пение – великое искусство, еще не оцененное по достоинству. Нет ли у кого свободного клочка бумаги? Надо записать эту мысль, а то опять забуду.
Булгаков протянул ему чистый лист, но Лев Николаевич замахал руками:
– Ну что вы, это ценная бумага, она для художественной работы, с нее можно новый роман начать, а мне бы жалкий клочок для путаных мыслей восьмидесятилетнего старика…
Взял со стола чье-то письмо. Чистую, неисписанную часть листа аккуратно оторвал и начал писать. И в наступившей тишине, пока Лев Николаевич писал, разобрали граммофон, тихо вынесли, а Лев Николаевич, увлекшись, все выводил букву за буквой. Потом, когда граммофона не стало, домашние собрались и сидели тихо, пристально следя за его рукой, водившей пером по бумаге. Лев Николаевич писал и в то же время думал: «Мое горе состоит в том, что мои писания, рукописи вызывают у людей чувство алчности, чувство соревнования за обладание ими. Когда я работаю, они не думают о том, что я пишу, а думают единственно только над тем, куда попадет этот клочок бумаги и как бы заполучить его…»
По мере того как перо, устав, закругляло последние буквы, близкие Льва Николаевича вставали, уходили, остался один Валентин Федорович. И, как бы отвечая на внутренний монолог Толстого, молодой секретарь сказал вслух:
– Сами виноваты. Зачем так много пишете?
Лев Николаевич воодушевился:
– Вот-вот! Моя вина, конечно… Так же, как виноват я и в том, что народил много детей, а они все бестолковые и делают одни неприятности… Одним словом, держись, Лев Николаевич! И я держусь.
У выхода из барского дома человек семь странников-толстовцев сидели на маленькой скамеечке. Они сидели и ждали, когда выйдет Лев Николаевич. Сидели, как в театре, следили во все глаза за тем, как конюх вывел из конюшни красавца Делира, как поставил его под седло.
Часов в двенадцать вышел Лев Николаевич. Первое, что бросилось ему в глаза, – орава нищих и Делир, его большой любимец. Они настолько не вязались, нищие и красивый чистокровный скакун, что на мгновение Лев Николаевич смутился. Потом, легко преодолев свое состояние, подошел к ожидавшим его людям. Долго слушал их путаные, сбивчивые рассказы, и расспрашивал, и входил в положение каждого, после чего, без особой охоты покопавшись в карманах, дал им по медяку. Постоял, ожидая, когда они разойдутся, но они не расходились. Им хотелось еще посмотреть, как восьмидесятилетний старец сядет на такого красивого молодого коня. Лев Николаевич подошел, проверил, хорошо ли затянута подпруга. И тем временем думал: «Каждый раз, когда я собираюсь ехать на прогулку, толпа нищих провожает меня. Небось думают: проклятый старикашка! Говорит одно, а делает другое. И что они еще при этом думают, то позволь мне, Сонечка, знать лучше тебя…»
Лев Николаевич погладил морду лошади. Делир мягко, кончиками губ, тронул его в знак приветствия.
– Ну-ну… Зачем же так…
Осмотрел передние копыта, подозвал конюха:
– Отведи Делира на кузницу, передай – пусть раскуют и отдадут его в общий табун.
Похлопал еще раз лошадь по загривку, сухо, с достоинством попрощался, затем, с трудом преодолевая нахлынувшие чувства, медленно, нетвердым шагом поплелся в сторону леса.
Потеря равновесия ведет к непредсказуемости, касается ли это мальчика, впервые севшего на двухколесный велосипед, касается ли это крупнейшей державы мира. Россия начинала век, взбудораженная войнами, революциями, бесконечными брожениями в обществе. Она теряла равновесие, и это иногда приводило к неслыханным ранее явлениям. Вдруг в холодном и невозмутимом Петербурге заявляется Распутин.
Авантюрист и проходимец, по мнению одних, пророк и спаситель государства, по мнению других, он неистовствовал по всей России и, обладая недюжинным умом, твердым характером и магическим даром влиять на страждущие души, ко времени своего появления в Петербурге достиг уже славы небывалой. Одно из основных положений его учения – если то, что исповедовал Распутин, можно назвать учением – состояло в том, что души людские должны очиститься только путем нового и уже сознательного прегрешения.
Женщин он легко уламывал на сожительство с ним, и они, едва выбравшись из его постели, уже кричали на всех перекрестках о своем очищении, о своем исцелении. Роняя тут и там чудеса духовного перерождения, Распутин присматривался к взбудораженной предреволюционными грозами столице и ждал. При всей своей взбалмошности этот пророк из сибирской глуши обладал прочным, незыблемым характером и прекрасно понимал, что теперь, когда все снялось с места и несется невесть куда, прочность, незыблемость его натуры еще скажет свое, возможно, великое слово.
Так оно в конце концов и произошло. Похоже, и в самом деле рок угасания витал над родом Романовых. Наследник русского престола страдал гемофилией кровоточивостью, происходящей от плохой свертываемости крови. Уже несколько лет император и его супруга не ведали покоя, и никакие светила, никакие снадобья, ничего не помогало малышу. Поначалу, говорят, император сопротивлялся появлению во дворце Распутина, и тогда сама императрица Александра Федоровна тайно, ночью, впустила в спальню наследника святого отца. Распутин, подойдя к кровати мальчика, размашисто положил свою лапу на макушку больного и приказал своим громовым голосом:
– Встань, дитё, и улыбнись матери, тебя породившей… И поскольку императрица стояла, окаменевшая, у окна, он сказал ей:
– Иди, мать, дитё тебе улыбается…
Мальчик действительно улыбался, после чего прекрасно провел ночь, затем с каждым днем чувствовал себя все лучше и лучше, свертываемость царской крови восстановилась, и это оказало непредвиденное влияние на судьбу всей Российской империи. Потому что с того самого дня уже не Государственный совет, не Дума, не совет министров и даже не сам император правил государством. Во всех приказах, постановлениях и законах чувствовалась рука Распутина. Он появлялся во дворце в любое время дня и ночи, присутствовал при обсуждении и решении всех вопросов: впрямую редко вмешивался, зато не переставал сыпать афоризмами собственного сочинения, над которыми долго потом император и его супруга ломали голову, находя в них все новые и новые глубины…
Влияние его на царскую чету и на решения судеб России было столь велико, что многие всерьез утверждали, будто Россия была втянута в первую мировую войну только потому, что не было Распутина в столице. Какая-то дура, с которой он некогда сожительствовал, пырнула его ножом, вынудив некоторое время отлеживаться в сибирской провинциальной больнице. Впрочем, Распутин и сам не раз утверждал, что, будь он тогда в Петербурге, он бы не допустил кровопролития.
Вернемся, однако, к событиям 1910 года. Однажды в кабинете государя разбирали сообщение о попытке террористов взорвать бомбу в доме бывшего председателя совета министров Витте. Деликатность положения состояла в том, что новая верхушка власти ненавидела старого премьера, многие подозревали, что попытка убийства была кем-то из них же инсценирована, но так или иначе попытка сорвалась, и теперь нужно было создать видимость соблюдения законов.
Сидевший возле белой фаянсовой печки Распутин, долго и шумно сморкавшийся, сказал вдруг своим низким басом:
– С графами, ваше величество; нам не повезло… Один граф, Витте, умен, да не в ту сторону, другой граф, Толстой, верит, да не в того бога…
Государя вдруг обожгло воспоминание о том письме, которое было передано ему конфиденциально. К тому же на днях ему передали еще какое-то прошение в связи с тульскими делами…
– Петр Аркадьевич, – обратился он к Столыпину, – а каково положение в Тульской губернии?
Столыпин принялся перелистывать полученные накануне рапорты губернаторов. Он не любил этого немытого мужлана Распутина. Еще больше Столыпин не любил видеть Распутина рассиживающим здесь, в кабинете, – в его присутствии государь вел себя очень агрессивно и, словно для того, чтобы показать своему Другу, как он называл Распутина, твердость характера, принимал иногда на редкость спорные и неожиданные решения. Теперь Столыпин тянул время, надеясь, что этого нечесаного проповедника распарит возле горячей фаянсовой печки и он наконец освободит их от своего присутствия. Но нет, Распутин был еще и жароустойчив – сопит, вытирает обильный пот и следит краешком глаза за происходящим.
– Положение в центральных наших губерниях…
Государь нетерпеливо дернул головой:
– Я вас не о центральных спрашивал. Я говорил об одной Тульской губернии.
– По вчерашнему донесению губернатора, положение в Туле после недавних крестьянских восстаний движется к нормальному…
– Зачем же вам тогда нужно было высылать Черткова, если положение движется к нормальному?
Столыпин стоял озадаченный. Чертков был выслан, разумеется, с согласия государя, но теперь либо произошли изменения в позиции государя, либо имели место какие-то события, о которых ему еще не доложили. На всякий случай Столыпин начал осторожно, издали, чтобы выиграть время:
– Ваше величество, мы вынуждены были принять эту меру потому, что толстовство, как мы и предполагали, из полурелигиозного, полупросветительского движения стало движением сугубо политическим. Основанный в Англии тем же Чертковым журнал «Свободное Слово» из номера в номер печатает нежелательную для нас информацию о всевозможных нарушениях в тюрьмах и штрафных батальонах…
– Чем торгуем! – грохнул наконец разопревший у печки Распутин. Страданиями народа торгуем! Немцы бы до этого не допустили, нет. Но мы этим занимаемся, потому что мы народ погибающий… Настанет день, и очень скоро, когда пылинки от этого великого народа не останется и имя его неведомо миру будет…
Он встал, огромными шагами направился к выходу. В дверях остановился, сказал государю более тихо, интимно, миролюбиво:
– Сумерничать приду.
Петр Аркадьевич наконец облегченно вздохнул. Генерал Рихтер, войдя с какими-то срочными бумагами, замер у стола, заметив неудовольствие государя. Император, почувствовав себя пустым и заброшенным после ухода Друга, подошел к окну и долго следил за тем, как воронья стая облетает примыкающий к Адмиралтейству парк. Смотрел, какая ворона и куда садится, откуда взлетает, и Столыпин подумал, что государю ужасно хочется пострелять. Он знал, что государь любит в минуты отдыха пострелять по воронам. Видел ли он в них предвестников будущих бед и пытался своей двустволкой их предотвратить, или, может, ему действовали на нервы нескончаемые «кар-кар-кар» и он жаждал насладиться той тишиной, которая после выстрелов наступала?
Вдруг государь спросил не оборачиваясь:
– Как воспринял граф Толстой высылку Черткова?
– Гораздо нервознее, ваше величество, чем мы ожидали. Он даже написал на имя министра юстиции письмо, в котором просит заключить его в острог и освободить оттуда всех его последователей, так как он является корнем всего движения…
– Ну нет, венца мученика он у нас не получит. Пускай носит свою шапочку вольнодумца. Она, говорят, ему идет.
Стоявший возле стола генерал Рихтер счел необходимым вмешаться в разговор.
– Такое решение вопроса мне представляется в высшей степени разумным. Единственное, о чем я сожалею, так это Елизавета Ивановна… Она уже в преклонных годах, и я думаю, что, памятуя о ее муже, генерале Черткове, честно служившем трем русским императорам…
Стоя у окна, государь вдруг вспомнил об этом прошении. Столыпин был раздражен вмешательством Рихтера. Это могло бы привести к крайне неожиданным и нежелательным последствиям.
– Нас должна прежде всего волновать судьба страны, а не самочувствие престарелой, хоть и достойной дамы… И хотя мое уважение к графине Чертковой огромно, то зло, которое приносит ее сын, пропагандируя учение Толстого, настолько велико и опасно, что меры, которые мы до сих пор применяли к Ясной Поляне, мне представляются совершенно недостаточными…
По плацу прошел эскадрон конногвардейцев, и государь сам как-то подтянулся, помолодел, глядя на них. Вернувшись на свое место за столом, он сказал:
– Так примите меры, которые покажутся вам достаточными. В России не могут одновременно править два императора. Я думаю, вы не станете спорить со мной по этому вопросу.
– Нет, ваше величество.
Рихтер ничего не сказал, ограничившись легким полупоклоном, что, разумеется, не могло пройти незамеченным. Чтобы как-то не обидеть его, государь сказал:
– Старой графине вы можете передать, что мы повелеваем приостановить постановление о высылке из Тульской губернии ее сына только на то время, пока сама Елизавета Ивановна будет находиться там…
Рихтер, который за минуту перед этим думал, что дело это гиблое, вдруг оживился и поклонился:
– Благодарю, ваше величество.
Столыпин, окрыленный распоряжением императора принять меры, какие найдет нужным, вдруг замер у самого выхода, потому что последнее решение государя об изменении статуса высылки Черткова в корне меняло все. О эта женственная мягкость государя, куда она заведет страну…
– Ваше величество, – сказал он вдруг весело, потому что мысль, которая посетила его, показалась ему чрезвычайно забавной. – Единственное, что меня во всем этом беспокоит, так это чрезмерная популярность Толстого, которой мы сами способствуем. Подумать только, с утра все говорят об одном – Толстой и революция. К обеду возникает другая тема – Толстой и крестьяне. Когда звонят к вечерне, появляется новая тема – Толстой и церковь. Да неужели так оскудела русская жизнь, что все отечество должно жить одними новостями из-под Тулы? А если это так, то не наша ли задача встряхнуть столицу, раздвинуть мир интересов наших соотечественников? Почему бы, скажем, теперь, осенью, не устроить нам настоящую царскую охоту, как это бывало в доброе старое время?!
– Если вы имеете в виду охоту на бурых лисиц…
– При чем тут бурые лисицы, ваше величество! Теперь самое время идти на волков!
Государь вдруг заулыбался – он вспомнил, как во время прохождения военной службы в Преображенском полку, которым командовал его дядя Сергей Александрович, они, молодые офицеры, обожали этот вид игры и спорта, который назывался «охота на волков».
– Так почему же вы мучаете меня делами, когда у вас в голове такая славная идея!!
Тем временем старый волк пробирался в одиночку на север по зарослям и мелколесью. Сначала он шел обходными путями, но стал быстро уставать и вдруг подумал: что, если не хватит сил, что, если погибнет в пути? И он пошел напрямик. Дни стояли холодные, сверху падала листва, и нюхом он чуял, что это не к добру. Он был старым волком и знал, что каждый раз вместе с холодами, вместе с опадающей желтой листвой приходит время охоты на волков. Он тешил себя надеждой обмануть судьбу, прийти туда раньше, чем начнется главная охота года, найти хорошую стаю и вместе с нею прорваться сквозь цепь загонщиков, сквозь выстрелы, сквозь красные флажки, но, увы, все это были пустые фантазии, потому что на все это не оставалось уже ни времени, ни сил.
По широким и неуютным, оголенным поздней осенью полям шел одинокий старик с палкой. На девятом десятке идти трудно и душно, и мерещатся ему табуны прекрасных коней, несущихся по горизонту. Все эти армады однокопытных друзей человеческих выводит из неведомого и в неведомое уводит родной и неугомонный Делир. И думает Лев Николаевич про себя: «Ни от чего я так трудно не отвыкал, как от верховой езды. От куренья было трудно, но я себя заставил. От плотских желаний было трудно, но возраст помог, и я почти целиком оградил себя от этого соблазна, а если когда что и налетит, то это уже не бог весть что. От мясной пищи я с трудом, годами отвыкал, но все-таки победил себя, а вот быстро несущаяся лошадь мне видится даже во сне, и не могу я от верховой езды отвыкнуть, хоть плачь!»
Впереди, за пригорком, показалась деревушка, и Лев Николаевич остановился. Отдохнул в тени под одиноким деревом, разложил по карманам медяки, поправил бороду, усы и, придав себе более молодцеватый вид, вошел в деревню. Жители, должно быть, заметили его издали и уже стояли у своих ворот, чтобы поклониться барину. Лев Николаевич принимал их поклоны с достоинством и думал: «Хочется умереть, как умирают обычно старые крестьяне, – тихо, незаметно, словно вода в песок уходит».
У третьего с края домика он спросил кланявшуюся ему женщину:
– Послушай, милая, где Курносенковы живут?
– Здесь, ваше сиятельство. Мы Курносенковы.
– Это тебе моя дочь помогает?
– Точно так, ваше сиятельство.
Лев Николаевич достал из кармана заранее приготовленные деньги.
– Она занята, не смогла прийти и просила меня передать эти деньги.
Женщина держала двумя пальцами рубли, как будто не решив окончательно, брать их или не брать.
– Что муж-то, хворает?
– Хворает.
– Там три рубля. Смотри не спеши их тратить. Сначала хорошо обдумай свои недостачи, посоветуйся с добрыми людьми, перебери про себя все то, без чего ты пока можешь обойтись, пока не дойдешь до той нужды, обойти которую никак невозможно.
– Низко кланяемся, ваше сиятельство.
Лев Николаевич, удовлетворенный, с чувством исполненного долга пошел дальше, но уже у следующей избушки старушка чуть ли не в ноги ему кинулась, и он, несколько удивленный, остановился.
– Ты чья?
– Курносенкова, барин. Курносенкова я.
– Как Курносенкова? Я только что подал Курносенковой!
– Нет, та не Курносенкова, та Клячкина.
Лев Николаевич тут же вернулся обратно. Первая баба так и продолжала стоять у своих ворот с барскими рублями.
– Что же ты мне неправду-то сказала?!
– Я не обманывала вас, ваше сиятельство. Вы спросили: «Что муж, хворает?» Я сказала: «Точно, хворает». И можете войти в дом, посмотреть. Хворый он у меня.
– Но, однако, ты не Курносенкова!
– Это правда. Тут я утаила, но, простите меня, ваше сиятельство, у меня тоже большая недостача в доме.
– Раз у тебя муж хворый, то вот что… Я прощаю тебе тот грех, что ты сокрыла правду, но деньги-то все же верни.
Женщина вернула три рубля. Лев Николаевич подал их настоящей Курносенковой. Та кинулась ему снова в ноги, но Лев Николаевич быстро увернулся от ее признательности. Пошел дальше, но у следующего дома стояла точно такая же старушка и точно так же ему кланялась. Он остановился, посмотрел на нее долго и испытующе.